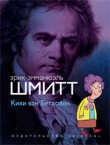Текст книги "Аппассионата. Бетховен"
Автор книги: Альфред Аменда
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 28 страниц)
– К сожалению, вы не ходите в церковь, господин ван Бетховен, и тем самым лишаете себя великолепного зрелища. Недавно в соборе Святого Стефана состоялось венчание Джульетты Гвичарди с графом Галленбергом, но это ещё не всё...
– Ну говори же...
– Во время торжественной церемонии исполняли музыку графа, что было воспринято как небесная кара.
– Меня это не интересует.
– А я думал, ты придёшь в ярость и из ревности перережешь ему горло. С каким бы удовольствием я посмотрел на его муки. Да, и ещё: по моему настоянию Лобковиц усилил состав оркестра, который будет исполнять твою симфонию. Только он просит узнать, когда ему доставят партитуру.
– Выходит, Лобковиц полагает, что «Героическая симфония» предназначена именно ему? По-моему, его сиятельство заблуждается.
Чуть позже он вышел на улицу, сразу окунувшись в словно ожидавшую его темноту. Бог с ней, Джульеттой, но почему так долго нет писем от Жозефины?
Никак у него не получалось закончить «Фиделио». Наконец Бетховен разорвал в клочья наброски и почувствовал, что освободился от чего-то непонятного, упорно завлекавшего его на ложный путь.
Между тем накануне вечером он взялся за работу в превосходном настроении. Из Шотландии, точнее из Эдинбурга, пришло послание от издателя, выразившего интерес к его композициям. Он предлагал ему положить на музыку шотландские народные песни.
Ничто не изнуряло его так, как бесполезный труд. Ну где, где его ошибка, что мешает ему продвинуться дальше?
Но было бессмысленно и дальше ломать над этим голову, ведь в искусстве нельзя ничего достигнуть с помощью математических методов. Он ещё раз усталым взором пробежал строки либретто.
Любовь, брак, верность, жена, готовая пожертвовать собой ради мужа...
До глубины души трогательная история, но для него не более чем упражнения по теории композиции.
Цмескаль! Вот кто ему сейчас нужен!
Ноты Третьей симфонии, именуемой «Героическая», ему недавно принесли от копииста. Посыльный просто сиял от радости...
Он же был очень мрачен, но преодолел себя и внимательно просмотрел два увесистых манускрипта. Цмескаль должен отнести их Лобковицу – непонятно, впрочем, откуда у этого транжиры с княжеским титулом такой жадный интерес к его творениям. Его никак нельзя объяснить страстной любовью к музыке. Князь прекрасно знал, кого именно прославляла и воспевала симфония, но это его нисколько не смущало. Если за деньги можно купить любовь прекрасных женщин, и породистых, неизменно побеждавших на скачках лошадей, и дорогие картины, то почему бы не купить выдержанную в совершенно новом духе музыку, пусть даже она посвящена тому, кто обрёк на гибель это полубезумное общество. А может быть, он просто не хотел уступать другим бездумно тратящим огромные деньги богачам – графу Разумовскому, например, или банкиру Вюрцу? Правда, ходили слухи, что Лобковица вскоре объявят недееспособным, и, возможно, именно поэтому он как бы стремился успеть первым связать своё имя с новой симфонией, тем более что другой манускрипт вскоре наверняка отправится в Париж.
Титульный лист оставался чистым. Так кому же посвятить её?
Ослепительно белая бумага неудержимо манила, и он даже выдавил на лице улыбку. Он вдруг почувствовал себя маленьким мальчиком, пожелавшим доказать своё умение рисовать или писать. Правда, в данном случае у него был гораздо более торжественный повод. Он на мгновение задумался, а потом вывел на листе: «Посвящается Бонапарту».
Буквы получились очень чёткими, и как-то захотелось добавить ещё что-нибудь. Знаменосцу свободы?
Нет, слишком витиевато, а тут требуется скромность. Речь идёт о слишком грандиозном деле. Какой, впрочем, наилучший девиз искусства?
Брату рода человеческого? Нет, слишком расплывчато и сентиментально.
Нужно подождать, пока в голову придёт нужная мысль.
Чтобы внести хоть какую-то ясность, он поставил на листе свою печать: «Людвиг ван Бетховен» и вспомнил, что по-итальянски его имя звучит «Луиджи». Так звали брата полководца, одержавшего столько побед в Верхней Италии.
Бонапарт и Бетховен. Вот два краеугольных камня. Остальное имело второстепенное значение, хотя...
Оба внушительных манускрипта лежали на рояле, он сам сидел неподвижно, зажав в пальцах гусиное перо. Почему-то вспомнились юность, детство, в котором было так мало радостей и так много горьких переживаний...
Каинова печать на его смуглом лице, неуклюжая фигура, крупные оспины... Поэтому сверстники, конечно, избегали его. А тут ещё отец-пьяница, лишённый родительских прав. Но даже будь Иоганн ван Бетховен совершеннейшим трезвенником, всё равно его сыну уготовано место среди «плебейского сброда». Пришлось проделать очень долгий путь, прежде чем он умом и сердцем осознал, что у этих людей тоже есть знамя, здесь, в тёмной комнате – Бетховен положил руку на партитуру, – оно, как на ветру, на штормовом ветру, развевается от его дыхания.
Составленное в Хейлигенштадте завещание лежало в секретере. Вывод врача был подобен граду шрапнели, но теперь он рассматривал завещание только как своего рода предупреждение в надежде, что такие минуты слабости больше не повторятся. Жозефина! Их жестоко разлучили, но здесь тоже далеко не всё так просто, как дважды два. Но вернёмся к Бонапарту. Бернадот подчёркивал, что триколор – это цвета свободы, равенства, братства. Но почему, почему его, Бетховена, друзья воспринимают его страстную приверженность французскому знамени как причуду, как признак сильного переутомления.
«Маленький капрал». Так солдаты любовно называли Бонапарта, несмотря на его генеральский мундир и звание Первого консула. Ведь он по-прежнему оставался для них просто капралом, по-товарищески спавшим с ними у лагерных костров и точно так же, как они, кутавшимся в шинель под холодными звёздами или густыми хлопьями снега. Главное, что он был скромен и по-человечески относился к солдатам.
Так, может быть, отразить в посвящении именно эти его качества?
Риз вбежал в комнату и, отдышавшись, крикнул прямо с порога:
– Срочная... депеша... из Парижа, маэстро!.. Бонапарт стал императором.
– Кто?.. – Бетховен удивлённо наморщил изъеденный оспинами лоб.
– Он именуется теперь Наполеоном Первым. Франция больше не республика. Он сам себя провозгласил императором.
– Не нужно так глупо шутить, Фердинанд. – Смуглое лицо Бетховена даже посерело. – Тем более что вы выбрали крайне неудачный момент. Только что мне принесли копии симфонии. Вы можете сравнить их с оригиналом.
– Значит, это и есть «Героическая симфония», маэстро. – Риз робкими шагами приблизился к роялю.
– Только вот титульный лист вам придётся заменить, друг мой, – прозвучал басовитый барственный голос Риза. – Его величество император Франции Наполеон Первый вряд ли одобрит такое простецкое обращение к нему. Он уже никому не позволит называть себя Бонапартом. – Уголки тонких губ Цмескаля опустились, обозначив снисходительную усмешку. – А вообще почему у тебя дела должны идти лучше, чем у меня, Людвиг? Мне эта история стоила роскошных пряжек на башмаках. У меня их ловко срезали в толпе возле афиши.
Он тяжело опустился на стул, кряхтя вытянул ноги и несколько минут с нескрываемым сожалением разглядывал башмаки.
– Что молчишь, Людвиг? Между тем меня, несмотря на понесённый ущерб, по-прежнему одолевает жажда знаний. Я говорю это вполне серьёзно. Я – человек терпимый, особенно если речь идёт о политических взглядах. И потом, один любит блондинок, другой – брюнеток, и нечего постороннему вмешиваться в чужие дела, а уж тем более лезть с непрошеными советами. Но я никак не могу понять смысл происшедшего во Франции. Сперва они отправили на гильотину короля, его родню и дворян...
– Полагаешь, незаслуженно?..
– Хорошо, хорошо, не будем спорить на эту тему, но теперь у них вновь появляется король, пардон, император, который, как сказано в афише, по поводу коронации присвоил высшие дворянские титулы многим своим сановникам. И как тут быть с так называемыми правами человека?
– Он попрал их ногами.
– Но зачем вся эта церемония? Коронация и так далее. Ведь он вроде бы считался настоящим революционером?..
– Он всё время оставался просто капралом, – угрюмо буркнул Бетховен. – Мелким, достойным презрения человечишкой с душой капрала.
Дрожащей от ярости рукой он схватил партитуру.
– Людвиг!
– Маэстро!
Цмескаль и Риз почти одновременно вскочили, готовые броситься к нему.
– Вы полагаете, что из-за этого жалкого капрала я способен уничтожить хоть одну ноту из своей симфонии? – Бетховен дико расхохотался и затрясся всем телом. – Я только вырву запятнанный недостойным именем титульный лист.
Он разорвал его на мелкие клочки и с наслаждением принялся топтать их ногами.
– Вот тебе моё верноподданническое посвящение к коронации, изменник!
Потом он буквально вытолкал Цмескаля и Риза из комнаты, заставил себя успокоиться, сел за рояль, взял зажатое между клавишами и крышкой либретто «Фиделио» и принялся небрежно листать его.
Через некоторое время он начал вникать в смысл прочитываемых слов.
– О Боже! Какая тьма здесь! Какая жуткая тишина!
Кто это сказал? Флорестан, ну да, конечно, вокруг него царила именно такая атмосфера.
Следующая страница перелистнулась как-то сама собой, и он услышал ликующий возглас негодяя Пизарро: «Добился я триумфа!» Ну да, клятвопреступник-капрал также добился триумфа, объявив о своей коронации.
Снова Флорестан? Нет, это министр, едва ли не с ужасом разглядывающий освобождённого им из тюрьмы и спасённого от смерти Флорестана.
Он тот, кого уже считали мёртвым?
Тот рыцарь, что за правду
Был готов сражаться?
А что он чуть раньше сказал узникам? Он обратился к ним с прекрасными, искренними словами:
Не долго вам терпеть, пора уж
Встать с коленей,
Любая тирания мне чужда,
Так пусть же брат отыщет братьев
И с радостью поможет им.
Его мозг вновь словно пронзил раскалённый кинжал. Он вздрогнул, сгорбился и выставил перед собой руки, будто прикрываясь щитом.
Нет, ты слишком рано празднуешь триумф, Пизарро! Есть ещё люди, готовые «сражаться за правду».
Он чуть привстал и еле слышно повторил несколько раз:
Так пусть же брат отыщет братьев
И с радостью поможет им.

Часть 3
«...ВЕЧНО ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА...»

В Вене по-прежнему жила Жозефина – женщина, которую он когда-то назвал «вечно любимой».
Была ли она по-прежнему такой? Пока он ещё не мог твёрдо ответить на этот вопрос. Она жила вместе с Терезой в большом доме неподалёку от Красной башни. Кроме того, сёстры стали попечительницами расположенного под ними кабинета восковых фигур.
Графиня Тереза фон Брунсвик и графиня Жозефина фон Дейм попеременно сидели за кассой заведения, уже утратившего прелесть новизны. Кабинет восковых фигур был составной частью галереи Мюллера, владелец которой за ночь вдруг превратился в камергера его величества императора Австрии графа Дейма. Это уже само по себе представлялось многим каким-то жутким фарсом.
Его сиятельство граф Дейм! Он предложил обременённой долгами графине Брунсвик целых сорок тысяч дукатов за Жозефину, в то время как он, Бетховен, ничего не мог дать, кроме нотных листов.
Но Дейм, этот авантюрист и обманщик, уже скончался. Разумеется, титул его был подлинным, как, впрочем, и звание камергера, но с дукатами дело обстояло гораздо хуже. Жозефина напрасно пожертвовала своей любовью. Покойный супруг помимо четырёх детей оставил ей в наследство изрядное количество долгов.
Сейчас они молча смотрели друг на друга. Нет, нет, ничто не умерло и не покрылось могильной твердью. Вид его вызывал сострадание, он уже хотел было сделать шаг вперёд и заключить любимую женщину в объятия. Однако он подавил в себе это желание, коротко поклонился и вежливо спросил:
– Желаете брать уроки игры на фортепьяно, госпожа графиня?
Она не только не ответила ему в таком же тоне, нет, она мгновенно превратилась в прежнюю Жозефину, весьма обеспокоенную его состоянием:
– Как ты себя чувствуешь, Людвиг?
Она тут же поняла бестактность своего вопроса и поспешила сменить тему:
– Расскажи, пожалуйста, над чем ты сейчас работаешь?
– Я пишу оперу.
– А на какой сюжет?
– Вообще-то у нас не принято рассказывать содержание оперы или пьесы.
– Разумеется, и всё же... попытайся, Людвиг. Ну, пожалуйста.
– Опера называется «Фиделио», ибо её главная героиня – верная жена.
– Вот как? – Она нервно мяла в руках кружевной платок. – Верная жена? Продолжай, Людвиг.
– Её мужа Флорестана жестокий губернатор Пизарро бросил в тюрьму, и Элеонора, переодевшись в мужское платье и назвавшись Фиделио, устраивается садовником в тюремный сад. Действие происходит в Испании и в прежние времена, хотя произвол творится повсюду и в наши дни.
– Ну дальше, дальше...
– Естественно, она спасает любимого мужа, бросившись с пистолетом в руке между ним и губернатором. Министр освобождает Флорестана из тюрьмы, чтобы он вместе с вечно любимой Элеонорой вновь смог вернуться к прежней жизни.
Тут он понял, что его слова могут быть восприняты как намёк, и поспешил добавить, скривив в гримасе лицо:
– Естественно, Леноре, это всё несколько театрально – любовь, верность – и довольно неправдоподобно. На сцене образы, порождённые поэтической фантазией.
Тем самым он лишь ухудшил ситуацию и оказался слишком неуклюжим, чтобы выпутаться из сплетённых им самим сетей.
Достаточно ли красноречивым был обращённый к ней взгляд? Ведь он глазами просил помочь ему.
– Извини, Людвиг. – Она робко и чересчур поспешно улыбнулась. – Я даже не предложила тебе стул. Садись, пожалуйста.
– Может быть, лучше начнём занятия?
– Как тебе угодно. – Она медленно подошла к роялю. – Но тебе придётся со мной изрядно помучиться. За эти годы я многое забыла. Что я обычно играла? В основном детские песни. «Спи, милый принц, спи» Моцарта, к примеру.
Похоже, она предприняла попытку к сближению, но он решил пока не поддаваться.
– Это не Моцарт, но настолько прекрасно, что вполне могло быть написано им. Позволь, я послушаю тебя. Мне нужно получить представление о твоих возможностях.
Как только она начала играть, в дверь кто-то заскрёбся, видимо пытаясь дотянуться до ручки. Затем в комнату вбежал маленький мальчик.
– Нам ещё не пора спать, мамочка?
– Нет, Фрицель. Это господин ван Бетховен, о котором я, если помнишь, вам рассказывала. Протяни ему ручки и сделай книксен.
– Ну, месье. – Бетховен взял малыша на руки. – Мы тоже обладаем музыкальными способностями?
Мальчик доверчиво посмотрел на него, глазки засверкали, он зашевелил крохотными губами.
– Я бы хотел стать таким же... таким же, – он пока ещё с трудом выговаривал это слово, – ...таким же виртуозом, как ты.
– Дурачок! – засмеялась Жозефина. – Ничего у тебя не получится.
– Как ты сказала? Дурачок? – Бетховен задумчиво наморщил лоб. – Меня в своё время тоже так называли, говорили, что у меня нет музыкальных способностей, но ведь решаем в конечном итоге мы сами, не правда ли?
Мальчик обнял Бетховена за шею.
– А теперь иди, Фрицель, у твоей мамы сейчас урок.
Проводив сына Жозефины, Бетховен повернулся к ней и с улыбкой сказал:
– Ну что ж, давай отважимся и попробуем нечто более трудное, чем детские песни.
– Давай. Я просто постеснялась сказать правду. Вообще-то я довольно много упражнялась.
Он стоял рядом с ней, внимательно наблюдая за манерой игры. Она знала, что творится в его душе и почему он держится так подчёркнуто деловито, как бы отгораживаясь от неё незримой броней. А может быть, он так тщательно следит за её пальцами потому, что уже совсем не доверяет слуху?
– Людвиг, я всегда любила только тебя! Если бы ты знал, как я тосковала по тебе! Так, может быть, если ты тоже по-прежнему любишь меня, а это наверняка так, давай я выведу... выведу тебя из тьмы страданий и одиночества.
– Стоп! Тут нужно по-другому.
Он чуть наклонился и быстро пробежал пальцами правой руки по клавишам.
– Поняла? Давай сделаем проще.
«Действительно, почему бы нам не сделать проще», – подумала она и прижалась губами к его ладони.
– Жозефина!..
Она резко повернулась.
– Что тебе нужно, Каролина?
– Я хочу лишь поздороваться с господином ван Бетховеном. – Сестра медленно вошла в комнату. – И больше мне ничего не нужно, Жозефина. Мне и впрямь ничего больше не нужно...
Через какое-то время душа вновь опустела, и он всё чаще стал посматривать на правую ладонь, словно пытаясь отыскать на ней след поцелуя.
Он считал, что как настоящий мужчина обязан позаботиться о любимой женщине и потому должен работать и зарабатывать деньги. Роль нахлебника его совершенно не устраивала. А ведь именно им оказался граф Дейм, ловко вкравшийся в доверие к семье Брунсвик.
Однако на премьеру «Героической симфонии» в Венский театр он отправился в превосходном настроении, не подозревая, что 7 апреля 1805 года станет едва ли не самым чёрным днём в его жизни.
И виной этому был вовсе не певец Майер, свояк Моцарта, хотя свою долю упрёков он, безусловно, заслужил, и не прочие соперники, которых зависть заставляла слетаться на его премьеры, как мух на мёд.
Уже при первых звуках рогов, создававших, по его мнению, тот самый пугающе-великолепный диссонанс, на галёрке послышался смех и шум. Кто-то на весь зал произнёс: «Плачу крейцер, лишь бы они прекратили играть». А потом пошли рецензии – и какие! Одна публикация в лейпцигской «Всеобщей музыкальной газете» чего стоила!
После нескольких «утешительных» слов в ней прямо говорилось: «Поразительно буйная фантазия! Однако блистательный талант создателя симфонии кружит ему голову, заставляя отказываться от соблюдения каких бы то ни было канонов! Слишком много чересчур резких, причудливых звуков! Очень многого не хватает в симфонии для удовлетворения общественного вкуса».
В отправленном в Прагу сообщении симфонию даже охарактеризовали как «губительную для общественных нравов».
Оставалось только пожать плечами... и продолжать трудиться дальше.
Но кто скажет, зачем он вдруг вытащил на свет Божий свои старые наброски к «Аппассионате»? Ведь после встречи с Жозефиной он сел к роялю, чтобы написать «Песнь к надежде», но «Аппассионата» вновь всё накрыла чёрным покрывалом. Соната его страсти...
Аллегро ассаи[70]70
Очень быстро (ит.).
[Закрыть]! Потом анданте кон мото[71]71
В умеренно подвижном темпе (ит.).
[Закрыть]! Вера и утешение, в которых он так нуждался. Ну хорошо, пусть будет так. Возврат к пунктирным ходам басов. Главное – не быть полностью уверенным в себе и никогда не сомневаться до конца...
Стоп! Вот тут неверно! Два диссонирующих аккорда, словно сыгранные на расстроенной арфе. А что потом? Победное звучание фанфар!
Победа, всегда приходящая с бурей, скрывающей украшенные траурным крепом флаги!..
Позднее он отправился к Стефану фон Бройнингу. Он по-прежнему злился на него из-за давней истории с четырьмя квартирами и хотел разобраться прямо на месте.
Дрожа от возбуждения, он поднимался по лестнице, и на каждой ступеньке злость всё более одолевала его. Наверху он с силой постучал тростью в дверь и, не дожидаясь ответа, вошёл в комнату. Удар захлопнувшейся за ним двери походил на выстрел.
Бройнинг как раз собирался ужинать. Он небрежно повёл рукой, указывая на место рядом с собой:
– Добрый вечер. Садись. Хочешь есть? Вот тарелка.
– Стефан, я пришёл, чтобы извиниться перед тобой. К этим четырём квартирам ты не имеешь никакого отношения, и только моя бесхозяйственность...
– Оставь, Людвиг...
– Пожалуйста, не перебивай. – Бетховен с вызывающим видом сдвинул цилиндр на затылок и взмахнул тростью. – Я был не прав и вёл себя как последний невежа. Согласен?
– Не будем больше об этом. – Бройнинг стремительно встал и напрягся, как бы готовясь к прыжку. – Только успокойся и не бей фарфор на столе. Лучше отдай мне трость, сними шляпу, как принято в приличных домах, и садись.
– Если бы ты знал, Стефан, как я потом раскаивался за своё поведение.
– Представляю. А почему ты раньше не пришёл?
– Если уж быть до конца честным... – Бетховен на миг задумался, – музыка заставила меня забыть обо всём.
– Ну и ладно. – Стефан наполнил бокалы. – За твоё здоровье, Людвиг, и, пожалуйста, восприми мой тост как комплимент. Второго такого безумца я ещё не встречал.
– А ты мой лучший друг, Стефан.
Чуть позже Бетховен спросил:
– Скажи, Стефан, каковы свежие политические новости? Ожидается ли буря?
– Даже если бы я и знал что-либо, всё равно тебе не сказал бы. – Стефан повертел сильными пальцами тонкую ножку бокала, – но я действительно ничего не знаю. Но если тебя интересует мнение не Придворного Военного совета, а моё – да, буря неминуемо разразится.
– И кто же войдёт в новую коалицию?
– Австрия, Россия и Англия...
– Это сильный союз?
– Нет, я настроен довольно скептически по отношению к нему. У Англии практически нет сухопутных войск, она – морская держава. Здесь мы спокойно можем положиться на Горацио Нельсона. Участие Пруссии пока под вопросом, и неопределённое положение сохранится довольно долго. Мелкие германские государства, как обычно, не могут договориться между собой...
– Выходит, изменнику легко удастся одержать победу. – Бетховен с наслаждением затянулся и выпустил из чубука густой клуб дыма. – Ему остаётся только льстить человеческому тщеславию и, словно пироги, печь маршалов, князей и королей, чтобы затем держать их у себя на плечах, как охотничьих соколов! Но давай поговорим о чём-нибудь другом. Как хорошо иметь такого друга, как ты, Стефан!
Урожай винограда давно собрали, косы с шелестом подсекали спелые колосья.
Он сидел и вспоминал, как начинался этот год. Весна в Гетцендорфе. Жозефина также выехала за город, поскольку сельский воздух был необходим для поправки её пошатнувшегося здоровья.
Как приятно было гулять вдвоём, когда он, устав от работы над «Фиделио», бежал к Жозефине, чтобы потом, почерпнув силы из загадочного источника, с удвоенной энергией браться за оперу.
Это произошло уже на исходе лета. Около полудня она прислала ему короткую записку:
«Каролина приехала с визитом. Через два-три часа она уедет обратно в Вену, и тогда я зайду за тобой».
Она знала, что встречи с её сестрой были ему неприятны. Каролина не отличалась умом, зато сверх всякой меры гордилась своим происхождением и, в отличие от Терезы или Франца, пыталась встревать в отношения Жозефины и музыканта из бюргерского сословия.
Тереза и Франц предупредили его, и с тех пор он воспринимал присутствие Каролины как угрозу. Яркий солнечный свет словно омрачила туча на небе. Перед ним предстало угловатое жёсткое лицо женщины, упорно отказывавшейся называть себя его свояченицей.
Ослепительная зелень листвы, пёстрый и загадочный мир, но самым таинственным в нём было существо, медленно идущее сейчас рядом с ним.
Жозефина улыбнулась, и в её глазах он прочёл вопрос: «Куда ты меня ведёшь?»
Однако она уже знала ответ, ибо они шли к их любимому месту, обнаруженному Бетховеном совсем недавно. Оно представляло собой склон виноградника, где можно было укрыться в лощине, огороженной куском стены. Ветви орешника закрывали даже кусок неба, по которому медленно ползло маленькое облачко.
Он долго смотрел куда-то вдаль, морщил лоб и пощёлкивал пальцами.
– О чём ты думаешь, Людвиг?
– Что такое мои квартеты, фортепьянные сонаты и даже «Героическая симфония» по сравнению с твоим платьем. – Он хмуро покачал головой. – Надеюсь, ты правильно поняла меня, любимая?
Официальный срок траура давно истёк, но лишь сегодня она позволила себе надеть пёстрое платье, цвета которого встревожили его, ибо они устраняли незримое препятствие, создаваемое чёрным крепом.
– Его мне привезла сестра. Она, кстати, помолвлена и вскоре выйдет замуж.
– Естественно, за человека её круга?
– За графа Телеки. Но даже графу не дано сказать такие красивые слова. Правда...
– Что?..
Она лежала рядом с ним на траве, глядя большими тёмными глазами на листья орешника.
– Ты по-настоящему любишь, Людвиг?
– Лепи!..
– Тогда забери меня в свой мир.
Он повёл рукой, как бы отметая всё наносное и враждебное, способное повредить их чувствам.
– Я жду, Людвиг.
– Хорошо, и теперь ты можешь быть уверена, что трубы в моём «Фиделио» возвестят не только о прибытии министра, но и о нашей свадьбе.
Она мгновенно вскочила, по лицу её мелькнула тень недовольства.
– Пойдём, Людвиг. Мне холодно.
– Холодно? – Он удивлённо ощупал землю, прямо-таки дышащую жаром.
Впоследствии в его памяти часто вставала эта сцена, обраставшая постепенно всё новыми и новыми подробностями. Она действительно чего-то ждала, но Бетховен разочаровал её. А он никак не мог привести её в свою двухкомнатную квартиру, где царил полнейший беспорядок, как бы символизировавший собой беспорядочную жизнь неимущего музыканта. Жозефина была настоящим сокровищем, и предлагать ей жить с ним было чистейшей воды варварством. Всё равно как ставить роскошное блюдо севрского фарфора в ветхий кухонный шкаф с рассохшимися дверцами...
На следующий день Жозефина уехала в Вену, а потом вернулась в Мартонвашар.
Он сам тоже вскоре перебрался в свою венскую квартиру, где всё, как и прежде, шло своим чередом: упорный труд, разного рода неприятности, редкие визиты ещё не уехавших на войну друзей.
Вот только Жозефина не появлялась.
Бетховен выглянул из окна четвёртого этажа на улицу, где царила странная в это время тишина.
Он презрительно выпятил губы. Двух-трёх тревожных новостей оказалось достаточно для того, чтобы загнать в дома трусливых обывателей. На дворе 13 ноября 1805 года от Рождества Христова, и всего лишь три недели тому назад жители Вены вели себя совершенно по-другому. Криком орла, устремившегося на замершую в страхе добычу, над городом гремело одно слово: Трафальгар! Венцы радостно набивали брюхо пивом и сардельками и, подобно Горациям с известной картины, торжественно клялись, что уж теперь точно настал конец корсиканцу и его армии. Уж теперь точно можно будет спать спокойно.
Трафальгар! Нельсон не просто нанёс сокрушительное поражение французскому и испанскому флотам, он навсегда покончил с морской мощью этих стран, но, правда, ценой собственной жизни. На этот раз слухи о его гибели полностью подтвердились.
Удивительно, но, ещё не зная о его смерти, он приступил к написанию траурного марша, составлявшего одну из частей «Героической симфонии». Он ещё раз убедился: искусство обладает даром предвидения. Теперь он решил не посвящать своё произведение какому-либо конкретному лицу, а просто вывел на титульном листе: «Посвящается чествованию памяти великого человека».
Имел ли он в виду Нельсона?
Он почему-то вспомнил слова художника Александра Макко: «В жизни бывают периоды, пережить которые хочется как можно быстрее».
Он раскрыл блокнот с записями голосов птиц, которые уже давно не слышал. Сейчас над головами обычно раздавалось только карканье ворон.
Но зато он их всех запечатлел в своей записной книжке: чёрного дрозда, зяблика, так ловко чистившего клюв, иволгу и издающего заливистые трели соловья.
Птицы были единственными музыкантами, которых он мог слышать. Кроме того, их репертуар отличался поразительной простотой, и, по его мнению, композиторам следовало усвоить именно такую манеру. Но тогда рецензенты из лейпцигской «Музыкальной газеты» и прочие невежды вновь заговорят о «достойном презрения нарушении канонов».
Он замер, держа записную книжку в вытянутой руке. Что там за шум на улице? До Масленицы ещё далеко, а в ноябре обычно не устраивают маскарады.
Послышался громкий цокот копыт. Или это ему только послышалось? Если нет, значит, в город вошла французская кавалерия. Он заткнул уши и замотал головой. Неужели они осмелились исказить слова «Прощальной песни»? Затем загрохотали сапоги и залязгали о мостовую колёса. Он подбежал к окну и увидел маленького тамбурмажора, лихо выбивающего палочками дробь на огромном, висевшем у него на боку барабане. Дурачок, ты, как я когда-то, встал не под те знамёна. Разве ты не видишь, что эти раздуваемые ветром, обожжённые солнцем стяги подобны болотным огням, заманивающим путника в трясину. Солдаты схожи с марионетками, которых дёргает за нитки невидимый кукловод, а генералы в их роскошных, увешанных орденами мундирах, с леопардовыми шкурами на плечах напоминают обезьян, которых в детстве водили по боннским улицам савояры. Надо же, как легко люди покупаются на такую мишуру!
В едущих впереди генералах он сразу узнал знакомых ему по картинам Мюрата и Ланна[72]72
Мюрат Иоахим (1767—1815) – сподвижник Наполеона и его зять, маршал Франции, с 1808 г. король неаполитанский.
Ланн Жан (1769—1809) – маршал Франции, герцог Монтебелло.
[Закрыть]. Жалким ничтожествам, восседавшим на троне Австрийской империи, сильно повезло. Четыре дня тому назад императрица простилась со своими любимыми венцами, готовящимися стойко выдержать грядущие испытания. Вслед за ней, подобно хвосту кометы, последовали высокородные дворяне и банкиры. В столице остался только, как всегда, обманутый простой народ...
Французский арьергард вошёл в город.
Надо же, мамлюки! Без их экзотического великолепия триумф Бонапарта был неполным.
Стремительно выбежавшая из караульни городская стража тут же взяла свои мушкеты «на караул», а высыпавшие из домов обыватели принялись приветственно махать руками. Вдруг он понял, что они так радостно выкрикивают: «Vive l’impereur!»[73]73
«Да здравствует император!» (фр.).
[Закрыть]
Он криво усмехнулся и представил себе, какое у него сейчас уродливое лицо. И ради них отдал жизнь такой герой, как Горацио Нельсон. Эти ублюдки, эти жирные бюргеры, ещё четыре дня назад проливавшие крокодиловы слёзы по поводу отъезда их величеств, пожелавших укрыть в безопасном месте свои драгоценности, теперь вопят во всё горло: «Vive l’impereur!» Да здравствует император! Ничего не скажешь, у таких Божьей милостью коронованных особ должны быть именно такие подданные, с жалкими бюргерскими душонками. Пиво, сардельки, весёлые зрелища и забота о собственном благополучии – больше их ничто не интересовало. Воистину правдиво выражение: «В Вене никто никуда не годится – ни император, ни чистильщик обуви».
Взгляд Бетховена остановился на медленно разворачивающейся открытой карете. В этой неторопливости чувствовалось подчёркнутое презрение к выплеснувшейся на улицы толпе. В карете сидел он и, не обращая ни малейшего внимания на окружающих, внимательно изучал разложенную на коленях карту.
Что ж, очень рад встрече с тобой, маленький капрал. Но для меня ты не император, а предатель.
Но предал ты не плебс, пропади он пропадом, какого бы ни был происхождения, нет, вы предали идею, месье.
Бетховена бил нервный озноб. Неужели никто не выразит изменнику протест?!
Что лично он может сделать как музыкант? Но не зря же он сжимает в потной ладони блокнот с записями птичьих голосов. Он сел за рояль. Тититита! Тититита! Но к сожалению, ваше величество, до минор звучит по-другому. Том-том-том-том! Том-том-том-таа! Так гремят фанфары, так судьба стучит в ворота, и после Четвёртой симфонии я напишу Пятую так, что вы, ваше величество, почувствуете: судьба постучалась и в ваши ворота, пусть пока только тихо-тихо. Этого не удастся избежать никому.