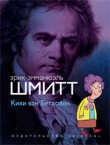Текст книги "Аппассионата. Бетховен"
Автор книги: Альфред Аменда
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 28 страниц)
Они зашли в квартиру, зажгли свечи, и Бетховен сразу же устало опустился на старую, расшатанную кровать, металлическая сетка которой немедленно отозвалась противным скрипом. Он как-то весь осунулся, поник, из-под сдвинутого на затылок цилиндра выбивалась растрёпанная седая прядь, в правой руке нервно подрагивала трость.
– Может быть, стакан вина, маэстро? – Шиндлер хотел как можно дольше не касаться больной темы.
– Нет! – Посеревшее лицо Бетховена выражало отвращение.
Что же такое сказать ему? Нет, главное сейчас отвлечь его, непременно отвлечь.
– Знаете, маэстро, оказанный вам приём в театре...
– Лучше записывайте, Шиндлер.
Через несколько минут Бетховен прочёл в разговорной тетради:
«Вам устроили пятикратную овацию, хотя даже императорскую семью согласно этикету приветствуют только троекратным рукоплесканием».
– Но ведь никто из императорской семьи так и не появился на концерте, – после короткого раздумья ответил Бетховен.
Перо в чуть дрожащих пальцах Шиндлера снова забегало по бумаге:
«Весь народ прямо-таки подавлен мощью и величием ваших произведений».
– Выражайтесь менее высокопарно, Шиндлер, – горько усмехнулся Бетховен. – О каком величии вы говорите? Публика просто заметила, что я глухой, и из сострадания принялась мне аплодировать. А величие или, если хотите, великодушие народа должно находить выражение в доходе от концерта.
– Подсчёт ещё не закончили, – глядя в сторону, пробурчал Шиндлер.
– Только не нужно меня обманывать. Сколько у вас сейчас в кармане? – с несвойственной ему мягкостью спросил Бетховен.
Шиндлер в отчаянии закусил губу. Если бы можно было подождать хотя бы до утра...
Он подошёл к столу и написал в тетради:
«Поймите, маэстро, вы сами добровольно отказываетесь от доходов, оставаясь здесь, в Вене, в этих стенах. На концертах в Париже или Лондоне вы бы заработали от двенадцати до пятнадцати тысяч гульденов».
Бетховен встал, заглянул через плечо Шиндлера в тетрадь и деланно равнодушным голосом спросил:
– А сколько получилось здесь?
Шиндлер выдержал короткую, но многозначительную паузу, затем вытащил из нагрудного кармана лист бумаги и медленно прочитал:
– «Общий доход составил 2200 гульденов. На аренду театра и оплату оркестрантов идёт 1780. Остаётся 420 гульденов. Но ещё придётся выплатить гардеробщицам и обслуге около ста гульденов. Summa sumarum[128]128
В итоге (лат.).
[Закрыть] – примерно триста гульденов».
Пятьлетон работал над «Missa solemnis», шесть с половиной лет над Девятой симфонией и получил в результате триста гульденов. Эта сумма даже не покроет затраты на копиистов...
– Маэстро! Маэстро! Что с вами?
Бетховен тяжело осел и, как колода, с деревянным стуком рухнул на пол.
Летом он вновь отправился в Баден.
Настроение у него к этому времени постепенно изменилось к лучшему, ибо существует предел, за которым неудачи и беды предстают уже в комическом свете.
Его Вторую симфонию обозвали «кошмаром»; его «Героическую симфонию» сочли «губительной для нравов», а для его Девятой симфонии также нашли соответствующую характеристику. Её назвали «порочной».
Почему? Ну почему?
Оставалась надежда, что известие об этом ещё не дошло до Мейнца, ведь там «Шотт и сыновья» предложили за неё шестьсот гульденов, то есть лишь в четыре раза больше суммы, которую в Пенцинге портной Хёрр содрал с него за весьма скромное временное жильё. «Missa solemnis» стоила уже больше, в шесть раз больше пансиона прохвоста Хёрра. Но на самом деле это были только пустые рассуждения, поскольку брат Иоганн, будучи его кредитором, тут же заберёт эти деньги себе...
Тут некий человек, прервав горестные размышления Бетховена, с поклоном передал ему письмо. Композитор вскрыл конверт и прочитал:
«Вена, 29 сентября
1824 года
Глубокоуважаемый Бетховен! Моя жена вручила мне сегодня ваше такое радостное, такое приятное для меня письмо. Не стоит просить прощения за слишком долгое отсутствие, вы поступите несправедливо по отношению к самому себе, если не захотите набраться сил и подготовиться к предстоящей зиме.
Податель сего письма господин Штумф, истинный немец и патриот, хотя вот уже тридцать четыре года живёт в Лондоне. Он крайне редко выезжает на родину для отдыха. В Баден же он приехал ради вас, уважаемый господин Бетховен, дабы посмотреть на человека, которым гордится вся Германия».
Бетховен иронически скривил губы. Человек, которым гордится вся Германия. Если таковой и имеется, то его имя уж точно не Бах и Моцарт, которого закопали, как паршивую собаку. А какая участь постигла вдову Баха? Она несколько лет влачила жалкое существование в приюте для бедных и умерла в полной нищете. Он стал читать дальше:
«Окажите ему любезный приём, как и подобает святому, поклониться которому прибыл издалека преисполненный благоговения паломник.
С Черни я говорил. Он с удовольствием возьмётся за переработку симфоний для игры в две и четыре руки и просит лишь переслать ему партитуру. То же самое готов проделать с мессой и господин Лахнер.
Сохрани вас Господь. Надеюсь вас вскоре увидеть.
Ваш А. Штрейхер».
Бетховен в раздумье положил письмо на стол и внимательно посмотрел на нетерпеливо ожидавшего ответа Штумфа, который был едва ли намного старше его. Перед ним стоял какой-то сказочный персонаж, истинный почитатель его творчества, а таковых насчитывалось всего несколько человек. Он прибыл из Лондона, куда Бетховен порой очень хотел перебраться. В последнее время даже предполагал этот город своим возможным последним пристанищем. Он протянул к Штумфу руки.
– Садитесь, прошу вас. Что же предложить столь редкому и дорогому гостю? Правильно, вина из маленькой бутылки. Ваше здоровье, господин Штумф!
Тот, согласно совету Штрейхера, по складам произнёс:
– За здоровье композитора, которому нет равных среди ныне живущих.
– Как, простите? – Бетховен судорожно глотнул и от волнения чересчур загнул левое ухо. Он прочитал тост по губам, но ему хотелось ещё раз услышать такие радостные сердцу слова.
– За здоровье композитора, которому нет равных среди ныне живущих.
– Благодарю вас от всей души, дорогой Штумф. – Глаза Бетховена засверкали от радости, он походил сейчас на ребёнка, которому вдруг подарили долгожданную игрушку. – Вот, возьмите карандаш и записывайте вопросы. И пожалуйста, не смотрите так критически на убогую обстановку. Мне пришлось скитаться, как Агасферу[129]129
Агасфер – герой средневековых сказаний, еврей-скиталец, был осуждён богами на вечную жизнь и скитания.
[Закрыть], таская с собой мебель, ибо государство отнюдь не заинтересовано в моём обустройстве.
«А я глубоко тронут тем, что сижу среди мебели, бывшей свидетельницей создания величайших произведений музыкального искусства», – написал Штумф.
– Вы как будто прибыли с другой планеты, мой дорогой гость, – горько усмехнулся Бетховен. – «Величайшие произведения и композитор, которому нет равных среди живущих». Да кому они нужны, мои произведения? Кто желает сейчас играть «Фиделио»? А знаете, что я написал довольно много сонат для фортепьяно? Вы сами музыкант, господин Штумф?
«Я фабрикант арф родом из Гулы в Тюрингском лесу. Могу я задать вам несколько вопросов?»
– Ну, разумеется.
«Кого вы считаете наиболее талантливым композитором в мире?»
Штумф услышал из уст Бетховена совершенно неожиданный ответ:
– Генделя. Перед ним я в любое время готов преклонить колени.
– А Моцарт?
– Ну, это совершеннейший гений, но мне он менее близок, чем Гендель.
«А каково ваше мнение об Иоганне Себастьяне Бахе?»
– Я всегда уважал его, но Бах мёртв, – устало вздохнул Бетховен. – Кто сейчас помнит о нём?
«Он ещё живёт в памяти людей. Скажите, у вас есть сочинения вашего любимого Генделя?»
– Откуда они у меня, бедняка? – Бетховен прошёлся по комнате с таким видом, будто очнулся от глубокого обморока и теперь мучительно припоминает, где он находится. – Только партитура его «Праздника в честь Александра». А почему вы спрашиваете?
Взгляд Штумфа затуманился. В душе он поклялся непременно подарить Бетховену полное собрание сочинений Генделя.
– Да, Гендель! – улыбнулся Бетховен. – А кто вознёс его на пьедестал? Англичане! Вот это настоящий народ!
Штумф пожал плечами, как бы говоря, что он отнюдь не презирает нацию, на земле которой живёт вот уже много лет, но просто среди англичан, как и везде, есть такие же венцы.
Бетховен никак не желал с этим смириться.
– Да я бы лучше отправился в Англию. Именно туда, хотя годы мои уже не те. Посмотрите, вон там, в соседней комнате, стоит роскошный рояль. Его подарил мне лондонский фабрикант Джон Брэдвуд. Я только что сыграл на нём рондо соль мажор и дал ему довольно заковыристое название: «Каприччио, порождённое яростью из-за потерянного гроша». Знаете, Штумф, вся наша жизнь есть не что иное, как ярость из-за потерянного гроша. Ищешь его отчаянно в ящиках письменного стола, заползаешь даже под кровати, роешься в шкафах, нигде ничего не находишь, приходишь в ярость, а потом вдруг начинаешь смеяться.
«Господин ван Бетховен, может быть, вы окажете мне любезность и сыграете это ваше произведение?»
Бетховен не успел ничего ответить. В комнату неожиданно вошёл человек в чересчур коротких для его пальцев хлопчатобумажных перчатках и одежде, никак не подходившей по размерам для его худого костлявого тела. На его лице застыла, как приклеенная, надменная улыбка.
– Позвольте вам представить, господин Штумф, моего брата Иоганна, землевладельца из Гнейксендорфа. Он единственный в нашей семье, кто хоть чего-то достиг. Иоганн, это господин Штумф, фабрикант арф из Лондона.
Иоганн не принял шутливого тона старшего брата. На его лице появилось ещё более отчуждённое выражение. Бетховен встревожился:
– Господин Штумф, позвольте предложить вам зайти в другой раз.
Он проводил гостя до двери и заговорщицки шепнул ему:
– Эта беседа, в отличие от разговора с вами, отнюдь не доставит мне удовольствия. Ваш повторный визит будет мне очень приятен. А может быть, я приеду к вам в Лондон, если же нет... – Тут лицо его оплыло, кожа посерела, щека нервно задёргалась. – ...тогда передайте от меня привет Лондону и всем... всем англичанам.
В комнату, насвистывая что-то весёлое, вошёл Карл Хольц.
В последнее время он стал настоящим другом дома, вызвав тем самым откровенную ревность Шиндлера.
Бетховен нервно расхаживал взад-вперёд по комнате.
– Могу я вам довериться, Хольц? Вы умеете держать язык за зубами?
– Как судебный исполнитель я просто обязан это делать. Не забудьте, что я принёс присягу.
– Тогда я хочу показать вам место, где хранятся акции, которые после моей смерти должны достаться моему племяннику Карлу.
– Этому бездельнику, который так и не смог сдать экзамены за семестр, – зло пробурчал Хольц. – Теперь он, видите ли, хочет стать купцом и, разумеется, учиться здесь, в Вене, в Торговом училище. Да этому растяпе даже крейцера нельзя давать, он его тут же на какую-нибудь глупость потратит.
Он с оскорблённым видом отвернулся к стене, а Бетховен молча сел и продолжил работу над двойной четырёхголосной фугой.
Вскоре, однако, ему начала мешать невыносимая вонь. Через какое-то время он обнаружил её источник.
В соседней комнате на столе стоял его ужин. Но лежавшие в тарелке яйца в горчичном соусе оказались тухлыми. Эта старая мерзавка «госпожа Шнапс» уже потеряла всякое чутьё.
Он вспомнил всех своих служанок и даже заскрежетал зубами от злости. Они обкрадывали его, как вороны, и он однажды был даже вынужден поставить у кладовки кровать, чтобы, как Цербер, сторожить свои припасы.
Не обращая никакого внимания на Хольца, Бетховен выбросил яйца на улицу и, подбежав к кухне, истерично заорал:
– Вы уволены. Я не желаю видеть вас больше в своей квартире! Врач предписал мне диету, а вы хотите отравить меня!
«Госпожа Шнапс», бестолково вертя головой, появилась на пороге кухни. Голос Бетховена гремел так, что было слышно даже на другой стороне улицы. Хольц обеспокоенно выглянул к окно. На шум могла прийти полиция. Нет, пока всё спокойно. Яростный крик Бетховена вновь хлестнул его по ушам.
– Да таких, как вы, старая ведьма, двести лет назад сожгли бы на костре. Когда я вернусь, чтоб вас здесь не было.
Он схватил шляпу и неожиданно спокойно сказал Хольцу:
– Мы сейчас идём в трактир.
Бетховену уже давно нравилась квартира в «Доме Чёрных испанцев», и потому он очень обрадовался, когда Хольц однажды вбежал к нему и, даже не сняв шляпы, написал в разговорной тетради:
«Я заходил по служебным делам в «Дом Чёрных испанцев». Вы можете получить там квартиру, но нужно сделать обширный ремонт».
– Ничего страшного, – небрежно отмахнулся. – Можете оказать мне любезность, дорогой Хольц. Раньше я, словно пушечное ядро, носился по улицам, но теперь у вас наверняка более быстрые ноги, чем у меня. Сходите, пожалуйста, туда и снимите квартиру.
Хольц сел, приложил руки к груди, облегчённо вздохнул и написал:
«У меня с души свалилась тяжесть, не меньшая, чем знаменитый Сизифов камень. Я арендовал на ваше имя квартиру, поскольку к ней уже протянул свои хищные лапы другой человек. Речь шла буквально о минутах, но судебные исполнители действуют всегда более ловко и решительно».
– Тогда мы немедленно пойдём смотреть квартиру. – Бетховен нетерпеливо затеребил Хольца за рукав. – Когда я смогу перебраться туда?
– Где-то приблизительно в Михайлов день. То есть между двадцать девятым сентября и вторым октября.
– Превосходно. Должен признать, что судебный исполнитель получается из вас гораздо лучший, чем скрипач.
– Понимаю. – Хольц встал и шутливо поклонился. – Неблагодарность – удел в этом мире.
Необычное название дома объяснялось тем, что построили его испанские монахи-бенедиктинцы. Это было довольно большое здание, к которому сбоку примыкала церковь. Её, однако, использовали как склад, так как все монахи давно умерли. Фасадом дом выходил на юг; Бетховен, поднявшись в расположенную на втором этаже квартиру, сразу же подошёл к окну.
Солнце светило прямо в глаза, он прищурился и окинул довольным взглядом окрашенную осенним багрянцем листву деревьев. С правой стороны от дома находилась уютная площадь, в конце которой стояло такое же большое строение, называвшееся «Красным домом». Из его окна кто-то радостно замахал им.
Бетховен приложил к близоруким глазам двойной монокль.
– Это Пуговица. Ведь Бройнинги живут в «Красном доме», – поспешил заметить Хольц.
Мальчик уже бежал через площадь и спустя несколько минут стоял рядом с ними у окна.
– Что ты здесь делаешь, дядюшка Людвиг?
Бетховен неодобрительно посмотрел на него.
– А почему ты без разрешения вошёл в мою квартиру?
– В твою квартиру?
– Да, с твоего позволения она временно принадлежит мне.
– Дядюшка Людвиг! – Герхард схватил его за руку.
– Что ты хочешь?
– Смотри, папа уже узнал, что ты здесь.
Член Придворного Военного совета фон Бройнинг стоял у окна и приветствовал их. Позолоченные лацканы его мундира весело сверкали на солнце.
– А почему он надел парадный мундир, Пуговица? Какой сегодня праздник?
– Откуда я знаю! – Герхард пренебрежительно скривил губы и тут же зашевелил ими, старательно произнося каждый слог:– То ли родился, то ли умер кто-то из покойных императоров Австрии. Но вообще-то он надел его в честь тебя, дядюшка Людвиг. Пойдём, пойдём скорее к нам.
Член Придворного Военного совета уже ждал их у дверей своей квартиры. Завидев Бетховена, он тихо сказал:
– Ну, наконец-то ты, старый глупец, нашёл дорогу к нам.
– А может, я действительно глупец? – поспешно согласился Бетховен. – Ладно, давай забудем о прошлых ошибках.
Когда-то между ними возникло отчуждение и даже вражда, поскольку Бройнинг отказался вместе с Бетховеном стать опекуном Карла.
Заслышав за спиной быстрые шаги, Бройнинг обернулся и поспешил сообщить жене:
– Блудный сын вернулся. Надеюсь, ты подашь ему руку.
– Обе руки! – поощряюще улыбнулась госпожа Констанция.
Девочка рядом с ней робко присела с поклоном. Герхард с неожиданной злостью дёрнул её за плечо.
– Ах ты грубиян! – возмутилась госпожа Констанция.
– Что с ним? – удивился Бетховен.
– Он не хочет никому тебя уступать, даже своей сестре Марии, – ответил за жену Бройнинг. – И запомни, Людвиг, наш дом – это твой дом.
Потребовалось довольно много беспокойных дней для того, чтобы соответствующим образом обставить квартиру.
Она состояла из трёх комнат и кухни. Сразу же при входе в гостиную бросался в глаза висевший на почётном месте портрет маслом покойного капельмейстера придворной капеллы Людвига ван Бетховена. Теперь с ним можно было, как когда-то в детстве, разговаривать.
– Дорогой, я вижу, вы недовольны вашим внуком, иначе бы не смотрели на него так хмуро. Что же вызывает у вас недовольство? «Героическая симфония»? А может, скрипичный концерт? Или то обстоятельство, что я, в отличие от вас, так и остался никем? Жаль, жаль, а ведь мог, наверное, стать капельмейстером придворной капеллы. Вот, я вижу, вы уже улыбаетесь.
В спальне висела картина Малера, и повсюду были разбросаны кипы нот, а в третьей комнате стояли два фортепьяно, одно из которых подарил Бетховену Брэдвуд, другое же одолжил граф. Между окнами был установлен стеллаж для книг.
Бетховен, чувствуя себя теперь настоящим владельцем квартиры, с гордостью показывал Стефану фон Бройнингу своё жилище.
– Что тебе сразу же бросилось в глаза, Стефан?
– Не знаю почему, – член Придворного Военного совета неуверенно огляделся, – но что-то здесь напоминает вашу квартиру в Бонне.
– У тебя по-прежнему орлиный взор, Стефан, – лукаво прищурился Бетховен, выставив указательный палец. – Помню, как легко ты высматривал в соседних садах спелые яблоки и груши, которые мы потом... Да, Бонн. Я никак не могу забыть его. Мне очень не хватает прекрасной дедушкиной мебели. А ещё мне не хватает денег. Ох уж эти мои жалкие гонорары. Но, слава Богу, Стефан, твоя жена согласилась вести моё хозяйство. Очень мило с её стороны.
– Тут можешь быть спокоен.
– А мы будем общаться, как когда-то в Бонне. Знаешь, твой зять Франц Вегелер и твоя сестра Элеонора прислали мне письма. Порой мне кажется...
Бройнинг замер в ожидании.
– ...что жизнь подходит к концу, потому что... понимаешь, Стефан, возвращаются юность и детство.
Тон, каким были сказаны эти слова, несколько встревожил Бройнинга, и он поспешил заявить внушительным басом:
– Не говори так! Вспомни лучше о своей Десятой симфонии.
– Да я никогда не забываю о ней. Знаешь, что в Бонне мальчишки кричали мне вслед?
– Ты об этих дураках?
– Не в этом дело, Стефан. Они кричали «Шпаниоль»! Когда я здесь как-то вышел из дома, то увидел свой портрет, нарисованный на тротуаре. Они знали, что я не услышу, если мне кричать вслед, и потому нарисовали мелом и цветными грифелями карикатуру на меня. Разумеется, на детей обижаться не стоит.
– Герхард обижается.
– Да, Ариэль из-за меня дерётся с ними. Но знаешь... Как я был в Бонне никем, так таким же и здесь остался.
– Над чем ты сейчас работаешь, Людвиг?
– Над квартетами для князя Голицына[130]130
Голицын Александр Николаевич (1773—1844) – князь, государственный деятель, близкий к Александру I, с 1803 г. обер-прокурор Синода, в 1817—1824 гг. министр народного просвещения и духовных дел.
[Закрыть] и над большой фугой, но до конца ещё далеко. Впрочем, Голицын принадлежит к числу высокородных мерзавцев, и я далеко не сразу разгадал его. Он устроил в Петербурге премьеру «Missa solemnis», потом написал мне, и я, глупец, ещё выучил его слова наизусть и радовался им, как школьник хорошей отметке: «Можно сказать, ваш гений предвосхитил столетия, и, может быть, ещё недостаточно просвещённых слушателей, способных по достоинству оценить всю красоту вашей музыки. Но потомки воздадут вам должное, а их признание дорого стоит».
– Да, и поэтому?..
– Да нет, просто этот высокородный прохвост своим пророчеством хотел добиться совершенно иных целей. Сладкие речи взамен гонорара. Я убеждён, что он мне даже геллера не заплатит.
– Зачем же ты пишешь для него?
– Да будь он императором, я всё равно бы писал не для него. Впрочем, тебе известно мнение Шиндлера о моих квартетах? Он ведь считается одним из самых преданных моих почитателей.
– Шиндлера?
– Я цитирую: «Если ранее композитор сочинял, подчиняясь исключительно велению своего духа, то теперь в его творчестве всё большее место занимает рефлексия. Кроме того, он стал слишком мелочно-расчётлив. Меркантильные соображения...» И так далее. – Бетховен раздражённо дёрнул головой так, будто туда попала пуля. – Это он намекает на мои доходы, полученные за исполнение квартетов в аристократическом кафе на Пратере, где посетители, правда, наслаждаются не столько музыкой, сколько горячим шоколадом, кофе, тортами и взбитыми сливками. Нет, венцы правы.
– В чём?
– Когда они с издёвкой заявляют: «Бетховен теперь даёт концерты в ореховой скорлупке. Там ему с ними и место».
Неужели уже прошла весна? Если верить календарю, на дворе и впрямь конец июля 1826 года. Бетховен наконец решился хоть несколько недель провести в своём любимом Бадене.
Госпожа Констанция приказала накрыть стол к ужину. В этот день опять в их семье отдали предпочтение рыбным блюдам.
Из-за яркого солнечного света широкая площадь между «Красным домом» и «Домом Чёрных испанцев» казалась вымощенной золотыми камнями. Бетховен отошёл от окна и, вращая в пальцах бокал, полушутя-полусерьёзно произнёс:
– Этот осёл критик из лейпцигской «Всеобщей музыкальной газеты» остался верен себе. Первую, третью и пятую части квартета он охарактеризовал как «мрачные и мистические», а во второй и четвёртой уловил «склонность к издевательству над зрителем и к шумовым эффектам».
– Но насколько мне известно, рецензент сказал о тебе несколько добрых слов. – Бройнинг хлопнул друга по плечу и сел, опустив на колени переплетённые пальцы.
– Совершенно верно. Вот они: «Может быть, наступят времена, когда то, что на первый взгляд кажется нам мутным и расплывчатым, обретёт чёткие и правильные формы». Знаешь, Стефан, это напоминает мне утешительные проповеди о царстве небесном, откуда ещё никто ни разу даже весточку не прислал.
Госпожа предостерегающе вскинула руку. Детям не следовало слушать таких речей, но сейчас они были слишком увлечены игрой.
– Вообще-то твоя фуга... – Бройнинг помедлил, подбирая подходящие слова. – Я твой друг и прямо скажу тебе...
– Я уже всё понял, Стефан. Слишком многого я требовал от инструментов...
Он замолк, так как в комнату с искажённым от ужаса лицом вбежала горничная.
– Что-то случилось?
– Истинно так, господин советник.
Стефан фон Бройнинг встал и осторожно вышел из комнаты. Вернувшись, он подошёл к Констанции и глазами показал на Людвига, затеявшего тем временем весёлую игру с Герхардом и Марией.
– Что там такое, Стефан?
– Попозже. Хотя почему попозже? Я должен немедленно сообщить ему о случившемся.
Он схватил перо и стал писать записку. Констанция внимательно следила за выводимыми крупным каллиграфическим почерком строками.
«Людвиг, Хольц ждёт в коридоре. Немедленно отправляйся к свояченице. Карл там. Только не пугайся. Он пытался покончить с собой. Пистолет...»
После прочтения записки лицо Бетховена посерело, на скулах выступили багровые пятна.
– Но он будет жить?
– Хольц ничего не сказал.
– Благодарю вас, госпожа Констанция, – сухим деловым голосом сказал Бетховен. – И вас, дети, я также благодарю. С вами мне было очень весело и хорошо.
После его ухода Констанция отправила детей на кухню доедать обед. Бройнинг тут же дал волю чувствам. Он нервно бегал по комнате, рассказывая на ходу:
– Хольцу известны следующие обстоятельства. Несколько дней тому назад Карл купил двуствольный пистолет и уехал с ним на развалины Рауэнштайна. Это недалеко от Бадена. Первый раз он промахнулся, во второй раз пули попали в висок, но задели только черепную кость. Какой-то прохожий случайно нашёл Карла и отвёз его к матери. Причиной он назвал своё «заточение» в доме Людвига. Сейчас он буйствует и орёт такое...
– Но почему?
– Он требует не пускать к нему «старого глупца»! «Старого глупца»! Если б ты знала, сколько неприятностей доставил Людвигу сей неблагодарный субъект. Всего лишь несколько дней тому назад Людвиг говорил мне, что Карл уже две ночи не ночевал дома. Наверняка шатался по трактирам с бродягами или проводил время с женщинами лёгкого поведения. И всё на деньги Людвига.
– Сам знаешь, как я отношусь к нашему общему другу, он поистине великий композитор, – госпожа Констанция осторожно поправила скатерть, – но воспитатель из него никакой. Вспомни, какие ужасные сцены разыгрывались в «Доме Чёрных испанцев». Людвиг потом, правда, всегда раскаивался в своих безумных вспышках гнева, но всё равно...
– Это верно. Впрочем, я сейчас думаю о другом. Карл отнюдь не левша и тем не менее почему-то стрелял именно в левый висок. Может, он просто разыгрывал комедию?
Когда Людвиг пришёл к свояченице, Карла там уже не было. Согласно австрийским законам, попытка самоубийства уже сама по себе считалась преступлением. Проживавший по соседству доктор должен был заявить в полицию. В итоге Карла поместили в тюремное отделение Общей больницы.
Пулю из его головы уже удалили. Бетховен то и дело нетерпеливо заглядывал сквозь прутья решётки в тюремный коридор, закопчённые стены которого производили на посетителей особенно мрачное впечатление. Завидев одного из больничных служителей, Бетховен подозвал его к окошку и выпалил на одном дыхании:
– Есть опасность для жизни?
Он не мог в полутьме читать по губам, и поэтому Хольц был вынужден вмешаться в разговор. Бетховен лишь заметил пренебрежительную ухмылку на лице служителя, и сердце раненой птицей затрепыхалось в груди. Хольц быстро записывал в разговорную тетрадь:
«Маэстро, вам нужно прийти завтра в полдень. Никакой опасности для жизни Карла нет. Ведь он...»
Хольц заколебался, не решаясь писать дальше. Но даже персонал тюремного отделения мгновенно проникся антипатией к Карлу.
«...знал, куда целиться».
– Что вы имеете в виду?
«Больничный служитель со смехом заявил, что у Карла в тюрьме будет достаточно времени подумать о последствиях своей выходки».
Бетховен опустил голову, уставил взгляд в пол и через несколько минут тихо спросил:
– Могу я завтра поговорить с главным врачом?..
– Очень хорошо, что вы напомнили мне о нём. Его сегодня случайно не оказалось на месте. Может быть, мне навести справки в полиции? Я всё-таки как-никак официальное лицо. Но знайте, что делаю я это только ради вас, маэстро. Ради Карла я даже пальцем бы не пошевелил.
На следующий день ровно в полдень Бетховен присел на табуретку возле кровати Карла и стал ждать, когда он проснётся.
Он сидел в большой больничной палате с зарешеченными окнами, брезгливо морщился, вдыхая едкий, пропитанный потом и испарениями давно не мытых человеческих тел воздух, и ловил взгляды двадцати, а то и более заключённых, многие из которых походили на настоящих висельников. В свою очередь, кое-кто из них, шлёпая засаленными картами о грубо сколоченные столы, презрительно кривил рты, глядя на одетого в роскошный, предназначенный исключительно для торжественных случаев фрак посетителя. В последний раз он надевал его на премьеру «Missa solemnis» и Девятой симфонии.
Из лежавшего здесь юноши он также хотел сделать нечто вроде симфонии, способной озарить ярким светом его, Бетховена, нелёгкую жизнь. Увы, из него не вышло виртуоза игры на фортепьяно, и оправдались самые грустные прогнозы Джианнатазио относительно «способностей Карла к наукам». Карл отнюдь не был обделён способностями, но оказался слишком легкомысленным и не готовым к каждодневному упорному труду.
Он наклонился к кровати, пристально рассматривая бледное, измождённое лицо Карла. Его голова лежала на подушке в синей наволочке. Точно такого же цвета была и его одежда. Подумать только, его племянник, носящий ту же фамилию, сидит в тюрьме.
Карл, бесспорно, был похож на отца, но одновременно в его облике было для Бетховена что-то отталкивающее. Ему были неприятны чересчур гладко уложенные, напомаженные волосы, оттопыренная нижняя губа, как бы говорящая о презрении её обладателя к окружающему его миру, и щегольские, аккуратно подстриженные чёрные усики. Выпуклые, будто вытаращенные тёмные глаза обычно светились тревожным огнём и беспокойно бегали. Теперь же...
Тут Бетховен увидел, что Карл проснулся и, насупившись, смотрит на него.
Он взглянул на племянника без малейшего упрёка и положил на синее одеяло карандаш и разговорную тетрадь.
– Может быть, ты всё-таки объяснишь, почему ты это сделал?
В ответ Карл лишь упрямо покачал головой.
– Предстоящие экзамены? Или долги? Я спрашиваю вовсе не затем, чтобы мучить тебя. И уж тем более я не воспринимаю всерьёз твою угрозу сорвать с головы повязку, если «старый глупец» хоть на полшага приблизится к твоей кровати. И хочу лишь, чтобы ты поскорее выздоровел...
– А потом отправился в тюрьму.
– Нет, Карл, в тюрьму ты не попадёшь.
– Правда? – Незадачливый самоубийца рывком поднялся с кровати.
– Даю тебе слово. – Бетховен поощряюще повёл рукой. – И забудь о том, что ты мне должен. Помнится, я всё никак не мог получить гонорар, который ты, оказывается... Ну да ладно, забудем об этом.
– Отец, дорогой отец! – Карл схватил ладонь Бетховена и прижал её к губам. – Но тогда, видимо, мне нужно будет уехать из Вены.
– Разумный вывод, – с готовностью согласился Бетховен. – Хочешь съездить за границу? Может быть, в Лондон, поскольку там я...
– Лучше я стану кадетом, а потом офицером. Вот только расходы на экипировку...
– Хорошо, хорошо.
Вошёл надзиратель и позвенел ключами о миску, давая понять, что свидание окончено.
– Мой мальчик, мне пора идти.
– А как ты возместишь эти расходы?
– Давай поговорим об этом позднее. Впрочем, если хочешь... – Он наклонился и прошептал Карлу в ухо: – У меня есть восемь акций, которые так и так должны достаться тебе. Хочешь, я продам одну из них?
– Конечно хочу.
Один из заключённых долго смотрел вслед Бетховену, а потом рассыпался мелким натужным смешком:
– Смотри-ка, оказывается, твой старик очень спешил, а сперва ведь сидел у твоей кровати тихо, как мышь, боялся разбудить тебя.
Лицо Карла мгновенно сделалось холодно-отчуждённым, похожим на маску.
– Он просто мой дальний родственник. А вообще-то у него не все дома.
На площади перед «Домом Чёрных испанцев» весело играли дети.
Появление пожилого человека с чересчур выпуклой грудью, в старом сюртуке с развевающимися фалдами и потрёпанной шляпе с обвислыми полями, из-под которой выбивались косматые пряди седых волос, вызвало у мальчиков дружный взрыв хохота. Они окружили старика и, приплясывая, начали выкрикивать:
– Идёт глухой и безумный Бетховен! Его смуглое лицо изрыто оспинами! А его племянник застрелился!
Бетховен не понимал, что они кричат, но мальчишки мешали ему, и он, пригнувшись, прошмыгнул в дом и захлопнул за собой дверь.
Через несколько минут в квартиру вбежал Герхард. Из его разодранной щеки сочилась кровь.
– Что с тобой, Пуговица?