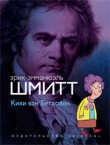Текст книги "Аппассионата. Бетховен"
Автор книги: Альфред Аменда
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 28 страниц)
– Ну какая... – Она мельком посмотрела в окно. – Вроде солнышко, нет, уже надвигается тёмное облако. Что ж, давай прощаться. Такую встречу нельзя пропускать. Ничего-ничего, я снова стала стойкой и мужественной женщиной. Давай вставай, Людвиг, а я пойду позабочусь о завтраке.
Намыливая щёки и водя по ним остро отточенной бритвой, он недовольно разглядывал в зеркале своё лицо. Разумеется, он встретится с господином фон Гёте в Теплице, но только через несколько дней. Ну ничего, будем надеяться, что ему повезёт: один из пассажиров в последнюю минуту откажется от поездки и освободится место в почтовой карете.
К сожалению, его отъезд походил на бегство от Жозефины, что, в сущности, означало чудовищную неблагодарность. Она, безусловно, была готова стать его женой и ради этого подвергнуться нападкам людей своего круга. Они бы отвергли её, обвинили бы в прелюбодеянии, в разрыве священных уз супружества...
А он? Он никак не мог разобраться в своих чувствах и сильно страдал от этого. Может быть, в Теплице, на расстоянии, он сумеет ясной головой осмыслить происходящее и тогда...
Вошедшая в комнату Жозефина минуту-другую тяжело дышала, восстанавливая дыхание.
– Я уже успела сбегать за свежими булочками. – Она поставила поднос на стол. – Знаешь, коридорный спросил: «Мадам ван Бетховен тоже уезжает?» – и получил решительный ответ: «Нет!» Я могла бы какое-то время пожить в этой комнате, а потом мы бы встретились в Карлсбаде.
– Где? Здесь?
– Неужели ты ничего не понимаешь, Людвиг?
Он поднёс к губам её руку:
– Ты даже не представляешь, как я благодарен тебе.
Он покрыл поцелуями её ладонь и, ничего не соображая, как лунатик, потянулся к показавшемуся ещё более прекрасным лицу.
– Нам сейчас не до ласк, Людвиг. – Она удручённо вздохнула. – Почтовая карета ждать не будет.
– Слушай, а может, попробуем вдвоём убежать в Англию или ещё куда-нибудь? – с загоревшейся надеждой сказал он.
– Что тебе делать в Англии? Ты так талантлив, у тебя столько замыслов, а ты хочешь всё бросить, покинуть Вену... Ешь скорее. Через десять минут нам нужно уходить.
Вскоре у подножки почтовой кареты он торопливо записал её карлсбадский адрес и, не оглядываясь, с силой захлопнул за собой дверцу.
– До свидания, Людвиг! До свидания! – В её глазах блеснули слёзы. – Смотри не потеряй мой карандаш, разбойник.
Почтальон задудел в рожок, подавая сигнал к отправлению. Через несколько минут Бетховен почувствовал на себе удивлённые взгляды пассажиров. Оказывается, он непрерывно махал рукой, хотя и почтовая станция, и Жозефина уже затерялись вдали.
Затерялся ли с ней весь его мир?
Чем дальше он отъезжал от Праги, тем тягостнее ощущал свою утрату. Он тосковал по её стройному, превосходно сложенному телу, в котором к тому же жила такая добрая и преданная ему душа. Любовь, одна лишь любовь способна дать счастье, значит, он был счастлив, зная, что эта женщина не забыла о своей любви к нему.
Были ли у неё в жизни помимо двух супругов ещё и другие мужчины?
Он, правда, тоже вёл отнюдь не монашеский образ жизни. Но шестеро детей... Тут многое не ясно. А может, просто слишком поздно?
Нет, он непременно должен написать ей. Ведь сразу же после приезда из Праги он получил от неё письмо, и ему стало очевидно, что она лишь притворялась мужественной, уверенной в себе. Она была в таком отчаянии, что он счёл своим долгом утешить её. Пусть, прибыв в Карлсбад, она сразу же обнаружит его письмо.
Их судьба напоминала ему густо сплетённую паутину, в которой они запутались, словно мухи. Теперь они судорожно дёргались, предпринимая безнадёжные попытки освободиться...
Так где же найти слова, способные разорвать эту губительную сеть, вывести их из тёмного леса...
«6 июля, утро
Мой ангел, ты для меня всё, ты моё второе «я»... Хочу набросать несколько слов карандашом (твоим)... Откуда эта глубокая скорбь? Да, господствует железный закон необходимости! Неужели наша любовь может выстоять лишь ценой огромных жертв, неужели ты не можешь до конца принадлежать мне, а я тебе?.. Оглянись вокруг, посмотри, как прекрасна природа, и успокой свою душу. Любовь забирает её целиком, а ты часто забываешь, что я должен жить и ради себя, и ради тебя, и, воссоединись мы, ты воспринимала бы многое не так болезненно... Поездка проходила в ужасных условиях, я прибыл на место лишь вчера в 4 утра, ибо постоянно не хватало лошадей...»
Он исписал уже второй лист своим корявым почерком, который сам порой не мог разобрать. ...А совет найти утешение в прекрасной природе был жалким...
«...На предпоследней станции меня стали отговаривать ехать ночью через лес, но это лишь раззадорило меня. Расплата была ужасной, на просёлочной дороге сломалось колесо. С Эстергази, который ехал другим, обычным путём, случилось то же самое... Но у него было 8 лошадей, а у меня 4. Слава Богу, всё хорошо закончилось, и, надеюсь, мы скоро увидимся...»
Забывшись, он едва не поставил после этого предложения вопросительный знак.
«...Даже сейчас я не могу поведать тебе своих мыслей и переживаний, хотя они прямо-таки рвутся из груди. Ах, если бы наши сердца бились рядом... Но бывают мгновения, когда язык не в силах выразить многое, так будь же всегда верна мне, моё единственное сокровище, а об остальном пусть позаботятся боги.
Твой верный Людвиг».
Четыре листа! Он окинул их недоверчивым взглядом. Стиль неудачен, наверняка много ошибок, хотя он в своё время старательно изучал орфографию; Но дело не в этом. Письмо вышло каким-то... чересчур пустым.
Вечером он вновь положил перед собой лист бумаги и принялся писать:
«Вечером в понедельник,
6 июля
Представляю, как ты страдаешь, самое дорогое для меня существо... Только теперь я понял, что письма нужно отправлять ранним утром. Понедельник и вторник – единственные дни, когда почта уходит отсюда в К... Ты страдаешь, но помни, где бы я ни находился, ты всегда рядом, всегда в моей душе, я говорю с тобой, ибо без тебя для меня жизни нет!!! Люди преследуют меня своими благодеяниями то здесь, то там, но я их не заслужил...»
А может, лучше написать так: «Преследуемый надоедливыми людскими благодеяниями?..»
«...Когда люди унижают себе подобных... это очень мучит меня... и когда я размышляю о себе в масштабах Вселенной, я, которого уже называют «величайшим»... но на самом деле я ничтожен... однако и в этом заложено божественное начало человека... я плачу при одной мысли о том, что ты лишь в субботу получишь первую весточку от меня. Я люблю тебя гораздо сильнее, чем ты меня. Не таись от меня...»
Этот страх давно одолевал его, долгие недели, месяцы и даже годы клубясь в его голове, словно туман.
«...Спокойной ночи... Я здесь на лечении, принимаю ванны и потому должен вовремя ложиться спать. О Боже! Что это за жизнь, ты так близко и так далеко от меня! Но наша любовь подобна зданию, возведённому небесными силами, – она столь же неколебима, как небесная твердь».
Всё это пустые слова – «величайший», Вселенная. Нужно сказать что-то ласковое, нежное...
«Доброе утро, 7 июля
Ещё лёжа в постели, я полон мыслей о тебе, моя вечно любимая женщина. И эти мысли то радостные, то снова грустные, ибо не знаю, услышит ли судьба нас, а без тебя я жить не могу и потому твёрдо решил блуждать в чужих краях до тех пор, пока снова не окажусь в твоих объятиях и почувствую себя в них уютно, как дома. И тогда душа моя, окрылённая тобой, сможет воспарить в царство духов... Увы, по-другому не получится, но я верю, ты сможешь справиться с собой, ибо ты знаешь, как я верен тебе, и ни одна другая женщина не сможет завладеть моим сердцем – никогда, никогда... О Боже, почему нужно разлучаться, когда мы так любим друг друга. Между прочим, в В. у меня по-прежнему много забот, но твоя любовь делает меня одновременно счастливейшим и несчастнейшим человеком. В мои годы я нуждаюсь в спокойном, уравновешенном образе жизни, а могу ли я вести такой при наших отношениях? Мой ангел, я только что узнал, что почту отсюда отправляют каждый день, а значит, ты сразу же получишь моё письмо. Сохраняй спокойствие и помни, что лишь бесстрастно спокойный взгляд на наше бытие поможет нам вместе достичь нашей цели и жить вместе. Люблю, тоскую по тебе, будь счастлива и не суди ложно о самом верном тебе сердце любящего тебя Л.
Вечно твой – вечно твой – вечно наш».
Его глаза превратились в узкие щёлочки. Пустые фразы, к которым он испытывал отвращение, как только они вошли в моду, и их стали употреблять к месту и не к месту, изливая на бумаге душу. Нет, он не станет отсылать эти десять записок. Тут нужны совсем другие слова, нужно говорить более по-мужски, предстать в её глазах истинным мужчиной.
Никогда ещё ему не приходилось сочинять столь сложной «композиции», и даже «великий дух» не мог ничем помочь.
– Изволили в такую рань выйти на прогулку, мадемуазель Зебальд? Для вас уже пропели петухи? Сейчас только начало одиннадцатого. Спешите на свидание? Смею надеяться, со мной?
– Господин ван Бетховен...
Он поклонился с чрезмерной учтивостью:
...которого при всём желании
Забыть вам уж никак нельзя.
– Господин ван Бетховен, – в словах девушки слышалось раздражение, – вам не следует присылать мне записки с такими стихами. Мама просто возмущена.
– Кто? Мама? – рассмеялся Бетховен. – Но согласен, записки могут дать повод для недовольства. Объясните всё... моей болезнью.
Бетховен завязал знакомство с молодой певицей из Берлина ещё в прошлом году и сразу начал разыгрывать из себя чересчур галантного поклонника и рыцаря – роль, которую он был вынужден взять на себя из-за слишком большой разницы в возрасте. Он не отрицал, что его влекло к ней. Она была молода и хороша собой. И почему бы ему не поклоняться её молодости и красоте.
– Лечение не помогло? – Амалия Зебальд робко и одновременно испытующе взглянула на него.
Он по привычке приложил ладонь к уху, разбирая слова по движению губ.
– К лечению претензий нет, но сложность в том, что господа врачи никак не выговорят греческое или латинское название моей болезни или, вернее, болезней. Таким образом, я неизлечим. Кого вы высматриваете? Я мешаю?
– Нет, – она смущённо опустила глаза, – и, откровенно говоря, я пришла сюда из любопытства. Высокопоставленные особы обычно стараются принимать ванны пораньше, чтобы избежать докучливых взглядов.
– Кого вы имеете в виду?
– Императора Франца с супругой и несчастную французскую императрицу Марию-Луизу.
– Ах, она тоже здесь?
– Прибыла позавчера.
– Ну да, её сиятельный супруг двинулся со своей армией походом на Россию. Она, несомненно, заболеет от тоски, ибо уже успела полюбить этого субъекта.
– Кого?
– Она почитает его как архангела Гавриила. Уж я-то знаю. А этот её крошка, король Рима, тоже здесь? Нет-нет, ребёнок ни в чём не виноват, но ему уже довелось пережить столько бед. Одна только музыка, написанная к обряду его крещения графом Галленбергом, супругом баронессы Джульетты Гвичарди, чего стоит.
– Появились господин Меттерних[104]104
Меттерних Клеменс (1773—1859) – князь, министр иностранных дел и фактический глава австрийского правительства в 1809—1821 гг., канцлер в 1821—1848 гг. Во время Венского конгресса 1814—1815 гг. подписал секретный договор с представителями Великобритании и Франции против России и Пруссии, один из организаторов Священного союза.
[Закрыть] и ещё много аристократов и дипломатов.
– Ах, вот как? Ну что ж, высокопоставленные особы здесь, в Теплице, как и всюду, так же будут купаться в политике, но сейчас они меня не интересуют. В сущности, это обычные люди и, даже если бы их вообще не было, человечество не много бы потеряло. Конечно, мои слова не относятся к эрцгерцогу Рудольфу, которого я надеялся назвать своим учеником. Вы не желаете пройти со мной?
– Куда?
– К Гёте.
– Он готов вас принять?
– Очевидно, у него есть желание познакомиться с «диким медведем и безумным человеком». Полагаю, ему обо мне так рассказывали. Я же представляю собой целый набор извращений. Когда мы вновь соберёмся на прогулку, Амалия?
– В три часа.
– Простите, но это не моё время, я предпочитаю прохаживаться сразу после еды.
– Ну хорошо, в два часа.
– Здесь и при любой погоде.
– Слушаюсь и повинуюсь, мой повелитель. – Амалия Зебальд сделала книксен, в глазах её вспыхнули весёлые огоньки. – Я с нетерпением жду рассказа о Гёте.
Человек, похожий на камердинера, смерил его внимательным взглядом, видимо решая, к какой категории людей отнести эту странную личность. К его превосходительству ходит столько народу.
– Вам назначено?
– Господин фон Гёте знает, что я приду к нему.
Поставщик, желающий предложить свой товар? Торговец произведениями искусства? Но скорее всего, просто безработный актёр. Если они не слишком талантливы, то обычно ведут себя подчёркнуто развязно.
– Ваше имя?
– Бетховен.
– Я доложу о вас.
Бетховен сел в плетёное кресло и выжидающе уставился на закрытую камердинером дверь. Он очень надеялся, что она сейчас откроется и господин фон Гёте...
Он постучал бамбуковой тростью по туго обтянутой брючиной ноге, смахнул несколько пылинок с коричневого сюртука, откинулся на спинку кресла и блаженно зажмурился на солнце. Откуда-то издалека ему вдруг послышалась увертюра к «Эгмонту» и вспомнилось письмо, датированное 12 апреля 1817 года: «Ваше превосходительство, Беттина Брентано твёрдо заверила меня в том, что вы готовы оказать мне дружеский приём. В противном случае мне остаётся только с чувством глубокого восхищения думать о ваших великолепных творениях. Надеюсь, вы уже слушали музыку к «Эгмонту»...» И подпись: «Вашего превосходительства искренний почитатель Людвиг ван Бетховен».
Это было действительно так, и он был даже вынужден два раза переписывать письма, поскольку Цмескаль постоянно находил в них орфографические ошибки, что потребовало немалых усилий, но, в конце концов, нельзя же человеку, которому почитатели уже присвоили титул «короля поэтов»...
– Его превосходительство ждёт вас.
Стоявший посреди комнаты Гёте поразительно напоминал статую одного из античных богов или бюст Гомера. Нет, у Гомера лицо было покрыто морщинами, отливающий же бронзой лик Гёте как-то удивительно сглаживался выражением мудрости и ощущением полнейшей гармонии внутреннего мира. Безупречно белый галстук – Бетховен невольно схватился за свой и убедился, что он небрежно повязан и сильно измят. Светло-голубой сюртук без малейшей пылинки и величественный жест красивой руки. Куда бы спрятать свои толстые короткие пальцы?
– Не желаете ли присесть, господин ван Бетховен? Вон там, на софу?
– Если позволите... Благодарю.
Титан?.. Да нет, он не слишком высокого роста, однако от обычного человека его отделяет непреодолимая пропасть.
У Бетховена перехватило дыхание. Он понял, что перед ним Аполлон, милостиво согласившийся прогуливаться среди людей и одновременно пребывающий на своём недосягаемом для простых смертных Олимпе.
Кто он по сравнению с ним?
Аполлон любезно присел рядом с Бетховеном на софу.
– Я не хочу долго занимать драгоценное время вашего превосходительства и намерен лишь выяснить, получили ли вы наконец ноты моей увертюры к «Эгмонту» от «Брайткопфа и Хертеля».
Олимпиец ответил, и речь его текла плавно, ни разу он не повысил и не понизил приятного, звучащего в миноре голоса. Бетховену вовсе не потребовалось напряжённо всматриваться в равномерно двигающиеся губы.
– Ноты, к сожалению, я пока не получил, но с нетерпением ожидаю возможности услышать музыку в исполнении нашей театральной капеллы в Веймаре. Убеждён, она доставит мне наслаждение.
Сказано не слишком много и не слишком мало. Каждое слово тщательно взвешено и пронизано душевной гармонией.
Вроде бы без всякого повода Бетховен вдруг поднёс ладонь к уху и прохрипел:
– Будьте любезны, говорите громче. Я плохо слышу, ваше превосходительство.
Гете не выказал ни малейшего смущения по поводу столь неожиданной выходки. Его тёмные глаза чуть расширились, в голосе прозвучало искреннее сочувствие.
– Кто-то мне уже говорил об этом, господин ван Бетховен. Но внешне вы такой собранный, такой сильный...
– Внешнее впечатление обманчиво, ваше превосходительство. Я наполовину глухой и потому плохой собеседник. Для музыканта же это просто немыслимо. Но постепенно все привыкают и к моей глухоте, и к оспинам на моём лице. Взгляните на мои короткие, плоские пальцы. Они непригодны для игры на фортепьяно, а ведь я избрал именно этот инструмент.
Он сам не понимал, почему стремился противопоставить совершенству и гармонии своё уродство и неполноценность. Одновременно он ощутил холодное дыхание бури и вспомнил слова Ахилла, сказанные при встрече с Гектором: «Ну наглядись на меня вдоволь...»
Он мысленно повторил их, и вдруг в его голове зазвучало: пинг-так, пинг-так! Именно такие звуки получались при ударе молота по наковальне; и вот из своей мастерской, вытирая руки об испачканный сажей фартук, прихрамывая, вышел совсем другой бог – уродливый Гефест.
Он искоса взглянул на Олимп, щурясь от непривычного солнечного света. Ведь его мастерская, в которой он ковал также сверкающие звёзды, располагалась на дне вулкана Этна, из чрева которого в солнечный мир Аполлона взметались временами чёрные столбы дыма и огромные каменные глыбы.
Но не только этот художник являлся братом Аполлона. У него был ещё брат. Зевс зачал его от дочери фиванского царя Семелы и, явившись к ней в сверкании молний, испепелил её, но спас ещё не родившегося младенца, зашив себе в бедро.
Эй-ой! Эй-ой! Менады и демоны сопровождали запряжённую пантерами колесницу Диониса. Эй-ой, эй-ой и так-так-так! Разве под тиканье метронома Мельцеля в Восьмой симфонии не били фонтаны вина, хотя его, Бетховена, сердце словно когтями пантеры разрывалось от страданий? Эй-ой, эй-ой – доспехи Ахилла, выкованные для него Гефестом! Ну, давай, насмотрись досыта.
Теперь он вдруг почувствовал раскаяние и робко, с сознанием собственной вины спросил:
– Может быть, господин фон Гёте разрешит доставить ему удовольствие? Друзья утверждают, что я неплохо играю на фортепьяно. Правда, противники, которых у меня гораздо больше...
Великолепной формы ладонь легла на его грубую руку.
– У всех у нас гораздо больше врагов, чем друзей. – Аполлон снисходительно улыбнулся. – Я предпочитаю всегда оценивать себя сам, и это, как ни странно, приносит мне удачу. Вам не слишком наскучит мой рассказ об этом?
– Ваше превосходительство...
– Так вот, Фридрих Якоби, президент академии в Мюнхене, году эдак в восьмидесятом осудил мои поэтические опыты, назвал меня хвастливым мерзким щёголем и навсегда повернулся ко мне спиной. После столь категоричного заявления его примеру последовали остальные добропорядочные люди нашей нации. Таким образом они дают понять, что вы к этой категории не относитесь.
– Ну это я перенесу, – проворчал Бетховен. – В восьмидесятом году? Именно тогда мой первый публичный концерт закончился полным провалом.
– Слушайте дальше. Я попросил Иоганна Генриха Фосса просмотреть моего «Рейнеке-лиса», и он вымарал мне чуть ли не каждый гекзаметр. Клопшток – чувствуете, господин ван Бетховен, какие громкие имена, – очень резко отозвался о моей «Ифигении», а господин Иффланд оценил её как совершенно банальную вещь. Вам известна эта драма?
– Увы, нет, ваше превосходительство.
– Ценю краткие и правдивые ответы. – В глазах Гёте не мелькнуло даже тени недовольства. – В свою очередь, должен признаться, что и я не слишком знаком с вашей музыкой.
Оба они почти одновременно доброжелательно улыбнулись друг другу.
– Впрочем, я сегодня случайно вспомнил отзыв господина Франца фон Шпауна о «Фаусте»: «Мало-мальски сведущий в технике версификации должен признать, что господина Гёте никак нельзя отнести к мастерам стихосложения. Особенно убогим представляется пролог». Извините, я говорю достаточно громко?
– Я понимаю каждое слово вашего превосходительства. Только не сочтите это за лесть.
– Вижу-вижу, но слушайте дальше: «Несчастный-фауст несёт какую-то околесицу, да к тому же ещё безобразно зарифмованную. Напиши я столь плохие стихи, мой домашний учитель беспощадно выпорол бы меня. Бред больного не так утомителен, как пресловутый «Фауст» Гёте».
– И такое сказать о вашем едва ли не лучшем произведении. – Бетховен с трудом дождался конца фразы. – А ведь я мечтаю написать к нему музыку, которая бы... – Он замялся, подыскивая подходящее выражение: – Нет, уж мой домашний учитель за неё бы меня пальцем не тронул! Он уже давно в могиле, и я сочту за честь назвать вам его имя: Христиан Готтлиб Нефе.
– Что ж, иметь такого выдающегося учителя – это действительно большая честь для вас.
– Как же я благодарен Беттине Брентано... – Он тут же поспешил поправиться: – Госпоже фон Арним за то, что она принесла мне тогда «Фауста».
Ему показалось, что глаза Гёте на мгновение словно подёрнулись пеленой недовольства, и он тут же смущённо замолчал.
– Я уже писал вам, что с удовольствием послушал бы вашу музыку, господин ван Бетховен.
– Может быть, сегодня вечером? – Бетховен встал и почтительно наклонил голову. – Мой рояль к вашим услугам.
– Хорошо, сегодня вечером. В восемь часов, если вы не возражаете?
– Когда вашему превосходительству будет удобно... Я всю вторую половину дня буду дома.
– Ну это уже ни к чему, господин ван Бетховен, – задумчиво усмехнулся Гёте и осторожно коснулся его локтя узкой аристократической ладонью. – Служба при дворе приучила меня всегда приходить в точно назначенное время. До свидания.
– До свиданья, ваше превосходительство.
На обратном пути Бетховен лихорадочно размышлял над тем, что именно следует ему сегодня сыграть. Лучше всего подошла бы импровизация, скажем, прелюдия к «Фаусту», схожая по мощи с извержением Этны. Он даже зажмурился от такого смелого сравнения.
Но тут он вспомнил недовольство, мелькнувшее в глазах Гёте при упоминании Беттины. Видимо, и впрямь её мать в молодости была любовницей Гёте, и теперь... Ну хорошо, забудем о сплетнях.
Как доброжелательно обошёлся с ним этот великий человек, с каким пониманием отнёсся к нему. Бетховен вдруг почувствовал себя безмерно счастливым и, словно заяц, перепрыгнул порог своего дома.
Разумеется, господин Мельцель превосходно разбирался в механике, но по части выуживания денег из чужих карманов он оказался настоящим виртуозом.
В страшную зиму 1813 года, когда замерзшие воробьи падали на мостовую, он, вопреки здравому смыслу, устроил выставку в неотапливаемом зале.
Знакомые предостерегали его:
– Кто же захочет, чтобы его постигла судьба армии Наполеона в России.
В ответ маленький юркий человечек лишь снисходительно улыбался:
– Не беспокойтесь! Уж я найду способ обогреть своих посетителей.
И что бы вы думали, нашёл, и гульдены посыпались в его кассу.
– Для вас, господин ван Бетховен, я, разумеется, приготовил бесплатный билет и попросил бы прийти вечером где-нибудь без четверти десять. Сегодня я даю последнее представление, а потом хотел бы показать вам кое-что в моей мастерской.
Просторный зал был переполнен. Бетховен даже мечтать не мог о том, чтобы на его концерте собралось столько публики. Посетители внимательно осматривали мраморные статуи и бронзовые бюсты, с криком отдёргивали руки от электрической машины и догадывались, что их ещё ждёт главный сюрприз.
Мельцель кивнул своему помощнику, и в тот же миг почти все свечи погасли. Он сам сел за рояль, стоявший перед уже хорошо знакомым Бетховену ящиком, снова подал знак.
Помощник раскрыл занавес, и перед глазами изумлённой публики предстала диорама размером с небольшую сцену, изображавшая пожар Москвы 15 сентября 1812 года. Подрагивающие отблески пламени на прозрачных кулисах создавали ощущение реальности.
Окружённые изгородями домики и сараи на заднем плане, грязная просёлочная дорога вдоль реки, куча трупов, груда развалин и несколько французских солдат, прикрывавших ладонями лица, – всё создавало ужасную картину катастрофы, обрушившейся на Москву прошлой осенью. Вдалеке возвышались величественные, нетронутые огнём башни Кремля.
Посетители заворожённо смотрели на сцену. Изображённый эпизод был одним из самых важных в цепи хорошо знакомых им событий. Корсиканец выиграл в России несколько сражений, но в конце концов на Березине фортуна изменила ему. Наполеону, правда, удалось переправиться через реку, но её берега была завалены трупами солдат Великой армии. Ранее они, усталые и измученные, рвались к Москве в надежде отдохнуть там, переждать зиму и, возможно, дождаться победоносного окончания войны. Но однажды ночью багровые огни пожара окрасили ночную тьму...
По слухам, генерал Кутузов лично распорядился поджечь Москву и в пламени погибли богатые трофеи Великой армии и её надежды на хотя бы относительную передышку. Император оцепенело смотрел на огненные сполохи.
Он тайно вернулся в Париж, а вслед за ним, едва передвигаясь и с трудом отражая атаки казаков, брели его уцелевшие солдаты. А ведь такого лютого мороза в России не было с незапамятных времён.
Послышался громкий треск, и пангармоникон начал издавать громкие трубные звуки: татера! Трара! Трара! Это было не что иное, как французский кавалерийский марш, Мельцель весело подыгрывал ему на рояле.
Звуки становились всё более хриплыми, наконец внутри механического органа сильно громыхнуло и наступила тишина.
– Уважаемая публика! – Мельцель отвесил низкий поклон. – Дамы и господа! Прошу прощения за постигшую меня неудачу. В моём пангармониконе что-то испортилось, и пока я никак не могу устранить недостаток. Но надеюсь, что хотя бы картина пожара Москвы вас не слишком разочаровала. Правда, марш кавалерии нашего великого союзника императора Наполеона должен был, бесспорно, прозвучать с большим воодушевлением. Увы, но у механизма нет разума, и потому не судите меня слишком строго.
Все всё прекрасно поняли. Никто из посетителей даже бровью не повёл. Ведь генерал Йорк уже подписал в Таурогене конвенцию с русскими.
А как поведёт себя Австрия? Кто способен разгадать хитрые замыслы господина Меттерниха?
Во всяком случае, в зале наверняка находились его шпики. Тут нужно было быть очень осторожным.
После недолгого молчания публика начала расходиться.
Луна заливала мертвенно-бледным светом пустые окна фабрики по производству фортепьяно. Мельцель открыл дверь и серьёзным тоном произнёс:
– Постойте пока, господин ван Бетховен. Я сейчас зажгу фонари, а вы прикройте дверь, чтобы не возникло сквозняка.
Когда в маленьком стеклянном ящике вспыхнуло пламя, Мельцель как-то сразу устало сник и прислонился к столу.
– По-моему, мне не в чем себя упрекнуть. Как вы знаете, я тоже патриот. Так почему же не заработать на ненависти к корсиканцу? – Он вытащил из-под плаща объёмистый кожаный кошель. – Позвольте, я произведу хотя бы приблизительный подсчёт своих доходов.
Кучки гульденов росли одна за другой, и у Бетховена даже расширились глаза от изумления.
– Кончатся они когда-нибудь или нет?
– За вычетом всех расходов получается в общей сложности шестьсот семьдесят один гульден в день. Неплохо, неплохо, – нарочито сдержанно отозвался Мельцель.
– Нет, я всё-таки безнадёжный глупец. – Бетховен нахмурился и как-то боязливо отодвинулся от стола.
– Как композитор никоим образом, господин ван Бетховен. – Мельцель предостерегающе поднял указательный палец. – Вы же знаете, что каждую написанную вами ноту я ценю выше, чем все сочинения остальных венских композиторов. Но одного искусства мало, нужно ещё уметь его выгодно продать.
– Но как?
– Вот именно – как? Я знаю, что вас постоянно преследуют неудачи. Надо же такому случиться: князь Кински упал с лошади и сломал себе шею. А теперь скажите откровенно: как у вас с деньгами? – Бетховен промолчал, и Мельцель удовлетворённо кивнул: – Я так и думал. Позвольте предложить вам пятьсот гульденов...
– Мельцель! Но ведь я...
– Пангармоникон завтра вновь пополнит мой кошелёк. И потом, мне очень нравится название, которое выдали моему прибору – метроном. – Мельцель встал и взял со стола фонарь. – А теперь я хочу показать вам ещё более совершенный вариант механического органа. Вряд ли мне удастся создать что-либо лучшее.
Он поднёс фонарь к огромному шкафу в десять футов длиной и двенадцать футов высотой. Ширина же его составляла никак не меньше семи или даже восьми футов. Поверхность была расписана белыми и позолоченными арабесками.
– Не желаете ли что-либо сочинить для него, господин ван Бетховен?
– Вы серьёзно?
Сёстры не сводили глаз с Жозефины: широко раскрытые, обезумевшие от боли, воспалённые глаза, мелко подрагивающее тело.
– Сколько времени?
– Скоро десять, Пепи. – Тереза попыталась вытереть ей лоб и виски, но тут же получила сильный удар по пальцам.
– Вечера или утра?
– Вечера, Пепи.
– Выражайся точнее! – Жозефина метнула исподлобья откровенно враждебный взгляд. – Какое сегодня число?
– Восьмое апреля.
– А год?
– Тысяча восемьсот тринадцатый.
– Бог карает меня!.. – хрипло выкрикнула она, корчась от нового приступа боли. – За мои грехи... И ведь уже целый день, целый день! Ни один из моих прежних детей не причинял мне таких болей... Но всё равно, я заставила его гораздо больше страдать! Это возмездие! Возмездие! Господи, как же я себя безрассудно вела! Но как я рада этому ребёнку! Как я тоскую по нему! Тереза!..
– Да, Пепи?
– Завяжи мне рот, чтобы я не могла выкрикнуть его имя, а потом... потом уходи, Тереза, уходи... Я хочу остаться наедине с Марией. – Жозефина попыталась было улыбнуться, но тут же коротко вскрикнула от боли. – Даже если я сорву повязку, ничего, ничего... При ней я могу кричать всё, что угодно. Она ведь только по-венгерски понимает. И ещё... Даже если мне будет совсем плохо, не вздумай вызвать врача. Обещай мне.
– Я уже обещала тебе, Пепи, и сдержу слово.
– Спасибо, а теперь иди. Мария!..
Пожилая венгерка подошла к кровати, улыбка на её морщинистом лице выражала уверенность. Она помогала появиться на свет ещё детям графини Дейм, и вот теперь её призвали к госпоже баронессе Штакельберг.
Когда маятник пробил ровно десять часов, Мария открыла дверь в соседнюю комнату и сказала по-венгерски:
– Это девочка, милостивая сударыня.
– Ты снова счастливо перенесла роды. – Тереза постаралась вложить в эти слова всю нежность, которую испытывала к сестре.
Веки Жозефины дрогнули и тяжело приподнялись. Она еле слышно прошелестела губами:
– Нет, сейчас... сейчас всё только начинается, дорогая. Искупайте её и принесите ко мне.
Послышался громкий плеск воды, ребёнок тоненько пропищал, очевидно радуясь своему появлению на свет, а затем маленький свёрток осторожно положили рядом с Жозефиной.
– Очень сильный ребёнок, Пепи.
– А его ребёнок другим быть не может, – почти простонала Жозефина. – Но он рождён во грехе, хотя я себя грешницей не считаю.
– Я буду её очень любить, Пепи.
– Ты любишь всех моих детей, Тереза. – Жозефина подняла на неё тоскливые глаза, – но это дитя займёт особое место в твоём сердце.
– Да, Пепи, – облизав пересохшие от волнения губы, ответила сестра.