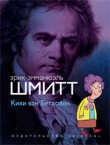Текст книги "Аппассионата. Бетховен"
Автор книги: Альфред Аменда
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц)

Часть 4
ТИТАН

– Прошу садиться. – Бетховен уважительно показал на стул. – Ещё ни у одного из моих слуг не было таких отличных аттестаций, как у вас. Я вчера внимательно прочитал их и могу лишь пожалеть о том, что в ближайшее время не смогу съездить в Зальцбург. Иначе я непременно посетил бы указанную в рекомендательном письме семью и сообщил ей, что вы теперь служите у меня.
– Если только она там ещё живёт.
– Как, простите?
– Если она... там... ещё... живёт.
– Я понял. Конечно. Вы ведь служили там довольно давно. Садитесь, пожалуйста.
Лакей скромно присел на краешек стула.
– Служили вы превосходно, это я уже выяснил, и особенно произвели на меня впечатление сведения о том, что вам можно доверять и что вы умеете хранить тайну. Видите ли, для меня это главное. Вот уже почти три года я живу довольно уединённо, и многих очень интересует, что же я за это время сочинил. Они с удовольствием бы навели на мои окна подзорные трубы, но, увы, квартира слишком неудобно расположена.
Лакей поднял глаза к потолку, как бы желая сказать: «Ну что за люди!»
– Ещё в Писании сказано: «Взгляни на помыслы человека, разве с младых лет не отягощён он злом?» – тоном псаломщика продолжал Бетховен. – Ну, я очень рад, что вы умеете держать язык за зубами, и почему бы, в конце концов, не рассказать вам всю эту историю. Знаете, порой хочется выговориться, а не перед кем.
На лице лакея отразился неподдельный интерес.
– Впрочем. – Бетховен подошёл к фортепьяно, – я как раз собирался поразмышлять над четвёртой частью моей новой сонаты. Три первых я написал ещё весной. Я бы назвал её: «Большая соната для молоточкового фортепьяно», потому что это действительно моя самая продолжительная соната. – Он сел к фортепьяно. – Си-бемоль мажор! Фортиссимо! Удар! Удар! Длительная пауза! Нужно оглянуться на себя и задуматься. Троекратное начало с трели. На том и остановимся.
Он вновь от души радовался звонкому отчётливому боевому кличу, возвестившему конец этих бесплодных мучительных лет. Он обрёл себя и даже полагал, что вправе вновь поднять когда-то преданное им знамя.
«Нисходящие терции! Я бросаю вам перчатку в знак того, что борьба продолжается! Этот мнимый лакей, напряжённо ждущий моей исповеди... Пожалуйста, только я исповедуюсь ударами молоточков!»
Цмескалю вовсе не требовалось предупреждать его. Этот субъект с его постным видом и чересчур елейным голосом сразу же показался ему подозрительным. А его рекомендательные письма наверняка фальшивые. Начальник полиции граф Зедлницки подослал его ко мне, ибо его и господина Меттерниха шпики шныряют теперь по улицам, трактирам и кофейням, выискивая революционеров, врагов государства. Таковым вполне можно считать и его, Бетховена, ведь он всегда выступал за всё возвышенное и хорошее, за гуманное отношение к людям, за мир и даже за истинное благочестие, так необходимое во времена ханжества и лицемерия.
Он рассмеялся про себя, представив лицо шпика, который вскоре окажется разоблачённым. Он также задумался над тем, как отнесутся многие к возвращению Наполеона. Стоило прогонять льва, чтобы Европой после Венского конгресса стали править волки и ещё более отвратительные существа – шакалы, исполнявшие для волков роль загонщиков...
Он сыграл престо, взял со скоростью пороховой ракеты череду пассажей фа мажор, наращивая их от низких басов до самых верхних нот, и вдруг резко остановился, как бы отразив в последнем звуке наступивший торжественный момент.
Тут он почувствовал, что пора кончать ломать комедию.
– Вы поняли? – Бетховен встал и резко качнулся вперёд.
– Что именно, позвольте узнать?
– Музыку. Разве последний пассаж не развеселил вас?
– Ну, разумеется, – согласно кивнул лакей.
– Меня это радует. А теперь идите.
– Куда прикажете? – настороженным тоном спросил лакей.
– В прихожую. Там я вам дам урок контрапункта, который поймёт даже такое отребье, как вы. Примите мои наилучшие пожелания, но, к сожалению, я не выношу шпиков, – с затаённым злорадством заявил он. – И я вам очень не советую сопротивляться.
Он резко вздёрнул его, словно тряпичную куклу, за ворот сюртука и вывел на лестничную площадку.
– Мой контрапункт – пинок. Одно мгновение, и вы со скоростью ракеты полетите вниз! Престиссимо!
Стука упавшего тела он не услышал и, отрывисто засмеявшись, вернулся в комнату. Неприятностей от этой своей выходки он мог не опасаться. Профессия шпика требовала анонимности, им ни в коем случае нельзя было раскрываться.
Какое ж гнусное время! Скорее открыть окно и впустить свежий воздух. Удивительно, но эта интеркомедия-фарс пробудила у него желание работать. Следовало достойно завершить последнюю часть большой сонаты для молоточкового фортепьяно.
Странно, но он почему-то решил, что в этом ему должен помочь Иоганн Себастьян Бах. Тем самым я покажу, что усвоил многое не только от моего известного учителя, но и испытал также влияние этого титана. Разумеется, обращение к Баху было бы шагом в прошлое, но порой обращение к традициям также может восприниматься как прогресс.
А теперь скорее на выход! В суд нельзя опаздывать. Ну где же повестка? Так, слушание дела состоится сегодня, 11 декабря 1818 года, в четыре часа пополудни. Господин Бернард – из-за своей глухоты он нуждался в переводчике – наверняка уже с нетерпением ждёт его.
До чего же неприятно, когда тебя отрывают от любимой работы, а пронизывающий ветер, швыряющий в лицо хлопья мокрого липкого снега, ещё более усиливает ощущение, что ты идёшь навстречу чему-то ненавистному и враждебному. Темнело по-прежнему рано, а так хотелось сейчас яркого солнечного света.
Фуга ля минор? В тройном голосоведении? Нет, сейчас он должен думать совсем о другом, ведь ему вскоре предстоит нешуточная борьба за судьбу двенадцатилетнего мальчика с бледным лицом и большими, живыми, чуть загадочными глазами. Покойный брат Карл в своём завещании назначил его опекуном своего сына. Подопечного звали также Карлом.
По совершенно необъяснимой причине Карл вдруг сбежал к матери, и теперь госпожа Иоганна ван Бетховен вновь стала претендовать на право быть наравне с ним опекуншей сына, чего он никак не мог допустить. Чтобы Иоганна, которую за легкомыслие и распутный нрав даже сравнивали со зловещей героиней «Волшебной флейты» Моцарта – Царицей ночи... Нет, никогда!
Ночь, ночь... Нужно очистить Карла от прилипшей к нему грязи. Был ли вообще он сыном его брата? Ну да, конечно, определённое сходство между ними есть. А Иоганна умела извлекать доходы из своих многочисленных любовных связей. Правда, её покойный муж это отрицал, но ведь не кто иной, как он, семь лет назад публично обвинил собственную жену в склонности к бродяжничеству и кражам. Суд тогда приговорил «Царицу ночи» к четырёхнедельному домашнему аресту...
Сильный порыв ветра вновь облепил лицо и одежду комьями снега, Бетховен злобно буркнул и вспомнил, что сказал отец, когда узнал о бегстве своей матери из монастыря, куда её поместили за неизлечимую склонность к пьянству: «Мы из благородной семьи!» Так, кажется. Когда же это было? Ну да, с тех пор пятьдесят лет прошло, но сегодня слова пьяного отца в каком-то смысле сохранили своё значение.
Как бы то ни было, но нужно спасать ни в чём не повинного мальчика. Вроде бы ему не в чем себя упрекнуть. Он поместил Карла в пансион к славным людям, с которыми когда-то сам водил знакомство.
Однако Бетховен быстро утратил веру в воспитательные методы достопочтенного патера Фрёлиха из Мёдлинга, так как ему стало известно, что его преподобие использовал мальчиков для удовлетворения своих противоестественных наклонностей, а потом поочерёдно клал их на скамью и палкой вбивал уважение к Церкви и государству. Он тогда забрал Карла оттуда, чтобы дать ему домашнее воспитание и хоть в чём-то заменить отца. Однако через несколько дней мальчик опять сбежал к матери! Пришлось прибегнуть к помощи полиции, вернувшей Карла в пансион.
Бернард ждал его в здании Сословного суда, и слушание, видимо, уже было назначено, поскольку при появлении Бетховена господин Гочевар, представлявший интересы Иоганны – она сама, слава Богу, отсутствовала, – немедленно удалился в зал заседаний.
Но что с Бернардом? Он явно чем-то недоволен или расстроен. К сожалению, его сейчас не расспросишь. Бетховен тяжело вздохнул и низко поклонился трём судьям в напудренных париках и роскошных мантиях.
Сидевший в середине, видимо, обратился к участникам процесса, так как Гочевар и Бернард почтительно поклонились.
– Представителем госпожи Иоганны ван Бетховен является господин Гочевар.
– Истинно так, ваша честь.
– Кто вы по профессии?
– Придворный писарь.
– Секретарь, отметьте. Далее, здесь присутствует капельмейстер и композитор Людвиг ван Бетховен. А кто вы?
– Моё имя Карл Бернард. Я – редактор «Венской газеты» и пришёл сюда, чтобы оказать помощь моему другу Людвигу ван Бетховену. Он... он может читать по моим губам.
– Допускается. Запишите в протокол имя господина редактора Бернарда. Переходим к рассмотрению дела. Первым просил дать ему слово господин Гочевар. Вы ведь родственник госпожи ван Бетховен?
– Смотря что понимать под этим словом. – Гочевар повёл широкими плечами. – Моя мать – сводная сестра матери госпожи ван Бетховен.
– Ах, вот как. Прошу вас, господин Гочевар.
– Высокий суд по делам дворянского сословия...
– Почему вы так это подчёркиваете? Вы имеете какое-то отношение к поданному в суд прошению?
– Какому прошению, ваша честь?
– Продолжайте.
– Конфликт, возникший из-за подопечного Карла ван Бетховена, я, ваша честь, в своём стремлении к подлинной объективности подробнейшим образом описал и чуть позже представлю свои записи со всеми необходимыми приложениями в распоряжение высокого суда. Поэтому в своей речи я намерен ограничиться лишь изложением сути дела и потому...
Бетховен не сводил глаз с губ Бернарда, которые, к его удивлению, были плотно сжаты.
– Высокий суд! У господина ван Бетховена, по моим сведениям, было три брата. Ни в коем случае не желая принизить их выдающиеся качества, тем не менее должен отметить, что все трое отличались некоторыми странностями. Не представлял собой исключения и покойный Карл ван Бетховен. Столь откровенное высказывание никак не может ущемить честь господ Бетховенов, оно неопровержимо доказывается тем, что в своих поступках они далеко не всегда руководствовались разумом и зачастую впадали в крайности. Господа Людвиг и Карл ван Бетховены, несмотря на связывавшие их братские узы, скорее относились друг к другу достаточно плохо, и господин Карл ван Бетховен менял своё отношение к господину Людвигу ван Бетховену лишь в тех случаях, когда ему требовались деньги. Да, высокий суд, и в связи с этим я смею утверждать, что мальчик Карл ван Бетховен являлся для обоих братьев своего рода товаром.
Бернард вскинул руку, но председатель суда жестом остановил его.
– Госпожа ван Бетховен в своём прошении подчёркивает, что господин Людвиг ван Бетховен сумел убедить Главное ведомство по делам опеки предоставить это право исключительно ему. Я не призываю вас, высокий суд, принимать во внимание материнские чувства, хотя, безусловно, с госпожой Иоганной ван Бетховен поступили весьма жестоко. Нет, я также не собираюсь оспаривать то обстоятельство, что господин Людвиг ван Бетховен был довольно добр к мальчику. Однако из-за присущих ему, как уже было сказано ранее, некоторых странностей и физического недостатка он не мог уделять воспитанию мальчика должного внимания, что не могло не отразиться на его поведении. Об этом свидетельствует приведённое в деле высказывание господина патера Фрёлиха из Мёдлинга.
– Позволю себе заметить, высокий суд, – как бы вскользь с поклоном обронил Бернард, – что к делу приобщено заявление просителя Людвига ван Бетховена, опровергающее оценку господина патера.
– Нам это известно, – важно кивнул судья. – Мы слушаем вас, господин Гочевар.
– Уже было сказано, что воспитание мальчика как в физическом, так и в духовном отношении оставляло желать лучшего. Вместо носового платка он зачастую пользовался промокательной бумагой, а так как господин Людвиг ван Бетховен холост, похоже, никто не заботился о чистоте белья и правильности осанки его подопечного. О религии мальчик получает совершенно превратные представления, в пансионе абсолютно не занимался Законом Божьим, высказывает дерзкие мысли относительно свободы и независимости и в будущем явно способен заняться антигосударственной деятельностью. Именно поэтому мы просим высокий суд или заставить господина Людвига ван Бетховена полностью отказаться от своих прав на опекунство, или, по крайней мере, побудить его разделить эти обязанности с матерью несчастного мальчика.
Гочевар передал судьям свои записи, поскрёб свой крючковатый нос, который Бетховен сразу же окрестил клювом стервятника, и нарочито скромно отошёл назад. Председатель суда тут же обратился к противоположной стороне:
– Теперь, господин Бернард, я вынужден прибегнуть к вашим услугам. Спросите у господина Людвига ван Бетховена, каким образом его подопечный ускользнул из-под его опеки?
Губы Бернарда плавно задвигались, и Бетховен сразу же ответил:
– Не знаю. Во всяком случае, он сбежал к своей матери.
– И какие же причины побудили его к этому поступку?
– Вероятно, страх перед наказанием. Он грубо обругал посыльного и кое-что украл у меня.
– Деньги?
– Да, ваша честь, деньги, на которые он купил себе сладости.
– Он снова в пансионе?
– После сурового наказания.
– Бернард, что спросил господин судья?
– Сурово ли вы наказали его?
– Я, – улыбка на лице Бетховена уже сама по себе была достаточно красноречивым ответом. – У мальчика хорошие задатки, и я хочу развить их. Сейчас его обучают игре на фортепьяно, французскому языку и рисованию. Таким образом, Карл всегда под надзором, и всё же я хотел бы отдать его в пансион, может быть, в прославленный Мёлькер или в Терезианум.
– В Терезианум принимают только выходцев из благородных семей. – Судья тяжело откинулся на высокую резную спинку стула. – И посему я хотел бы сразу же выяснить: есть ли у вас дворянский титул, господин ван Бетховен?
– Я не понял, Бернард. – Бетховен, как обычно в таких случаях, приложил ладонь к уху.
На лице редактора появилось суровое выражение, кожа на лбу собралась в мелкие складки.
– Высокий суд желает знать, есть ли у вас дворянский титул.
– Только потому, что меня зовут ван Бетховен? Но в Голландии так называют не только дворян.
– Следовательно, вы не дворянского происхождения, господин ван Бетховен. – Председатель суда произнёс эти слова так громко и резко, что Бетховен понял их без переводчика.
Председатель суда взглянул на заседателей и после их подтверждающих кивков отложил бумаги в сторону.
– Я закрываю заседание. Приговор Чрезвычайного суда высшей инстанции будет передан ответчику.
Они с шумом отодвинули стулья и вместе с господином Гочеваром, на лице которого застыла загадочная улыбка, покинули зал.
– Что случилось, Бернард?
– Анонимное письмо, господин ван Бетховен. Я узнал о нём через свои источники.
– Гочевар?
– Вполне возможно.
– И что теперь? Магистрат? Судебная инстанция для всякого сброда? Неужели они отправят меня туда? Почему вы пожимаете плечами, Бернард?
В этом безумном, едва не канувшем в Лету мире лицами благородного происхождения считались лишь те, кто носил дворянский титул с рождения или был пожалован им каким-нибудь государем.
Для него же действовала совершенно иная табель о рангах, он считал лицами благородного звания тех, кто соответствовал этому по своим духовным и моральным качествам.
Князь Кински, у которого ему приходилось выпрашивать каждый гульден своей пенсии, был, по его мнению, нищим духом и не имел никакого права на свой титул. То же самое можно было сказать и о сиятельной княгине. Их всех с чистой совестью следовало назвать плебеями. Напротив, эрцгерцог Рудольф, к которому надлежало обращаться не иначе как «ваше императорское высочество», был вполне достоин своего высокого звания и положения. Их почти ничто не разделяло. Можно ли было считать дворянином Стефана фон Бройнинга? Гляйхенштейна? Графа-обжору? Он почти не задумывался над этим и знал лишь, что в их присутствии всегда чувствовал себя хорошо. Среди иудеев также встречались порядочные люди, а среди христиан дворянского звания были такие, которых он сравнивал с мелкой разменной монетой. Для него в человеке главное – голова и сердце. Но скажи он об этом на суде, трое представителей дворянского плебса лишь надменно улыбнулись бы в ответ.
Неужели они осмелятся так по-хамски поступить с ним? Всё-таки он был уже почётным гражданином Вены, но звание это ему присвоили вовсе не за выдающиеся достижения на поприще музыки, а потому, что он не погнушался лично дирижировать исполнением своей батальной пьесы в госпитале для бедных имени Святого Маркиера. Бедняк музицировал для бедняков, и присвоение ему звания почётного гражданина лишь подчёркивало это.
Почему, почему у него внутри всё кипит от неукротимой злобы? Неужели эти дворяне-плебеи так сильно оскорбили его самолюбие? Он громко и хрипло рассмеялся. Напротив, он теперь гордился своим происхождением. Да, он сын лишённого за пьянство родительских прав музыканта и дочери повара, но его имя – Людвиг ван Бетховен.
Аллегро резолнюто![115]115
Быстро и решительно (ит.).
[Закрыть] Нет, нормы контрапункта Баха нужно трактовать гораздо более свободно, ведь после его смерти многое изменилось. Правда, в нынешние времена ни о каких свободах для тех, кто живёт трудом своих рук или ума, даже речи быть не может. Напротив, реакция, именуемая Реставрацией, всячески принижает их, ставя порой в совершенно невыносимое положение.
Ну хорошо, забудем о грустном и вспомним приятное. Кто кроме него ещё способен так блистательно фугировать эти три голоса?
Разумеется, только при определённой свободе. Ибо он поднял знамя во имя борьбы за свободу, человеколюбие и мир – ценности, принадлежащие отныне не только дворянскому сословию. И пусть за ним следят, пусть унижают, пусть подозревают в антигосударственной деятельности.
Для этих трёх голосов он использует все приёмы контрапункта: сжатие, увеличение, обращение. Важно сочетание законов музыки с моральным законом в его груди, они сплетутся воедино и зазвучат по-новому, и ещё как зазвучат...
Вечером он поспешил в пансион. Дочь его владельца Джианнатазио Фанни встретила его и сразу убедилась, что Бетховен сегодня совершенно ничего не слышит. Когда он пребывал в хорошем настроении, его левое ухо воспринимало какие-то звуки. Но сегодня его словно запечатали, и любой крик будто наталкивался на непробиваемую стену. Она поймала на себе его пытливый, настороженный взгляд.
– Я попросил бы вас писать.
Фанни развернула лист бумаги и вывела на нём чёткими буквами: «Господин Бернард уже был здесь».
– Тогда вы всё знаете, – мрачно процедил он.
Фанни дрожащей от возмущения рукой написала: «Мы – Джианнатазио дель Рио – дворянского рода. Но кто мы по сравнению с вами?»
– Для такой красивой женщины, как вы, Фанни, – взгляд Бетховена потеплел, – происхождение не имеет значения.
Она грустно улыбнулась и пошла за Карлом. Он долго смотрел ей вслед. Как всегда, чувствовал себя бесконечно одиноким и очень тосковал по любимой женщине, способной делить с ним радости и муки, которых оказывалось куда больше...
Фанни привела Карла, и он сразу обнял маленькое стройное, чуть подрагивающее тело. В этом его порывистом жесте было нечто, растрогавшее и одновременно огорчившее внимательно наблюдавшую за ними девушку.
Было понятно, что необычайно одарённый, но зачастую грубый и невыносимый человек в действительности обладал наивной, легкоранимой душой ребёнка. Казалось, мальчик был для него последней надеждой.
– Ну, как у нас дела, Карл?
– Спасибо, хорошо, дядюшка.
Эти слова вполне можно было прочитать по губам.
– Я же просил тебя, Карл, называть меня отцом.
– Мой дорогой отец, – тихо произнёс мальчик и обвил руками шею Бетховена.
– Мой дорогой сын.
Глаза Фанни подёрнулись пеленой, она едва не всхлипнула и, отвернувшись, вдруг подумала, что, может быть, её ненависть к Карлу не что иное, как ревность. Карл был недостоин любви. Отец полностью был согласен с ней, он много занимался мальчиком и мог оценить его характер. Наверное, стоило выразиться ещё резче. Ей это подсказывал женский инстинкт. Карл был настоящим актёром, в свои двенадцать лет он умел уже изворачиваться, как угорь, и очень убедительно лгать. Он оказался сыном своей матери и вряд ли когда-нибудь изменит свою натуру. Змея останется змеёй, даже если её нежно прижмёшь к сердцу.
– Что же мы будем теперь делать, сынок? – Бетховен протянул руки к своему подопечному. – Ты действительно веришь, что я к тебе хорошо отношусь?
– Дорогой отец!
Этот человек с душой ребёнка, разумеется, не заметил, что мальчик говорил слишком слащаво, а поведение его было наигранным. И глаза его, когда требовалось, выражали наивную доверчивость, и сам он казался таким чистым, открытым...
– Ты непременно должен выбрать себе творческую профессию или стать учёным, мой мальчик, ибо только эти люди внутренне свободны. Для этого у тебя есть все задатки. Тебе нравится у Джианнатазио?
– Очень.
Он был прямо-таки воплощением искренности, и даже Фанни, наверное, не усомнилась бы в правдивости его слов, если бы всего лишь час назад один из учеников не рассказал, как гнусно Карл отзывался о ней.
– С каким удовольствием я забрал бы тебя с собой в Вену...
Фанни сразу же увидела, как на мгновение у Карла алчно сверкнули глаза. В следующую минуту он покорно склонил голову и ласково потёрся лбом о плечо Бетховена, который конечно же ничего не заметил.
– Поверь, разлука с тобой приносит мне неимоверные страдания, но тебе, сынок, необходимо жить и учиться в спокойных условиях, чтобы достичь высоких целей. Не стоит дёргать тебя, нечего таскать туда-сюда, ты у меня умница и сам прекрасно всё понимаешь. Я не хочу, чтобы потом мы с твоей матерью попрекали друг друга. Знаешь, в Ландегуме есть профессор Зайлер, знаменитый учёный и педагог, его пансион пользуется весьма солидной репутацией. Разумеется, это стоит больших денег, но тут я, в отличие от твоего отца, экономить не буду. Ты бы учился тогда вместе с детьми из самых благородных семей.
Карлу уже изрядно наскучили эти разглагольствования, он скрипнул зубами, с трудом сдерживая зевок, но встревоженный Бетховен истолковал его жест совершенно по-иному.
– Ты устал? Тогда иди спать и постарайся хорошенько выспаться. Спокойной ночи. Но у тебя есть желание попасть в интернат к профессору Зайлеру?
– У меня есть желание. – Он говорил медленно, старательно подчёркивая каждый слог, будто знал, что за ним записывают его слова. – Я охотно подчинюсь любому твоему приказанию, батюшка.
– Мой мальчик! Мой мальчик!
Господин Джианнатазио уже несколько минут находился в комнате. Он сел к столу напротив Бетховена и написал: «А что, если дело действительно стоит передать в магистрат?»
– Тогда я буду бороться до конца. – Бетховен сдвинул кустистые брови и сжал кулаки. – Я ни перед чем не остановлюсь. Вспомните о рыцарях, занимавшихся грабежом, и о разбойниках с большой дороги. Они ничем не гнушались, но в итоге их потомки получили дворянское звание. Вот и я...
«Я не хочу вмешиваться в ваши дела, – торопливо написал Джианнатазио, – но...»
– Что «но»?
– Вы же знаете, господин ван Бетховен, как мы уважаем вас и поэтому...
– Что поэтому? – Бетховен вырвал у него из-под пера записку. – Я всё понял, вы плохо относитесь к Карлу!
Его лицо потемнело от гнева, но голос был спокоен, и говорил он нарочито вежливым тоном:
– Впрочем... Я прошу прощения за то, что не сказал вам этого раньше. Но чтобы не ставить вас перед свершившимся фактом... Одним словом, через несколько дней я заберу Карла и отвезу его в интернат Блехлитера. Всего наилучшего.
«Ну как так можно. – Фанни металась по комнате, как разъярённая львица в клетке. – Ну неужели он и впрямь верит Карлу? Просто он так одинок, так одинок!.. Но этот поганый мальчишка погубит его, погубит его!.. От него одни несчастья!»
Она всхлипнула и, закрыв лицо руками, выбежала из комнаты.
Заканчивалась осень 1821 года.
Трактирщик Шлейфер принёс ещё вина. Он лично обслуживал солидных завсегдатаев своего заведения.
– Не угодно ли господам пройти внутрь?
Профессор Академии художеств Блазиус Хёфель, несколько лет тому назад по портрету в книге Летроне изготовивший гравюру с изображением Бетховена, разлил вино и протянул руку к стакану.
– В вас нет никакой романтики, Шлейфер. Мы хотим распить последний кувшин в последний чудесный тёплый вечер в этом году под открытым небом. Вы, конечно, не откажетесь, Эйснер. Разве вы хоть раз сказали «нет»? Скажите, господин комиссар полиции, почему так сильно чадит свеча в садовом подсвечнике? Если не ошибаюсь, именно вы отвечаете за уличное освещение в Винер-Нейштадте.
– Я сегодня уже закончил службу. – Комиссар с удовольствием вытянул усталые ноги.
– Ваше здоровье! – Хёфель поднёс стакан к губам. – Итак, мой дорогой комиссар, как служащий полиции, вы, конечно, ничего не понимаете в искусстве...
– Кто вам это сказал, Хёфель? Моя жена...
– Ваша жена гораздо образованнее вас. Во всяком случае, если у вас есть хоть малейший интерес к искусству, то непременно посмотрите картины, подаренные графом Ламберсом Академии художеств. Не так ли, Эйснер?
– Один Рубенс чего стоит, – попыхивая трубкой, ответил Эйснер. – Должен признаться, что талантом он превосходит нас обоих. Давайте запьём горе вином. Ваше здоровье, Хёфель.
В саду под тяжёлыми шагами зашуршал гравий. К столу подошёл полицейский и лихо вскинул ладонь к козырьку шлема.
– Прошу прощения, господин комиссар.
– Что случилось, Францмейер?
– Явился за получением указаний, господин комиссар. Мною задержан крайне подозрительный субъект.
– Пьяный?
– Никак нет, господин комиссар, бродяга весьма строптивого нрава. Пришлось заковать его в цепи.
Полицейский вынул из кармана записную книжку в плотном свином переплёте и заговорил рублеными фразами служебного рапорта:
– Время – шесть часов вечера. Задержанный заглядывал в окна домов неподалёку от Унтерских ворот, чем и привлёк внимание жильцов, которые обратились ко мне за помощью. Я незамедлительно произвёл задержание. Никаких документов, удостоверяющих личность, господин комиссар. В кармане изрядно потрёпанного сюртука нами обнаружена старая газета, в которой, по утверждению задержанного... – вновь взгляд в записную книжку, – некоего Бетховена, речь идёт именно о нём.
– О ком? Ничего не понимаю. Выражайтесь яснее, Францмейер.
– «Венская модная газета». Статью я обвёл красным карандашом.
Комиссар брезгливо развернул пожелтевший измятый газетный лист и громко прочёл:
– «Господин Клебер из Бреслау недавно закончил писать маслом портрет нашего знаменитого композитора Людвига ван Бетховена. Этот превосходный художник сумел точно передать не только внешний, но духовный облик гения...»
Комиссар прервался и задумчиво подёргал мочку уха.
– И задержанный бродяга утверждал, что он и есть Бетховен?
– Так точно, господин комиссар. Более часа он барабанил кулаками в дверь камеры с криком: «Я – Бетховен!»
– Он действительно немного не в себе, наш славный Бетховен, – ехидно засмеялся Хёфель. – Достаточно сказать, что он с кулаками бросается на любого, кто хоть мельком упомянет при нём «Битву при Виттории». А ведь именно благодаря этому произведению он и прославился. Но всё-таки он не настолько безумен, чтобы одеваться как бродяга.
– Приложите к протоколу, Францмейер. – Комиссар протянул подчинённому газету. – Завтра в восемь утра я лично побеседую с «господином ван Бетховеном». Передайте моей жене, что я скоро приду.
Позднее комиссар, зайдя в здание полицейского участка, на верхнем этаже которого находилась его квартира, заглянул в служебное помещение:
– Ничего нового, Грасман?
– Ничего, господин комиссар.
– Как ведёт себя задержанный?
– Спокойно.
– Ну тогда... – комиссар от души зевнул и прикрыл рот ладонью, – спокойной ночи.
– Спокойной ночи, господин комиссар. Осталось пожелать вам приятного отдыха.
Он снова приподнялся на топчане и сквозь зарешеченное окно увидел медленно уползающий за крыши полумесяц.
Он был одет как бродяга, и поэтому задержали его вполне справедливо, но кто виноват, что он выглядел именно так.
– Ты, Жозефина?
Потеряв слух, он всё чаще разговаривал сам с собой, ведь для этого не нужно было особой тетради, куда его собеседники обычно записывали свои вопросы и ответы.
Он склонил голову набок – эта поза в последнее время стала для него привычной – и с подозрением всмотрелся в темноту.
– Конечно, я ни в чём не упрекаю тебя, но почему, почему ты умерла? День твоей смерти – 31 марта – окончательно доконал меня. Ради кого мне теперь щеголять, как... как не знаю кто. Ты не видишь меня, а музыку я не слышу. Сейчас у меня такой ужасный вид... – Он криво улыбнулся. – На моём лице неизгладимый след желтухи. Видимо, у меня больная печень, как, впрочем, у Наполеона, которого дьявол забрал к себе с острова Святой Елены. Волосы изрядно поседели. – Он с сожалением развёл руками. – И хотя мне всего пятьдесят один год, но я чувствую, что метроном жизни уже отбивает в ритме престо. Так-так-так... В последний год я написал больше прошений, чем нот, и в результате добился своего. Мальчик принадлежит мне! Разумеется, далеко не все мои расчёты оправдались. Карл так и не попал к профессору Зайлеру, потому что ему отказали в выдаче паспорта. ...А вообще, ты знаешь, в моей голове, словно призрак, блуждает соната для фортепьяно, но я никак не подберу для неё подходящей темы. – Тут он мотнул головой. – Хотя нет, почему? Есть тема. Помнится, в Хейлигенштадте я кое-что записал. – Он встал, прошёлся по камере и неожиданно с силой ударил по табурету. – Маэстозо! Форте! Я могу играть здесь точно так же, как и на роскошном фортепьяно, которое прислал из Лондона один мой почитатель. Но мне нужен свет! Эти негодяи заперли меня в тёмной камере. Я им сейчас дверь табуретом выбью.
Грохот и треск возымели своё действие. Через какое-то время дверь распахнулась, и Бетховен увидел на пороге комиссара и рядового полицейского.
– Что вы себе позволяете, задержанный? – рявкнул комиссар. – Если вы будете устраивать спектакли, я прикажу связать вас по рукам и ногам.
– Что?.. – Бетховен приложил ладонь к уху. – Я – глухой. Мне нужен свет. И ещё... Прикажите послать за Герцогом.
– За кем?
– Только не делайте такое глупое лицо, комиссар, – укоризненно улыбнулся Бетховен. – Вы же знаете всех, кто живёт в здешних краях. Я имею в виду музыкального директора Герцога. Он удостоверит мою личность. Я – Людвиг ван Бетховен, почётный гражданин Вены, хотя на это звание мне глубоко наплевать, как, впрочем, и на дворянский титул.