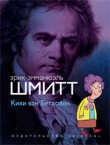Текст книги "Аппассионата. Бетховен"
Автор книги: Альфред Аменда
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 28 страниц)
– Чёрт возьми... извините, принц, что вы играете?
– Вам моё произведение совсем не нравится? – В голосе Рудольфа звучало лёгкое раздражение.
– Вы... стали сочинять музыку?
– Да, и начал с марша.
– Что-что-что?
– Объявлен призыв богемского ландвера. В Вену поступают донесения о неслыханном воодушевлении. Так пусть же они двинутся против корсиканца под звуки моего марша.
Подумать только, получить в качестве первого взноса две тысячи гульденов! Две тысячи! Одновременно где-то в глубине души он ощущал неловкость. Внутренний голос как бы предостерегал его от этих огромных денег. Видимо, потому, что сочувствовавший революционным идеям и борцам за счастье человечества попадал таким образом в зависимость от титулованных особ. Но в этом несовершенном мире не обойтись без компромиссов, и потом, принц Рудольф – прекрасный человек. Но сейчас Бетховена гораздо больше занимала ситуация с почтой. Ну почему письма идут так долго?
Он также написал в Бонн, в прекрасный приход Святого Ремигия, прося прислать нужное для некоей церемонии свидетельство о крещении. Получив небольшой, но очень важный для него листок бумаги, он тут же отправился с гастролями в сражающуюся за свободу Англию и Испанию, где всё более усиливалась борьба против ненавистного корсиканца. Эти поездки ни в коем случае нельзя было откладывать, ибо глухота его чуть ли не с каждым днём усиливалась. Может быть, по пути в Испанию ему удастся заехать в Швейцарию и навестить временно поселившуюся там у сестры Жозефину, а заодно обсудить с Песталоцци[86]86
Песталоцци Иоганн Генрих (1746—1827) – известный швейцарский педагог, основатель теории начального обучения, впервые связал педагогику и психологию.
[Закрыть] наиболее подходящие методы воспитания детей...
Его размышления прервал шумный приход Цмескаля. Граф подобно тамбурмажору размахивал своей бамбуковой тростью и непрерывно выкрикивал:
– Та-та-та-рам, та-та-та-рарара! Та-та-та-рарара! Д-дидел-дидел-дидел-ди!
– Рановато вы сегодня заглянули в ресторан «Лебедь», ваше сиятельство. Или на вас подействовали какие-то важные события?
– И он ещё спрашивает! Пока ваше превосходительство просиживали за роялем и попусту тратили драгоценное время, тирольцы принудили французов к капитуляции.
– И кто же возглавлял их?
– Андреас Хофер! А эрцгерцог Карл вступил с войсками в Баварию и принялся раздавать населению афиши следующего содержания: «Народы Германии! Настал час искупления! Австрия призывает вас выступить против тирана!» А эти стихи вы знаете, ваше превосходительство?
Цмескаль встал в позу и продекламировал:
Готов я кровь свою пролить,
И душу я свою отдам,
Тебя, отечество, спасу!
Оно священно для меня!
Я верен слову своему!
Свободным станешь ты!
Оковы мы с тебя сорвём!
– Их написал недавно Фридрих Шлегель[87]87
Шлегель Фридрих (1772—1829) – немецкий критик, философ, языковед, писатель. С 1809 г. на австрийской государственной службе.
[Закрыть]. Богемский ландвер очень серьёзно готовится к предстоящим боям, и, скажу откровенно, не только он.
– А чем занят император Франц?
– Эрцгерцог Карл – вот истинно народный герой.
Он вновь запел, отбивая тростью такт:
– Том-том-том! Том-том-том!
– Опять фальшивите! – презрительно процедил сквозь зубы Бетховен. – Марш написан в фа мажор, а вы поёте в до мажор, ваше сиятельство граф-обжора.
– Что? Да я, можно сказать, впитал этот марш с молоком матери. Я в нём каждый звук нутром чувствую.
– И кто же написал его?
– Откуда мне знать. Старинные марши создаются обычно как-то сами по себе, без участия композиторов. Сейчас его распевает вся Вена. Сочинитель никому не известен. Небось сгинул во тьме веков.
– Лучшей похвалы для композитора просто не придумаешь, – засмеялся Бетховен.
– В каком-то смысле да.
– Ты меня неверно понял, граф-обжора. Марш написан четыре недели тому назад, и уже всем кажется, будто они чуть ли не с детства знают его.
– Уж не ты ли сам его сочинил?
– Вместе с эрцгерцогом Рудольфом. Будущий архиепископ долго барабанил по роялю, намереваясь создать марш для богемского ландвера. Я внёс свою лепту, и мы вместе с принцем отправились в Шёнбрунн подписывать указ.
– Я ещё раз совершенно официально спрашиваю вас, господин ван Бетховен. – Лицо Цмескаля застыло и напоминало теперь маску. – Вы утверждаете, что...
– Именно так.
– Тогда мне нечего добавить. Всего доброго.
Он стремительно, почти бегом покинул комнату. Бетховен задумчиво поглядел ему вслед. Видимо, народы и впрямь поднялись на борьбу с предателем, к которому он вновь стал испытывать определённые симпатии.
Понять себя он никак не мог.
Была уже почти середина мая, а он всё никак не мог получить необходимый для поездки документ.
Когда однажды вечером Бетховен, не выдержав, ворвался вихрем в почтовую контору, почтмейстер посмотрел на него так, словно он свалился с луны.
– Да из города ни одна мышь не прошмыгнёт и, надеюсь, ни одна кошка не проберётся в него. Мы полностью окружены.
Выходит, он попался на удочку, как последний простак.
Усталой шаркающей походкой брёл он по пустынным улицам. Случайно попадавшиеся по пути знакомые торопливо бросали две-три фразы и убегали прочь, спеша домой.
Проклятая война!
Все его друзья уехали – принц Рудольф вместе с императорской семьёй, Кински, Лобковиц, о котором он теперь часто вспоминая. Хотя нет, в Вене ещё оставался Стефан фон Бройнинг. Он ходил с понурым видом, не обращая ни на кого внимания, ибо никак не мог оправиться после смерти горячо любимой жены. А ведь женился он совсем недавно...
Что, неужели музыка? Та-та-рам! Тата-рам! Тата-рарара!..
Его марш... Значит, солдат ландвера вновь отправили сменить других на позициях или возводить укрепления. Эрцгерцогу Максимилиану было поручено защищать город от наступавших войск Ланна и Бертрана. Но как он мог отстоять Вену, имея в своём распоряжении лишь шестнадцать тысяч солдат линейных войск и ландвера вкупе с тысячью студентов и ополченцев? Под императорские знамёна призвали даже художников и музыкантов, которые умели обращаться с кистями и тромбонами, но никогда не держали в руках мушкеты.
И всё же если бы венскому гарнизону удалось продержаться хотя бы десять дней, к нему на помощь подошёл бы с главными силами кумир народа эрцгерцог Карл. Неужели император Франц и впрямь в душе завидовал своему брату?
Дома Бетховен подошёл к окну и не поверил своим глазам. Нет, это был не мираж Французы действительно уже подступили к стенам Вены и теперь, как и австрийские солдаты, копошились, подобно пчёлам, и рыли землю, словно неутомимые кроты. В городе строили редуты и баррикады, а на одной из его окраин французы по непонятной для Бетховена причине строили дом. Мундиры и шлемы с шишаками ярко сверкали в лучах заходящего солнца, с земли поднимались клубы пыли от штукатурки. Изредка слышались резкие хлопки, после чего один из солдат непременно вскидывал руки, как бы протягивая их к солнцу, и тяжело оседал вниз.
Проклятая война!
Вскоре город погрузился во тьму, прорезаемую светом факелов. Про сон стоило сегодня забыть. Может, вернуться к любимому занятию? Он вынул из секретера набросок «Прощальной сонаты» и отметил на ней день отъезда эрцгерцога Рудольфа.
Соната должна была состоять из трёх частей: «Прощание», «Время разлуки», «Встреча».
Бум!.. Бум!..
Нет, в эту ночь можно только продолжить работу над учебным пособием, которое он взялся составить для принца. В него должны были войти отрывки из сочинений Фукса, Кирнбергера, Тюрка, Филиппа Эмануэля Баха и из других доставивших ему столько мучений учёных трудов. Многое уже устарело, кое-что он сам отбросил за ненадобностью, ибо время никогда не останавливается.
За окнами каким-то ядовито-резким светом занимался новый день. Или это было что-то другое?
Раздался страшный грохот и треск. Дом, казалось, покачнулся. В оконных стёклах сверкнули красноватые вспышки. Стреляли то ли десять, то ли двадцать, а может, больше гаубиц. Вылетевшие из их жерл ядра уже пробили брешь в городской стене.
Кто-то распахнул дверь с безумным воплем:
– Немедленно спускайтесь в подвал! Мы оказались на линии огня, и снаряды могут залететь к вам в комнаты!
Видимо, сосед говорил совершеннейшую правду, и на какое-то мгновение Бетховен ощутил безумное желание узнать, что может учинить смертоносный снаряд в его квартире, показавшейся сейчас вдруг живым существом, которому не оставалось ничего другого, кроме как терпеливо ждать уготованной ему людьми участи.
Но его ноты, рукописи!
Его охватила дикая паника. Новый залп, нарастающий гул, ухающий разрыв и оглушительный треск. Он не мог оттащить свои нотные записи в подвал, для этого уже не было времени.
Но внутренний голос подсказал ему: нужно спасти нечто гораздо более ценное.
Взрыв сотряс дом, на пол со звоном посыпались осколки.
На лестнице он замер, беспомощно вертя головой. Что же он держал в правой руке? Ну хорошо, в левой он нёс свечу, а в правой... подушку!
Ну да, конечно, свыше тридцати лет минуло с тех пор, когда в Бонне в замке вспыхнул пожар, и тогда люди тащили из домов совершенно бесполезные и ненужные вещи. Так, может, ему выбросить подушку?
Вновь послышался угрожающий гул, завершившийся страшным грохотом. Осторожно, чтобы не выронить свечу, Бетховен стал спускаться по лестнице. Он поступил очень разумно, взяв с собой именно подушку. Она спасёт ему остатки слуха...
В подвале пахло плесенью, глаза щипало от сыпавшейся со стен штукатурки. Люди сидели, согнувшись, на ящиках и связках дров, на лицах была полная покорность судьбе. Кое-как одетые дети прятали головы в коленях матерей, их маленькие тела судорожно вздрагивали при каждом разрыве.
Всё-таки страх лишает человека разума! Именно сейчас он вспомнил песню, мучившую его ещё в Бонне. Все попытки аранжировать её потерпели полный крах. А теперь в его воспалённом мозгу под гром пушечных залпов вдруг зазвучало: «Радуйтесь Божьим знамениям, ибо прекрасны они...»
Ещё залп!
Неужели он сошёл с ума?
«Три произведения («Фиделио», «Христос на Масличной горе», «Месса до мажор») уже отосланы, теперь я хотел бы, разумеется, чтобы мне выплатили гонорар раньше, чем они прибудут в Лейпциг, так как я крайне нуждаюсь в деньгах...»
Он подчеркнул последние слова жирной чертой.
«...более того: мы нуждаемся в них гораздо больше, чем обычно, и виной всему проклятая война...»
Но всё было под большим вопросом. Неизвестно, прибудут ли его сочинения в Лейпциг, где находилось издательство музыкальной литературы «Брайткопф и Хертель». И даже если такое произойдёт, найдут ли там в столь трудное время возможность напечатать его произведения? И между прочим, проклятая война могла кончиться даже скорее, чем он успеет дописать фразу.
Завоёванная Вена должна была заплатить помимо двух миллионов гульденов ещё два миллиона франков, поставить Франции сто пятьдесят аршин полотна и двести тысяч аршин другой ткани. Нужно было срочно раздобыть спальные принадлежности для сорока тысяч человек и накормить лошадей овсом, коего требовалось семьдесят тысяч осьмин. Требовалось также десять тысяч вёдер вина, дабы утолить жажду господ офицеров. Для выполнения этих условий все владельцы домов и квартиранты обязаны были в принудительном порядке подписаться на заем.
Война выявила великое множество негодяев, которые зачастую вели себя гораздо более подло и мерзко, чем упоенные победой враги. Многие из них путём различных спекуляций подняли цены на хлеб до немыслимых высот и, без зазрения совести торгуя им, осеняли себя при этом крестным знамением. Внезапно пропали не только золотые и серебряные, но даже медные монеты. Оставалось только предположить, что бумажные деньги обесценятся быстрее, чем захудалый медный крейцер.
Проклятая война!.. Ведь в Асперне орлы корсиканца были уже ощипаны. В панике махая покрытыми пылью крыльями, они слетелись на расположенный посреди Дуная остров Лобау и напоминали теперь не гордых птиц, а жалких, попавших в ловушку крыс, которых только широкая полоса воды спасала от полного уничтожения.
Но почему же тогда император Франц не приказал атаковать их? Странно, очень странно. Неужели Цмескаль прав, утверждая, что он категорически запретил предпринимать какие-либо решительные действия? Но почему? Из зависти к брату? Или потому, что слепо следовал советам своего окружения? Во всяком случае, нельзя было не обратить внимания на слишком поспешную капитуляцию Вены. В июле французские офицеры вновь с наглыми улыбками прогуливались по её улицам.
Такова была расплата за кровопролитную битву при Ваграме[88]88
...после битвы при Ваграме... — 5—6 июля 1809 г. у селения Ваграм около Вены французские войска разбили австрийскую армию эрцгерцога Карла, и Австрия заключила перемирие, а затем Шёнбруннский мир.
[Закрыть], в которой эрцгерцог Карл потерпел поражение лишь потому, что у него оказались связаны руки. После перемирия в Знайме, окончательно развеявшего последние надежды на продолжение сопротивления, он сложил с себя полномочия главнокомандующего, и Наполеон вновь торжественно въехал в Вену. Судя по выражению его лица, он чувствовал себя повелителем Европы. Впрочем, так оно и было на самом деле.
Но самым непостижимым был рассказ о поведении императора Франца, которому совершенно не хотелось верить и о котором многие говорили, что это даже больше чем правда. Якобы он после битвы при Ваграме, радостно потирая руки, заявил: «Разве я не говорил вам, что конец будет именно таков? Теперь мы со спокойной душой можем вернуться домой».
Вот так себя повёл император Австрии и глава Священной Римской империи германской нации.
В один из августовских дней из заполонивших кухню Бетховена клубов дыма словно призрак возник директор театра Хартль со следующим предложением:
– А почему бы вам не написать музыку к сцене в пещере из «Макбета»? Ту, где ведьмы готовят своё варево. Чем здесь так воняет?
– Вы полный невежа, Хартль. – Бетховен, ковырявший вилкой в огромной сковороде, оскорблённо вскинул голову. – Я готовлю изысканное блюдо – жареную печень сдохшей французской лошади. Наш пострел, который везде поспел, я имею в виду Цмескаля, оказывается, располагает нужными связями даже на живодёрне. Вы хоть можете мне сказать, Хартль, сколько времени нужно готовить лошадиную печень? Час или два? Я жарю её уже полчаса, но она становится всё жёстче и жёстче.
– Похоже на маленькую чёрную змейку, извивающуюся в жире, – глубокомысленно произнёс Хартль и, приложив к губам набалдашник из слоновой кости, склонился над сковородой. – Это колёсная мазь?
– Возможно. А почему вы так стараетесь улучшить моё положение? Из симпатии ко мне?
– Мой дорогой, славный...
– Оставьте, Хартль! – с ехидством в голосе перебил его Бетховен. – Я прекрасно знаю, чем кончаются такого рода кантилены. И потом, лестью я сыт по горло. Скажите лучше, я должен буду играть или дирижировать бесплатно? Или от меня требуется ещё что-нибудь?
– Второго сентября академия...
– Концерт? В какое время?
– Я собираюсь устроить представление в пользу бедных актёров, вдов, сирот и ветеранов нашего Венского театра. Поймите, Бетховен, сейчас у французов очень много...
– ...награбленных денег. Довольно убедительный довод.
– Может быть, даже удастся убедить императора Наполеона милостиво согласиться занять ложу... Надеюсь, вы меня понимаете.
– Неплохая идея. – Глаза Бетховена сузились и полыхнули злым огнём. – А как насчёт программы?
– Всё на ваше усмотрение.
– Даже так? Тогда, может быть, возьмём в качестве прелюдии увертюру к драме Коллина «Кориолан»? Там, помнится, главный герой – изменник. В конце пусть прозвучит моя Пятая симфония, она также весьма поучительна, ну, а в середине как Piece de persistence[89]89
Дух сопротивления (фр.).
[Закрыть] моя «Героическая симфония».
Хартль недоумённо вскинул брови и, видимо, хотел было возразить, но лишь пробормотал маловразумительные слова благодарности и поспешил откланяться. Бетховен проводил директора театра до порога.
– На сей раз я руководствуюсь не слишком благородными мотивами, друг мой. Пока я буду рвать зубами лошадиную печень, поразмыслите хорошенько над программой.
Маркиз де Тремон передал приглашение императору, но Наполеон накануне концерта отбыл в Париж.
Французы предпочли отправиться в Бургтеатр[90]90
Бургтеатр — австрийский драматический театр, созданный в 1774 г. в Вене.
[Закрыть], где труппа одного из парижских театров ставила французские пьесы и оперы, и это, собственно говоря, было в порядке вещей.
Но немцы, которым гораздо более пристало посещать немецкие оперы или концерты немецкой музыки, также толпами устремились в Бургтеатр, показав тем самым, что полностью утратили чувство национального достоинства.
Бетховену пришлось дирижировать перед почти пустым залом. Через несколько дней он зашёл в книжную лавку и убедился, что на её прилавках нет ни одной немецкой книги. Проклятый венский сброд, разом позабывший имена Гёте, Шиллера, Лессинга и Иммануила Канта! Их словно никогда и не было на свете.
Он решил просмотреть свежие номера журналов и зашёл в кофейню. Господа французские офицеры курили, естественно, не доступный для простых смертных хороший английский табак. Изданные их повелителем законы предназначались вовсе не для них.
Теперь и здесь всё было устроено на французский манер. В верхнем углу каждой газеты красовался наполеоновский орёл, а французские офицеры гордо, как петухи, расхаживали между столиками, звеня саблями и шпорами, и преимущественно произносили только одно слово:
– L’empereur! L’empereur!
Бетховен, не помня себя, так сильно ударил кулаком по столу, что на нём подпрыгнули и задребезжали пустые чашки, и заорал, глядя прямо в лицо одному из офицеров:
– Да если бы я разбирался в стратегии так же, как и в контрапункте, вашему императору пришлось бы очень несладко! Я бы уничтожил его!
Французы шумно загомонили, перебивая друг друга:
– Что он сказал?
– Он оскорбил императора?
Один из офицеров поспешил успокоить своих собратьев по оружию:
– Не стоит обращать внимания на слова безумного музыканта Бетховена. – Он поднял бокал с шампанским. – Я пью за победу вашего контрапункта над пушками повелителя Европы!
Все дружно расхохотались, а Бетховен в ярости закричал:
– Я принимаю вызов! Что такое повелитель Европы по сравнению с повелителем всего мира?
Затем он буквально пулей вылетел из кофейни.
Это время называли «смертоносным миром», но, очевидно, оно несло смерть исключительно доброму и хорошему, давая жизнь всему подлому и злому.
Какие надежды он возлагал на своего ученика эрцгерцога Рудольфа! Он так хотел исполнить в Шёнбрунне свои Седьмую и Восьмую симфонии! Ничего не получилось. Помешали интриги и гнусное поведение обоих государей. Император Франц откупился от Наполеона своей дочерью Марией-Луизой[91]91
...откупился от Наполеона своей дочерью Марией-Луизой... – Дочь австрийского государя Франца I Мария-Луиза была выдана за Наполеона в 1810 г.
[Закрыть] и отдал на расправу оккупантам героически сражавшегося с ними предводителя тирольских повстанцев Андреаса Хофера. В свою очередь, король Пруссии предал майора Шиля и его офицеров. В глазах Бетховена они были недостойны звания коронованных особ.
Со слухом дела обстояли всё хуже и хуже. Он уже почти смирился с этим, но теперь дьявол мучил и его тело. Компрессы из волчатника не принесли никакой пользы, равно как и пиявки, которых ему прикладывали за ушами и к животу. Затем доктор Мальфатти, его лечащий врач после смерти доктора Шмида, безапелляционно заявил:
– Пиявки сделали всё, что могли. Увы, но Борей[92]92
Борей — в греческой мифологии бог северного ветра.
[Закрыть] вам лютый враг.
Доктор Мальфатти брал за визиты весьма солидную плату и, наверное, мог придумать что-нибудь получше. В другое время года он, безусловно, возложил бы вину не на северный, а на западный ветер, именуемый Зефиром.
Не прибавила здоровья история с «Эгмонтом». Дирекция Венского театра пожелала создать музыкальное оформление не только для этой пьесы Гёте, но и для «Вильгельма Телля» Шиллера. Бетховен хотел написать музыку именно для неё, но тут ему дорогу перебежал гораздо более известный композитор господин Гировец, и сделал он это исключительно из зависти и подлости. Впрочем, точно так же поступил и камерный композитор[93]93
Камерный композитор – почетное звание в немецкоязычных странах.
[Закрыть] и придворный капельмейстер Сальери, издавший распоряжение, смысл которого уж никак нельзя было истолковать превратно.
Согласно ему, любой музыкант, хоть раз сыгравший произведение Бетховена, подлежал немедленному увольнению из оркестра господина Сальери без права приёма обратно.
От грустных размышлений Бетховена оторвал приход маленькой девочки, которая иногда приносила ему почту.
– Ты пришла с доброй вестью?
– Не знаю.
– Так, одно письмо из Фрейбурга в Брейзгау, значит, от близкого друга, а другое из Кобленца. Спасибо.
– Пожалуйста. – Она с поклоном присела, но не торопилась уходить.
– Ты свободна.
Девочка подёргала за кончики своих косичек.
– А, понимаю, ты хочешь есть, бедное дитя?
– Да.
Бетховен улыбнулся. Он любил детей, ибо они вели себя совершенно естественно, без всякой фальши. К сожалению, взрослея, они овладевали искусством лжи и притворства. Он вскрыл перочинным ножиком первый конверт и перехватил заворожённый взгляд девочки, устремлённый на стоящую на шкафу пёструю фарфоровую конфетницу.
– Возьми из неё сколько захочешь.
Он всегда держал для детей конфеты про запас, но, видимо, не только поэтому маленькие существа совершенно не боялись его.
Перебравшийся в Кобленц Шиндлер наконец-то прислал долгожданные документы.
Читая их, он недоумённо покачивал головой.
Оказывается, ему приписали дату рождения его покойного брата Людвига Марии, и теперь он может смело сбросить два года. Надо же, какой приятный сюрприз.
А что пишет ему бедолага Гляйхенштейн? Бетховен внимательно прочёл письмо, потом ещё раз пробежал его глазами и медленно опустил руку с зажатым в ней листком бумаги.
В своём последнем письме к нему Бетховен просил ничего не скрывать от него, и верный Игнаций именно так и поступил.
Нет, в этом мире у него не будет счастья. Нужно создавать свой собственный мир, преодолевая громоздящиеся на пути препятствия – откровенную вражду многих известных и влиятельных людей, почти полную глухоту, одиночество и ощущение бессмысленности своего дальнейшего земного бытия.
Туман, в котором он все эти годы искал свою «вечно любимую», наконец-то рассеялся.
Вдова графа Дейма ныне носила титул баронессы фон Штакельберг. Конечно, нищий музыкант по сравнению с её нынешним мужем, даже если он, по словам Гляйхенштейна, лицемер и ханжа, кажется полнейшим ничтожеством. Дворянский титул оставался таковым, невзирая на крайне сомнительные подчас методы его приобретения. Фриз стал графом за деньги, нажитые его родителями на торговле с лотка. Если же говорить о российском после графе Разумовском... Известно, что менявшая любовников как перчатки императрица Екатерина II наряду с Салтыковым, Понятовским, Потёмкиным, Орловым и различными лейб-гвардейцами затащила к себе в постель также братьев Разумовских, проявивших такую недюжинную мужскую силу, что её величество сочла их достойными высокого дворянского звания...
Он вскочил как ужаленный и уже хотел было разорвать в клочья, растоптать ногами свою «Прощальную сонату». Ведь именно так он поступил в своё время с титульным листом «Героической симфонии».
Ну нет...
Это был бы чисто детский поступок! Ведь сонату уже выгравировали на меди, хотя и дали ей режущее слух название «Les adieux»[94]94
«Прощания» (фр.).
[Закрыть], поскольку французский дух заползал во все щели... И потом, он же посвятил её эрцгерцогу Рудольфу.
Нет, эту боль не вырвать из сердца и не растоптать ногами.
Отныне у него остались лишь музыка и любовь к человечеству. Правда, он далеко не всегда хранил верность знамени, на котором был начертан этот лозунг. Что ж, он всего лишь человек...
Сильную боль нужно выплакать. Слёзы навернулись на глаза, вызвав из глубин памяти картину далёкого детства. Похоронная процессия, он, робко жмущийся к могильной ограде, и красивая статная женщина с окаменевшим лицом. Госпожа фон Бройнинг, ставшая для него как бы второй матерью, ведёт за руку Элеонору...
Почему-то вспомнились стихи Гёте, к пьесе которого «Эгмонт» он написал музыку:
Он зажёг только одну свечу и разложил вокруг неё книги так, чтобы отблеск падал на чистый нотный лист.
Ведь это касалось только его.
В уме уже родилась мелодия. Аллегро модерато – соль мажор, а голос пусть звучит как трель си...
Ми-ре-си?..
Ну хорошо, а какой для этого голоса должен быть аккомпанемент? Фортепьяно? Нет, оно... оно звучит слишком позёмному.
Ну конечно, конечно, скрипка.
Это будет его истинно «Прощальная соната». Моя вечно любимая женщина. Нет, он ни в чём не упрекает её. Напротив, пусть судьба хранит Жозефину, а он будет вечно благодарен ей.
Поко аллегро! Это внушает надежду и даже придаёт немного уверенности. Нет-нет, не зря ему вспомнились именно эти строки Гёте. Надеяться нужно только на себя, на свою душу, которая с влагой схожа, приходит с неба и взмывает в небо...
Теперь престо.
Изрядно возмужавший Карл Черни недоумённо смотрел на манускрипт, нижние ноты которого были присыпаны песком.
– Что это, маэстро?
– Ну-ка быстро за рояль! – зло выкрикнул Бетховен.
Он отложил манускрипт в сторону, медленно прошёлся взад-вперёд и уже более спокойным голосом произнёс:
– Скажи...
– Да, маэстро?.. – Карл уже сидел за роялем.
– ...Понимаешь, в эти дни в Гевандхаузе[96]96
Гевандхауз – концертный зал в Лейпциге, так же назывались симфонический оркестр и концертное общество.
[Закрыть] впервые будет исполнен мой фортепьянный концерт ре-бемоль мажор, и я подумал, а может, венцы его тоже пожелают услышать. Как полагаешь, кто бы смог его исполнить?
– Никто, кроме вас, маэстро.
– Дурак!
Он заявил это так резко, что Карл понял: маэстро из-за своей глухоты уже не отваживается выступать на концертах.
– Может быть, господин Хуммель, маэстро?
– Которого считают своего рода Папой Римским среди пианистов? Нет, он засел в своём Ватикане, не замечая, что уже обнаружены новые пути, ведущие в Рим. Вольфль? Он играет исключительно Моцарта, а при всём моём уважении к гениальному композитору я бы всё-таки хотел ощутить в моём произведении частицу собственного духа. Ну напряги же свои молодые мозги, Карл. Выходит, ты никого больше не знаешь?
– Нет...
Наивное дитя! Даже не заметил в разговоре, что выбор учителя уже давно пал именно на него.
Бетховен вынул ноты фортепьянного концерта и начал лихорадочно перелистывать их.
– Естественно, технически это довольно сложно. – Он разложил перед Карлом на пюпитре ноты. – Ты исполнишь его!
– Я, маэстро? Но не на концерте же?
– Именно на концерте, если таковой состоится. Должна же мне быть хоть какая-то выгода или я напрасно так долго мучился с тобой? Начали!
Карл Черни набросился на клавиши, как хищный зверь на добычу, и уже после первых аккордов на лице Бетховена появилась довольная улыбка:
– Подожди, не торопись, мой мальчик. Никто не займёт твоё место, и потому играй спокойнее. Не забудь: первая партия – это героическая песня о победе сил добра, справедливости и красоты, которую мы, творцы искусства, должны всегда и всюду возвещать. Вообще даже с точки зрения композиции концерт проникнут революционным духом. Помни: начинаешь с импровизации. Ещё раз начали... Хорошо, но пусть звучит ещё торжественней, ещё бравурней.
Они так увлеклись, что даже не заметили появления Цмескаля, и граф был вынужден, деликатно кашлянув, напомнить о своём присутствии.
– Должен сообщить вам, что в Гевандхаузе фортепьянный концерт ре-бемоль мажор исполнил Иоганн Шнейдер...
– Кто такой?
– ...и даже «Всеобщая музыкальная газета» была вынуждена признать... Вот послушайте. – Он вынул из кармана газету и нараспев прочёл: – «...что этот концерт привёл многочисленных слушателей в неописуемый восторг». Словом, полный успех. Поздравляю! Поздравляю! – Он отложил газету и радостно всплеснул руками: – Надеюсь, господин композитор не забыл, что я самолично отточил гусиные перья, коими он писал ноты для концерта, и сделал это с особым тщанием? Когда мы услышим его в Вене?
– Вот именно, когда? Я уже два раза напрасно предлагал его. Но ничего, когда-нибудь у публики будет возможность сравнить прослывшего виртуозом господина Иоганна Шнейдера с моим любимым учеником Карлом Черни.
– Ну всё, мне пора. – Цмескаль помахал свёрнутой в трубочку газетой. – Я её вам после занесу.
– Куда изволите направить свои стопы, граф-обжора?
– На встречу с Фризом, Лобковицем и Разумовским. Пусть знают, что мои гусиные перья – самые лучшие.
Он захлопнул за собой дверь, но тут же вновь приоткрыл её, и по полному, с обвисшими щеками лицу расплылась довольная улыбка.
– Удача, как и беда, не приходит одна. Почтмейстер просил передать: господину ван Бетховену поступил денежный перевод на весьма солидную сумму.
– От Колларда-Клементи? Двести фунтов, которые я уже отчаялся дождаться?
– Именно так.
– Тогда я, учитывая нехватку денег и падение курса на бирже, просто самый настоящий набоб, – сказал Бетховен и прищурился, будто целясь неизвестно в кого. – Кажется, счастье вдруг нашло меня. Уж не знаю, стоит ли опасаться новых ударов судьбы?
Его всё время, как корку, выбрасывало на поверхность, словно кто-то не желал дать ему утонуть. Теперь следовало подвести некоторые итоги. Он отдал в театр партитуру музыки к «Эгмонту» и почти завершил работу над Седьмой симфонией. Оставалось выполнить заказ «венгерских усачей из Пешта» и написать музыку, посвящённую торжественному открытию там нового театра. Не отличавшийся изяществом слога, довольно пошловатый текст под претенциозным названием «Афинские развалины» принадлежал перу господина фон Коцебу[97]97
Коцебу Август (1761 – 1819) – немецкий драматург, один из самых плодовитых писателей, автор многих исторических пьес, комедий, которые благодаря сентиментальному и морализаторскому духу пользовались большим успехом, чем драмы Гёте и Шиллера. Был убит студентом Зандом.
[Закрыть].
Зря, конечно, он не проявил твёрдости и согласился принять этот заказ, но, с другой стороны, далеко не всегда нужно показывать характер. Заказ устроили ему друзья, искренне желавшие Людвигу ван Бетховену только добра, а господин фон Коцебу как драматург добился, к сожалению, гораздо большей известности, чем Гёте и Шиллер, вместе взятые.
А он как раз пытался положить на музыку стихотворение Гёте «Ты знаешь край».
Бетховен изменил последовательность аккордов и начал импровизировать.
Внезапно чьи-то женские руки, прохладные и вместе с тем на удивление приятные, закрыли ему сзади глаза.
Жозефина? Нет, точно не она.
Он крепко вцепился в эти ладони и резко повернулся.
– Кто вы?
Огромные карие глаза озорно сощурились. Почему она так фамильярно ведёт себя? Девушка была ему совершенно незнакома. Она держалась непринуждённо, словно у себя дома, сняла шляпу, небрежно бросила её на рояль и тряхнула головой, распуская по плечам длинные волосы. Красивое лицо сохранило по-детски невинное выражение, хотя, несомненно, ей было уже за двадцать. В своём длинном белом плаще она показалась Бетховену сиреной, очарованию которых, как известно, противиться почти невозможно.
– Как вы думаете, кто я? Нет, вряд ли вы догадаетесь, господин ван Бетховен. Я Беттина Брентано.
– Ах вот как!..
Это имя было ему хорошо знакомо. В доме покойного надворного советника Биркенштока, теперь принадлежавшего Брентано, он провёл незабываемые часы.
– Значит, вы фрейлейн Беттина Брентано из Франкфурта? Решили посетить Вену? Замечательно...
– Ну зачем так официально! Мои друзья обычно называют меня просто Беттиной, а мой лучший друг Гёте именует «дитём». Вы тоже можете так меня называть, господин ван Бетховен.
Ну да, конечно, с её детским личиком... Тем не менее довольно странное желание для уже взрослой девушки.