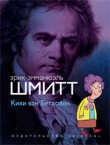Текст книги "Аппассионата. Бетховен"
Автор книги: Альфред Аменда
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 28 страниц)
Он писал и писал, стремясь выразить на бумаге одолевавшие его душевные и телесные муки. Сколько ему ещё осталось? Год? Нет, так долго он не выдержит. Так, может быть, самоубийство было бы наилучшим выходом?
Он напрягся, стиснул зубы и подписал:
«Хейлигенштадт
6 октября 1802
Людвиг ван Бетховен».
Затем он капнул на бумагу горячим воском и приложил к нему свою печать.
Итак, он снова поселился в Вене, на этот раз на Петерсплац, рядом с караульным помещением. Естественно, его пристанище располагалось на самом верхнем этаже.
Холодный ноябрьский дождь выплёскивался из сточных желобов, крупными каплями стекал по оконному стеклу. Площадь покрылась первым лёгким снежком.
Состояние его слуха равномерно, с дьявольской точностью, ухудшалось. Он стремился трудиться вдвое больше, чем обычно, чтобы полностью использовать оставшееся до рокового часа время.
Его «Героическая симфония»! Сколько он уже размышлял о ней, сколько ломал голову. Увы, но произведение искусства и размышления о нём суть разные вещи.
Тем не менее он не мог упрекнуть себя в безделье. На рояле и полу музыкальной комнаты громоздилось множество композиций. Кое-какие из них Карлу уже удалось пристроить.
Никаких записей относительно своих дел он не вёл. Зачем? После скрипичной сонаты в соль мажоре с оркестром он написал ещё скрипичную сонату в фа мажоре. А может, наоборот? У него была плохая память на даты. Гораздо лучше он запоминал тональности. Тут он наткнулся на фортепьянную сонату, копию которой хотел послать Жозефине. Пусть не опасается, что со слухом у него стало совсем плохо.
Правда, теперь он воспринимал только прежний уровень. Ля-бемоль мажор? Именно в этой тональности он напишет скерцо, превратив ритм в самую настоящую вакханалию, чтобы она явственно ощутила его бодрость и уверенность в себе.
Перо вывело на листе жирную ноту, и в тот же миг за окном послышался медный перезвон. Как обычно, в полдень ударили колокола в соборах Святого Петра и Святого Стефана.
Он встал и подошёл к окну. С высоты птичьего полёта люди на Петерсплац походили на крошечных букашек. Если бы они вдруг спросили его, почему он выбрал такую неудобную квартиру на четвёртом этаже в доме между двумя колокольнями, где ежедневно регулярно звонили на рассвете, в полдень и вечером?.. Что бы он им тогда ответил?
Этот звон утешал и вдохновлял его. Перед силой колоколов расступалась незримая стена, отделявшая его от мира.
Он глубоко вздохнул и вдруг даже задрожал от радости. Как же всё-таки здорово заручиться помощью таких могучих неодолимых союзников.
Квартира была в новом доме, принадлежавшем купцу Циттербарту. Тот, обладая огромным количеством денег, не проявлял к ним особого интереса, отдавая предпочтение театру, в котором ровным счётом ничего не понимал. Его причудой умело воспользовался наделённый коммерческой жилкой автор либретто «Волшебная флейта» господин Шиканедер. Он посоветовал купцу вложить несколько сот тысяч талеров в строительство нового венского театра.
В ушах сатана, блюдя традицию, вновь устроил адский шум. Бетховен принялся нервно расхаживать взад-вперёд. В комнате постепенно становилось темно. Ему очень нравился полумрак – ведь именно тогда начинали пробуждаться боящиеся света совы.
Очевидно, его сегодняшние ожидания были совершенно напрасными. Шум в голове заглушал остальные звуки, однако внезапно ему почудился какой-то сигнал. Словно где-то совсем рядом прозвучало нечто похожее на хорал. Он прислушался, и выражение лица его стало надменным. Теперь он сможет прорваться даже сквозь рёв Левиафана.
Только тихо! Осторожно, очень осторожно, чтобы ничего не пропустить мимо ушей! Вроде бы сатана на какое-то время оставил его в покое.
До мажор? Нет... нечто схожее с хоралом, но лучше в тональности ля мажор?
Осторожно, крайне осторожно, пусть он ничего не слышит, пусть, достаточно просто суметь выбрать нужный аккорд.
Он повторил: ля – ми – до-диез – ля! Затем пьяно[58]58
Тихо (ит.).
[Закрыть]: соль – фа-диез, соль – си!.. Звуки из сочинения Родольфа Крейцера, которому он хотел посвятить свой опус?.. Итак, скрипка как бы с трудом играет мелодию, затем соло на рояле.
Теперь ему был нужен свет, чтобы записать нотные знаки, огненными письменами ярко вспыхнувшие у него перед глазами.
Хорошо, пусть будет хорал, если вам так угодно назвать его! Нужно достойно встретить вызов, а потом...
Он никак не мог решиться, долго стоял в раздумье, и на это были достаточно веские основания.
А может, просто набраться мужества и изо всех сил ударить в мерзкую рожу того, кто вновь вежливо постучал в его голову. Пусть это даже сам сатана!
Престо!.. Раллентандо![59]59
Быстро, постепенно замедляя ритм (ит.).
[Закрыть]
Ещё раз! И ещё раз раллентандо с фортепьянным кадансом, который он уж точно исполнит на концерте!..
Злобный дьявол-мучитель заблуждается, если думает, что ему удалось одержать над композитором победу! Нет, ничего у него не получится! Итак, заново! Престо! Крещендо[60]60
Постепенно усиливая звук (ит.).
[Закрыть]! Сфорцандо[61]61
Внезапно усиливая громкость (ит.).
[Закрыть]! Сфорцандо! Нет, рояль играет слишком медленно! Тогда пусть будет скрипка! На ней исполнит сфорцандо! Аккорд, а затем пиццикато[62]62
Игра щипком на смычковых инструментах (ит.).
[Закрыть]! И ещё раз сфорцандо!..
Тут вторая часть молнией сверкнула перед его глазами. Клубок постепенно распутывался сам собой. Это будут прекрасные вариации, а уж третья часть...
Гм, неплохая мысль. Он заимствует её из Шестой сонаты для скрипки, которую собирался посвятить российскому императору. Однако она показалась чересчур помпезной. Да, попытка была неудачной. Он даже крейцера не заработал.
Внезапно Бетховен почувствовал себя совершенно разбитым. Правда, внутри всё дрожало и звенело, как натянутая струна, но Бетховен знал, что это скоро кончится и тогда он будет лежать неподвижно и даже слова не сможет сказать. Эдакий бессловесный, бесполезный чурбан.
Ничего не поделаешь, он уже наполовину оглох, и душевный порыв, заставивший его, подобно Прометею, красть у богов огонь, обернулся изрядно досаждавшими ему в последнее время желудочными коликами. Интересно, в них тоже есть какой-то тайный смысл?
Он подошёл к окну как раз в тот момент, когда мимо с гордым видом проходил Карл Черни. Видимо, он шёл к пекарю.
– Эй, бездомный щенок, ну-ка поднимись ко мне!
На пороге мальчик вежливо поздоровался:
– Доброе утро, маэстро.
– Для меня оно началось ещё вчера вечером. У тебя хорошие ноги?
– Куда прикажете сходить, маэстро?
– И ты не боишься Чёрного человека?
– Кого-кого?
– Скрипача Брайдтауэра. Он ведь мулат. Сбегай в «Золотой гриф» и вытащи его из постели за смуглые ноги, а потом схвати за курчавые волосы так, как я хватаю тебя сейчас за твои космы, и приволоки сюда, понял? Он должен опробовать новую скрипичную сонату для нашего концерта. Можешь также присутствовать.
– И слушать, маэстро?
– А как же? Или ты хочешь полировать смычок господина Брайдтауэра? Мне очень важна твоя оценка, Карл. Сегодня ночью я написал скрипичную сонату для Родольфа Крейцера, вот мы её и вставим в концерт. Как, ты ещё здесь?
Зал в Аугартене был переполнен. Музыкальные утренники, начинавшиеся обычно в восемь часов, пользовались огромной популярностью. Был прекрасный солнечный майский день, и публика валом валила на концерт, привлечённая славой молодого скрипача-мулата Джорджа Брайдтауэра, которого газеты называли «любимцем лондонских салонов».
От кружившихся вокруг его имени слухов веяло жарким дыханием африканской саванны, где бродили стада жирафов и слонов, а по ночам всё заглушал свирепый львиный рёв. Отец Брайдтауэра был самым настоящим негром, а мать – белой женщиной. Принц Уэльский отправил своего концертмейстера в отпуск, чтобы тот принял целебные ванны в Теплице и Карлсбаде. Заодно чернокожий виртуоз посетил Вену. Сейчас этот среднего роста мулат с подчёркнуто скромным видом стоял на подиуме. Его грустные глаза с бесконечной тоской смотрели куда-то вдаль.
Вот он несколько раз прошёлся пальцами по скрипке и крепко прижал её к подбородку.
Но Бетховен выжидал, лишь заметив внизу какое-то движение, провёл одной, потом другой рукой по всклокоченным волосам. Затем он поймал взгляд Жозефины и многозначительно улыбнулся, давая понять, что сегодня они играют для неё.
Жозефина согласно кивнула.
Глаза Бетховена расширились, потемнели, и он сделал знак скрипачу.
От напряжения его лицо исказила судорога. Он глубоко вздохнул.
Из-под пальцев плавно полились звуки. Он выдержал, он смог преодолеть себя, и теперь нужно приготовиться к безумной охоте за мелодиями.
Так, теперь раллентандо... Он играл совершенно раскованно, забыв о своём недуге, он был весь порыв вперёд. Его могучие, похожие на звериные лапы руки то с силой ударяли по клавишам, то, наоборот, ласково прикасались к ним. Что там себе позволяет этот субъект со своей скрипкой? Почему он никак не угонится за ним? Ну наконец-то чернокожий понял, как надо играть. Это на репетиции он мог позволить себе лениться, а на концерте...
Маленький Карл Черни стоял прислонившись к стене. Рядом на стуле сидел его отец.
– Батюшка...
– Тише, Карл, чего тебе?
– Батюшка, вон там, – мальчик вытянул дрожащую руку, – мой учитель. Он всё это сам сочинил... А я его ученик...
– Я знаю, Карл.
– Батюшка, мой учитель вчера очень хвалил меня, и между собой... мы называем его сочинение «Крейцеровой сонатой».
Раздражённые взгляды отнюдь не смутили мальчика. Через какое-то время он начал снова:
– Сейчас учитель закончит, и тогда...
Его глаза засверкали, он заранее сблизил ладони, чтобы зааплодировать первым.
Внезапно он замер, недоумённо поводя головой: хохот, свист и улюлюканье заглушили несколько хлопков.
– Батюшка... они же смеются над ним.
Рядом кто-то с откровенной издёвкой произнёс:
– Мой свояк Моцарт никогда не позволил бы себе написать такую чушь.
Другой не менее издевательским тоном сказал:
– Это всё, наверное, потому, что он наполовину глухой и не может уследить за звуками. Мы должны громче смеяться и свистеть, иначе он не услышит.
Князь Лихновски смущённо взглянул на Цмескаля, тот в ответ лишь беспомощно пожал плечами, и только Франц Брунсвик знал, что нужно делать.
Он ловко вспрыгнул на подиум, одёрнул венгерку, ободряюще похлопал по плечу Брайдтауэра, низко поклонился Бетховену и заключил его в объятия.
От неожиданности в зале смолк шум. Через несколько минут в тишине особенно отчётливо прозвучал надменный женский голос:
– Франц!
– Да, Жозефина?..
– Я хочу только сказать, что горжусь тобой, Франц.
Карл ван Бетховен пришёл к единственно возможному, по его мнению, выводу: Людвиг так и останется наивным мальчиком, ничего не понимающим в этом мире, и потому за все его дела возьмётся он, Карл, надежда их семьи, а ныне старший сборщик налогов его императорского и королевского величества, с патентом, скреплённым гербовой печатью. Вот так-то! Иоганну же дальше аптекаря не продвинуться.
Нет, Людвиг у них, конечно, гений, но уж больно непутёвый. На что он только тратит свою воистину драгоценную жизнь?! Сперва мечтал сочинить оперу, воплотившую бы в себе идеалы человечества. Нет чтобы написать оперу, которая принесла бы хороший доход. Оказывается, на такие уступки он не способен.
А теперь ещё полный провал с сонатой для скрипки ля мажор, посвящённой Родольфу Крейцеру. Что за вздорная мысль заменить скрипкой и пианино целый оркестр!
Он пробежал глазами нотные листы «Крейцеровой сонаты» и тяжело вздохнул. Он, Карл ван Бетховен, сочинит её заново, невзирая на весьма обременительные обязанности чиновника на императорской службе.
А как прикажете поступить? Как бы там ни было, но Людвиг его брат, а братья должны помогать друг другу. Издатель Зимрок в Бонне уже проявляет нетерпение, но предложить ему можно лишь изменённый вариант скрипичной сонаты, а может быть, симфонию, и то при условии, что Людвиг заставит себя написать её.
Карл взял чернильницу, бумагу и перо.
Как же обратиться к издателю?
Зимрок, правда, знал братьев Бетховен, когда они ещё бегали с сопливыми носами, но теперь Карлу, как старшему сборщику налогов, надлежит держать дистанцию, и потому лучше обратиться к нему по всем правилам этикета.
Он вывел первую фразу, и перо сразу же легко побежало по бумаге.
«Глубокоуважаемый господин!
В настоящий момент фортепьянные концерты, как, впрочем, и инструментальные произведения, аранжируются под надзором весьма одарённого композитора. Последние уже вполне пригодны для исполнения на фортепьяно как под аккомпанемент, так и соло...»
Сзади кто-то спросил:
– Скажите, господин ван Бетховен здесь?
Карл медленно повернулся. Его лицо приняло недовольное выражение. Он нарочито медленно поигрывал цепочкой своих золотых часов.
– Нет, его здесь нет.
Право, этот Стефан фон Бройнинг вконец обнаглел. Можно подумать, что на свете есть только один Бетховен.
Игнаций фон Гляйхенштейн, друг и почитатель Бетховена, познакомивший с ним Бройнинга, подтверждающе кивнул:
– Что я тебе говорил, Стефан? Он, конечно, забыл. Сейчас он, наверное, у Цмескаля или даёт уроки. Мы условились с художником именно на этот час. Господин ван Бетховен согласился ему позировать. Ну ничего не поделаешь, в полдень придём ещё раз.
– Меня это не касается, – холодно бросил в ответ Карл ван Бетховен, – но должен предупредить, что в настоящее время ни о каком позировании даже речи быть не может.
– Но почему? – недоумённо спросил Бройнинг.
– Потому что мне и моему брату придётся много и напряжённо трудиться. Нам нужно переделать его скрипичную сонату ля мажор и другие сочинения.
Стефан фон Бройнинг на мгновение задумался, а потом расхохотался во весь голос:
– Не смешите меня, господин старший сборщик налогов. Или вы чрезвычайно много возомнили о себе, или, наоборот, у вас в голове чего-то не хватает. Мне трудно судить...
– Господин фон Бройнинг!
– Господин старший сборщик налогов! Вы уже расставили свои рисовальные принадлежности, господин живописец?
Они не спеша удалились. Карл ван Бетховен мрачно посмотрел им вслед, дописал письмо и запечатал конверт. Потом он тщательно застегнул мундир, ибо считал должным являться на почту в подобающем для императорского чиновника виде. Ничего хорошего он от брата не ждал. Как известно, неблагодарность правит миром.
Он предугадал реакцию брата на своё великодушное предложение. И хотя он ни словом не упомянул о письме господину Зимроку, а лишь тактично намекнул на свою готовность снять с плеч любимого брата бремя непосильного труда, Людвиг тут же швырнул ему в голову ключом. Так он недавно поступил и с кельнером в ресторане «Лебедь».
Но перед ним он хотя бы извинился позже. Его, Карла, он к тому же обозвал «судебным исполнителем, страдающим манией величия».
Ну как можно быть столь невоздержанным на язык?
Да неужели он не понимает, что в таком виде сонату не будет исполнять даже сам Крейцер, которому она, собственно говоря, и посвящена. Профессор Парижской консерватории и личный концертмейстер Бонапарта уже «вежливо поблагодарил и отказался». Об этом Карлу стало известно из совершенно надёжных источников. А ведь требовалось внести всего лишь незначительные исправления.
Интересно, чувствует ли себя Людвиг лучше, переехав к Бройнингам? Они занимали две квартиры с общим коридором и обходились одной кухаркой. А ведь Людвиг болен, тяжело болен, и ни один врач пока не в состоянии установить причину болезни. Пациента почему-то лихорадило, но к утру он обычно успокаивался, а вечером всё начиналось заново. Порой его состояние внушало самые серьёзные опасения. Но он, Карл, знал об этом только по слухам или от Иоганна, который в аптеке иногда ему выписывал рецепты. Да, Людвига никак нельзя было назвать настоящим братом.
Между тем ситуация складывалась очень тревожная. Утренние визиты доктора Шмида завершались обычно довольно туманными речами о кризисе, после которого якобы больной или пойдёт на поправку, или... Ко всему прочему, Людвиг остался в квартире один. Он никого не терпел рядом с собой, ибо не желал, чтобы знали, что он серьёзно болен. В лучшем случае он пускал к себе юного Карла Черни. Гляйхенштейн уехал, Цмескаль, равно как и Бройнинг, целыми днями пропадал на службе.
– Маэстро! Я прошу вас, дорогой маэстро!..
– Ты ведёшь себя неразумно, Карл, хотя я очень люблю тебя! – Голос Бетховена был подобен раскату грома. – Пойми, если мертвецы не придут ко мне, я буду вынужден сам отправиться к ним.
Карл Черни задрожал от страха. Эти страшные речи и сам маэстро, спокойно, с достоинством готовящийся пойти к мертвецам. Нет, пока он неторопливо надевает халат, нужно ринуться вниз по лестнице и...
Температура явно повысилась, и маэстро просто бредил. Хоть бы скорее пришли господин фон Бройнинг или господин Цмескаль.
– Карл!.. – Голос Бетховена прозвучал резко и требовательно. – Ты ведь хочешь стать настоящим музыкантом, не так ли? В высшей степени безумное желание, Карл. Выбери себе лучше другую профессию. – Бетховен прищурился. – Небось думаешь, что я это в бреду говорю? Угадал, мальчик. Тем не менее я полностью отдаю себе отчёт в своих словах и потому хочу преподать тебе маленький урок. Ты боишься меня? Запомни, с этого всё и начинается. Истинно великие музыканты всегда внушают страх, ненависть или презрение. Уж поверь мне, ты сам будешь в тягость. – Бетховен вздохнул и сел за рояль. – Для меня сейчас главное – найти нужную октаву. Подожди, кажется, я её нашёл.
– А что вы вообще ищете, маэстро? – осторожно спросил мальчик, желая отсрочить жуткое событие.
– Странный вопрос. Может быть, тень, блуждающую в царстве мёртвых. А может, и нет. Кто мне ответит? – Он рассмеялся. – Ты снова боишься, Карл, не отрицай, боишься. Истинный талант должен непременно поддерживать отношения с мертвецами и даже с самим сатаной, какое бы обличье он ни принимал.
Он заиграл, напевая скрипучим голосом «Прощальную песню»:
– «La victoire en chantant nous ouvre la barriere». Нет, преграды остаются! Даже вам, достопочтенный адмирал Горацио Нельсон[63]63
Нельсон Горацио (1758—1805) – английский флотоводец, вице-адмирал, одержал ряд блестящих побед над французским флотом, среди них при Абукире и Трафальгаре (где он был смертельно ранен).
[Закрыть], не суждено приказать канонирам на «Виктории» пушечным огнём смести все преграды.
Он пренебрежительно махнул рукой, как бы показывая, что ему неприятны дальнейшие рассуждения на эту тему.
– Разумеется, мне известно, что вы погибли в морском бою. И мы – надеюсь, вы понимаете меня, адмирал? – когда-нибудь встретимся на мосту между жизнью и смертью. Впрочем, нет, «Chant du depart» никак не может стать для нас связующим звеном, ибо вы принадлежали к враждебному лагерю. Но разве для нас троих это имеет значение? Я имею в виду Бонапарта, вас, Горацио Нельсон, и себя, Людвига ван Бетховена. Зачем вам примыкать к какому-либо лагерю?
Карл Черни в ужасе зажал рот руками.
Внезапно Бетховен застонал, оскалил зубы и как разъярённый зверь набросился на рояль. Рамм!..
– Вот, вот каким должен быть заключительный аккорд. – Его грудь вздымалась, как кузнечные мехи. – Я нашёл решение! Повторяю!
Он сыграл ещё раз заключительный аккорд, внимательно прислушиваясь к звукам.
– Вот... вот... вот, наконец выстраивается мост... Рамм... та-та-та-тара... Рамм!! Татата-тарара... Карл, ну-ка быстро зажги свечи! Неси скорее нотную бумагу и карандаш! Почему у тебя так дрожат руки, дурачок? Боишься света? Держи подсвечник выше, ещё выше! Ещё два-три нотных знака, и всё.
Он ещё раз сыграл мелодию.
– Что это, маэстро? – еле слышно спросил Карл.
– Разве я тебе не сказал? Извини, мой мальчик. Это начало траурного марша из «Героической симфонии».
На следующий день, как обычно, с визитом пришёл доктор Шмид.
– Бетховен, вы что, совсем утратили разум?
– Очевидно, ещё нет, – с несвойственной ему мягкостью ответил Бетховен. – Иначе я не сидел бы здесь.
Он приложил к уху слуховой рожок, едва не упёршись огромным раструбом в лицо врачу, и нетерпеливо спросил:
– Вы хоть знаете, как по-латыни называется моя болезнь?
– Бросьте валять дурака!
– Ах, вот как вы называете мою любознательность! Тогда я в отместку выброшусь из окна.
– Чёрт бы вас побрал, Бетховен.
– Он этого даже с вашей помощью не сделает, господин профессор, – скорбно вздохнул Бетховен.
Сейчас они походили на двух собак, скалящих зубы и угрожающе рычащих друг на друга.
После ухода врача Бетховен вытащил черновые записи Третьей симфонии. Их уже Накопилось достаточно. Кое-что могло пригодиться, остальное пойдёт только на растопку.
Странно, что, несмотря на лихорадочное состояние, заметки были написаны чётким и ясным почерком, словно он находился в здравом уме и твёрдой памяти. Он вспомнил, что называл Горацио Нельсона покойником. Действительно, ходили слухи, что он погиб в битве при Абукире, но ведь с тех пор прошло уже несколько лет. В его воспалённом воображении всё перемешалось – битва при Абукире, слухи о смерти прославленного флотоводца и недавно опубликованное в газетах сообщение о том, что он вывесил свой адмиральский флаг на «Виктории».
Вдруг его охватило беспокойство, сменившее прежнее лихорадочное состояние. Он с трудом дождался появления Бройнинга.
– Где я нахожусь? Какой тут номер дома, Стефан?
– У тебя по-прежнему голова кругом идёт, Людвиг. – Бройнинг искоса взглянул на него. – Овердеблинг, четыре. У подъезда ещё висит табличка с именем наймодателя. Чтобы сразу снять все подозрения: перед твоими окнами сады, виноградники и плодородные поля... Да ты меня совсем не слушаешь, Людвиг?
– Ты не мог бы сбегать к Штейну, Стефан, и уговорить его доставить мне в Деблинг рояль. Я боюсь везти туда свой инструмент. Не хочется терять понапрасну время. Когда вы закончите разрабатывать план новой войны, я вернусь уже с готовой симфонией.
– Нет, мы сделаем по-другому. Я арендую у Штейна рояль и вновь поплетусь на службу, а ты немедленно ляжешь в постель.
Скрип ключа в замке прозвучал холодно и безжалостно. На лестнице загремели шаги Бройнинга.
«Он – настоящий друг, – подумал Бетховен, – но, увы, у него не женские руки. Хотя, может быть, они мне тоже не нужны, как не нужна дружба доброго, славного Цмескаля. Нет, моим другом, наверное, может быть только великое святое чувство полного одиночества, если, конечно, это можно назвать дружбой».
Вещи, которые он взял с собой, должны были сохранить ощущение связи с прежним окружением и заставить забыть о том, что вскоре ему предстояла встреча с чужбиной. Именно такой, в сущности, стала для него теперь Вена.
Так пусть же с гравюр за ним наблюдают Гендель и Бах – его строгие и взыскательные критики, – пусть на стене висит копия знаменитой картины Давида, изображающей клятву Горациев. Фригийский колпак он тоже взял с собой, равно как и своих «старейших учителей и друзей из Эллады» – Гомера, Платона и Плутарха. Он располагал также целой кипой нотной бумаги и целой кучей перьев, лично нарезанных для него Цмескалем, с его вечной улыбкой на круглом лице...
– Пожалуйста, обрати внимание, Людвиг! Это перья трёх гусей, героически отдавших свою жизнь ради этой великой цели. Третьим из них ты можешь написать свою Третью симфонию под гордым названием «Героическая», и, если пожелаешь, я могу даже изготовить для тебя красные чернила из гусиной крови. И если это всё не поможет, значит, ты и впрямь утратил вдохновение и ни к чему более в музыке не пригоден.
Интересно, почему на сей раз перед работой на душе у него было как-то особенно торжественно? Разумеется, симфония должна была получиться совершенно необыкновенной, но ведь это ещё не причина...
Странно также, что у него вдруг куда-то пропало честолюбие. Что ему теперь Аркольский мост, по которому Бонапарт когда-то пробежал под градом пуль, что ему, в конце концов, сам Бонапарт, ставший Первым пожизненным консулом Франции?.. А ведь как когда-то он мечтал уподобиться ему и носить гордый титул «Первого консула музыки». Эти мечты казались ему теперь какими-то очень уж низменными, почти не достойными его...
А может быть, всё дело в том, что он ныне на рубеже сорока и какой-то жребий должен уже окончательно выпасть ему? Нет, тоже не то...
Герой со знаменем бросился вперёд. Свист пуль не остановил его. Он лишь чуть повернул голову, но не назад, а вбок, а шпага его неизменно указывала путь в новый, лучший мир. Обернувшись, он хотел убедиться, что соратники не покинули его...
Так изменились их лица или он просто вдруг увидел страшное прошлое этих солдат, побудившее их штурмовать мост?
Ткачи больше не следят, скрючившись у своих станков, за челноками, скользящими быстро и неудержимо, нынче они ткут свободу и человечность...
Крестьяне оставили свои плуги. Но настанет день, и заброшенные поля заколосятся новым урожаем, взойдут пышные хлеба, и женщинам и детям не придётся изнывать на мучительной барщине, нет, они будут сытыми и свободными. Так вперёд же со знаменем в руке!
Ты падаешь на землю, брат? Где твоё знамя? Нет, нельзя останавливаться. Рабочие фабрик и мануфактур должны всегда стремиться вперёд мощным неудержимым потоком...
И теперь, выходит, он должен это всё положить на музыку?
Солнце медленно опустилось за горизонт. Вскоре наступит час, когда можно будет зажечь свечи, и их огоньки возвестят о его готовности приступить к работе... О, это непостижимое величие ночи!
Он долго сидел у рояля, глядя на пламя свечи, и чего-то ждал. Чего только?
Когда с глаз спала пелена, он увидел в окне сидевшего на дереве чёрного дрозда. Тот пел свою вечернюю песню перед тем, как заснуть, засунув голову под крыло. Иногда птичка, раскрывая клюв, чуть наклонялась вперёд. Кому она кланялась? Мерцающей звезде?
Вдруг она, словно испугавшись чего-то, замолкла и бесшумно скрылась в гуще кроны, которая всё больше и больше погружалась в темноту.
Но его это уже не интересовало. Прислушавшись к птичьему щебетанию, он сыграл два аккорда, сразу же остановившись на аллегро бриозо[64]64
Быстро, возбуждённо (ит.).
[Закрыть]. Стена, мешавшая ему, рухнула, и он обрадовался этому, как ребёнок.
Ты испугался, маленький дрозд? А у меня страх пропал, и я теперь понимаю, зачем ты явился ко мне вместе со звездой.
Когда дело дойдёт до главной темы, пусть приглушат звук виолончели, ибо здесь нужны резкие, синкопические сфорцандо всего оркестра. И пусть эти режущие слух, стонущие аккорды диссонансом затронут основу органного пункта, пусть! Теперь духовые инструменты, но фортиссимо[65]65
Очень громко (ит.).
[Закрыть], и пусть первыми звучат валторны и трубы!
Нет, слабо, слишком слабо! Утроить, всё утроить! Титаны бросаются не галькой, а обломками скал! Вот именно, пусть звучит втрое громче!
Ночь молчала, на небе сверкали золотые и серебряные искры. Может быть, за окном кричала сова, но он ничего не слышал. Сегодня уши его словно запечатали воском, и даже сфорцандо отзывалось только глухим жужжанием.
Слуховые рожки не помогали, и он взял им самим придуманный инструмент. Это была палочка из твёрдой древесной породы. Один её конец он зажал в зубах, другой воткнул между клавиш. Тем самым звуки через рот достигали ушей.
Но сегодня даже он не помогал. Всё вокруг словно окуталось глухой завесой молчания, но он всё равно играл, свистел, хрипел, выл, брызгал чернилами на линованную бумагу, взывал к ночи, которая не отвечала ему, разговаривал со звёздами, которые не обращали на него ни малейшего внимания, а в промежутке давал указания музыкальным инструментам: «Литавры! Бим-бум! Теперь трубы! Потом гобои со скрипками! А где призывный зов рога? Пусть он звучит громче! Ещё громче».
Его лицо конвульсивно дрожало от возбуждения.
«Нет, на такой диссонанс, кроме меня, пока ещё никто, – он надрывно закашлялся, – никто не отважился».
Жизнь казалась пёстрой мозаикой, порой распадавшейся на мелкие камушки. Но иногда она представлялась ему муравейником, куда он сунул голову и сразу же потерял время и силы в потоке мелких незначительных эпизодов.
«Героическая симфония» была в основном готова. Так ли это на самом деле? Как легко жилось на свете его знаменитому сопернику аббату Фоглеру[66]66
Фоглер Георг Йозеф (1749—1814) – немецкий композитор, органист, клавесинист, теоретик, педагог. Аббат. В 1776 г. организовал Мангеймскую музыкальную школу. Жил и работал в Париже, Мюнхене, Стокгольме, в 1788 г. посетил Россию.
[Закрыть]. Он мог, не стесняясь, небрежно обронить в разговоре, что создал «новое, ещё более совершенное произведение». Бетховен никогда не употреблял таких слов. Он предпочитал держаться скромно, просто «писать» свои сочинения и радоваться в душе, когда заканчивал их и передавал копиистам.
Впрочем, из Деблинга он привёз ещё фортепьянную сонату фа мажор. Он сочинил её во время прогулки с Ризом, и дома, даже не сняв шляпы, тут же уселся за рояль, сыграл сонату в бешеном ритме и тут же для уверенности записал её.
Сейчас он был как выжатый лимон и нуждался лишь в покое. Но где его взять, покой?
Как же ему мешали мелочи жизни! Квартира, которую ему раздобыл Риз, казалось, удовлетворяла самым строгим требованиям. Она располагалась на четвёртом этаже в доме неподалёку от Молочного бастиона и была очень уютно обставлена. Но владеть одновременно четырьмя квартирами было для него не просто непозволительной роскошью, нет, это было чистейшей воды безумием. Риз возлагал всю вину на Бройнинга, а тот, в свою очередь, предъявлял претензии к Бетховену. Опять эти свары, раздоры и прочие неприятности.
А тут ещё эта опера, которую следовало написать чуть ли не за ночь. Какая-то нелепая история о пребывании Александра Великого в Индии! Он уже, правда, попытался придумать нечто вроде ансамблевого пения на эту тему, но ничего путного не вышло.
Итак, четыре квартиры и непримиримая вражда с Бройнингом, из-за которой он очень страдал, и опера, которую ему как фокуснику предстояло вытряхнуть прямо из рукава. Эти люди полагали, что создать оперу для него пара пустяков. Ох уж этот интендант[67]67
Интендант – директор театра.
[Закрыть] барон фон Браун и его окружение. О чём они только думают?
Он вновь услышал предостерегающий голос, прозвучавший откуда-то из глубин памяти и напомнивший ему о далёком детстве, когда он играл на клавесине, который теперь сравнивал с увеличенной в размерах доской для рубки мяса.
А сказано ему было следующее: «Тебе никогда не удастся превзойти великого создателя ораторий Генделя. Не забудь также имя величайшего оперного композитора. Вспомни Моцарта».
Но барон фон Браун упорно настаивал на своём, а секретарь придворного театра господин фон Зоннляйтнер не только обнаружил вместе с Трейчке нужный текст, но ещё и переработал его, Написан он был французом по имени Буйи, на музыку его положил сам месье Гаво[68]68
Гаво Пьер (1760—1825) – французский певец и композитор, автор многочисленных опер и камерно-инструментальных произведений.
[Закрыть], и постановка уже с успехом прошла на сценах многих театров. В свою очередь, итальянец Фернандо Паэр также обратился к этому либретто. В его варианте опера называлась «Леонора», Гаво назвал своё произведение «L’amour conjugal» – «Супружеская любовь». Зоннляйтнер и Трейчке дали ей название «Фиделио».
Но «Леонора» ему гораздо больше нравилась. Когда-то в Бонне он обещал юной Леоноре написать в её честь увертюру. С тех пор минула чуть ли не вечность. Неужели это случайно совпало?
Впрочем, тогда Элеонора упомянула имя Монсиньи, а по сравнению с этим Голиафом в музыке он выглядел Давидом[69]69
Давид и Голиаф. — Царь Израильско-Иудейского государства Давид, по библейской легенде, победил великана Голиафа.
[Закрыть], но только без пращи и камня.
Тут на пороге возник Цмескаль. Доброго славного сибарита явно мучило любопытство, но начал он очень официально и, по обыкновению, довольно брюзгливым тоном: