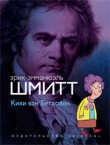Текст книги "Аппассионата. Бетховен"
Автор книги: Альфред Аменда
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 28 страниц)
– Не нужно. – Бетховен вяло махнул рукой. – Рекомендации вашей семьи вполне достаточно. Я готов, сударыня, заниматься с вами два раза в неделю... Вот только где?
– Ну, раз в неделю папа, несомненно, разрешит мне пользоваться экипажем для поездки в Унтердёблинг.
– Этого вполне достаточно, сударыня. Ибо раз в неделю я всегда приезжаю в Вену. Будем попеременно заниматься то тут, то там.
– Я совсем забыл спросить тебя об одной вещи. – Брунсвик с размаху хлопнул себя по лбу. – Пепи просила узнать, закончена ли уже некая грандиозная фортепьянная соната? У неё ещё такое итальянское название.
– Даже не знаю, что сказать. – Неужели Жозефина имела в виду «Аппассионату»? – Я недавно написал сонату до-диез, но назвать её следовало бы скорее уж «Лимонадной сонатой». – Бетховен вдруг разозлился на себя и собеседника и крайне раздражённым тоном добавил: – Я уже где-то играл её, и некий любитель говорить излишне красиво сказал, что её первую часть – адажио – можно сравнить с отблесками лунного света в водах Фирвальдистетского озера. Пошлость и безвкусица распространяются подобно эпидемии. Мою несчастную сонату до-диез с тех пор в салонах иначе как «Лунной» не называют. Таким образом, я написал «Сонату в беседке» и «Лунную сонату», хотя ещё ни разу не пил лимонад в беседке при свете луны. Может, сыграть её, Франц, чтобы ты дома мог рассказать о ней? У меня пока ещё нет копии.
Сыграв заключительный аккорд, Бетховен спросил:
– Вы ощутили в первом пассаже отблеск лунного света?
– А кому, собственно говоря, посвящена соната, господин ван Бетховен? – после короткого молчания деланно равнодушным тоном осведомилась Джульетта.
Он резко повернулся:
– То есть для кого она написана, сударыня? Да никому не посвящена.
Она чуть вскинула брови:
– Вот как?
Прошёл почти месяц. Во время одного из уроков Джульетта сидела за роялем. Он расхаживался взад-вперёд, приговаривая:
– Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Это один из простейших четырёх с четвертью тактов. Сперва алла браве[52]52
Коротко, ускоряя движение (ит.).
[Закрыть], а потом снова...
Уроки длились не очень долго. Бетховен в душе не переставал поражаться поразительному сходству Джульетты с Жозефиной. Но характеры у них были разные. Джульетта, это дитя, действовала на него успокаивающе. Нет, он неверно выразился, семнадцатилетнюю дочь итальянца и венгерки уже никак нельзя было назвать ребёнком.
Никогда бы он не согласился давать ей уроки в своей квартире. К тому же Джульетте очень понравилось ездить в карете в Унтердёблинг. Разумеется, он дал графине слово, что на уроках всегда будет присутствовать подённый лакей, но сегодня его почему-то не было. То ли отправился за покупками в Вену, то ли «дитя» намеренно куда-то отослало его.
– Остановитесь, сударыня.
– Я опять провинилась?
– Пальцы. Ваша прежняя ошибка.
Она напрягла кончики пальцев.
– Ещё сильнее.
– Каким... тоном вы со мной разговариваете, господин ван Бетховен?
Сейчас она вновь надменно смотрит на него, но порой она ласкалась, как влюблённая кошка. Вообще она вела себя совершенно непредсказуемо. Не будь она родственницей Брунсвиков... Он не выносил высокомерных дворян и уж точно сумеет поставить на место эту особу с графским титулом и кошачьими повадками.
– Играйте! Продолжайте играть! Я придержу ваши руки.
– Вы их ещё в тиски зажмите, – воркующим голосом сказала она.
– Продолжайте играть!
Через несколько минут он почувствовал неудержимое влечение к ней и во избежание соблазна убрал руки.
Глаза Жозефины – хотя нет, это же не Жозефина – выражали откровенное разочарование. Или он ошибался?
Она встала и подошла к открытому окну.
– Вы только посмотрите, господин ван Бетховен, как крепко спит мой кучер. Эй, Жан! Нет, ничто на свете не может его разбудить. И потом, грешно было бы прерывать его сладкий сон. Уж не знаю, что может сниться такому счастливому человеку...
Почему-то у него вдруг сразу стало тревожно на душе. Беседа вдруг приняла неожиданный оборот.
– Вы так и не открыли мне, какому... призраку вы посвятили сонату до-диез.
Она как бы показывала ему, что лгать дальше бессмысленно.
– Жозефина не призрак.
– Вы не ошиблись, – после недолгого раздумья ответила она. – Она существо из плоти и крови, более того, она даже готовится стать матерью.
– Что?..
– Разве Франц вам ничего не сказал? Она ждёт ребёнка.
– Ложь!
– Говорите, пожалуйста, тише, чтобы не разбудить кучера. – Она закрыла окно. – Почему ложь? Она ведь замужем.
– Зачем... вы это мне говорите?
Она ехидно улыбнулась:
– Мне просто хочется совершить подлость по отношению к Жозефине.
– Но почему?
– Но почему? – повторила она вслед за ним.
Он рванулся к ней:
– Джульетта!
– Вы хотите сделать мне больно? – Она вздохнула и отвернулась.
– Не тебе, а Жозефине! – выкрикнул он с искажённым от ярости лицом. – Уходи, влюблённая кошка.
– Ты хочешь... отомстить мне? – Она с любопытством посмотрела на него.
Он схватил её на руки и понёс в спальню. Она ещё успела срывающимся от волнения и страха голосом пробормотать:
– Не заблуждайся, Людвиг, я ведь также могу отомстить... Я ведь тоже не призрак.
За окном кто-то пронзительно свистнул. Так в Бонне свистел тот из них, кого они ставили на стрёме, когда лазали за яблоками в чей-нибудь сад. Но откуда здесь, в Вене...
Он подошёл к окну и увидел внизу юношей. Более старший на вид усердно подражал дрозду.
– Как же ты меня напугал, мерзавец! – закричал Бетховен. – Ещё немного, и я бы выпрыгнул в окно, чтобы не попасть в лапы полиции! Стефан, и ты, Фердинанд Риз! Ну что же вы?
Стефан фон Бройнинг задорно рассмеялся:
– А ну-ка угадай, откуда мы приехали. Не поверишь, из Бонна. Где бы нам хоть ненадолго присесть?
– На скамью.
– Да, господин ван Бетховен, мы очень устали. Мы скоро пойдём дальше, ибо вам нынче не до нас, грешных, вы всё больше с графами да князьями общаетесь, и потому едва ли странствующие музыканты встретят у вас достойный приём.
– Я тоже музыкант. – Бетховен с недобрым прищуром нацелился взглядом в переносицу Стефана. – Считаю в ритме анданте[53]53
Умеренно медленный темп (ит.).
[Закрыть], и если вы при счёте «три» не подниметесь ко мне... Раз... два.
При счёте «три» он уже сжимал Стефана в своих объятиях:
– Стефан!..
– Людвиг!..
– Почему у вас такой глуповато-почтительный вид, Фердинанд?
– Он хочет брать у тебя уроки игры на фортепьяно, но боится отказа.
– Я откажу Ризу? Я же под началом его отца корябал смычком по струнам... Нет, никогда!
– Прежде чем ты задушишь меня в объятиях, Людвиг, – простонал Стефан, – я хотел бы ещё успеть передать тебе привет от моей матери, Элеоноры, шурина и вообще всех-всех-всех...
Тяжело отдуваясь, он отошёл назад и вытер платком взмокший лоб.
– Ты ещё довольно молод, Стефан, – с нескрываемым злорадством произнёс Людвиг, разглядывая земляка, – но волосы на висках уже сильно поредели. Много думаешь или ведёшь развратный образ жизни?
– И то и другое, Людвиг. Много думаю о твоём развратном образе жизни. В Бонне только и разговоров о покорённых тобой сердцах принцесс и графинь. Вроде ими даже можно мостить венские улицы. Кстати, о какой такой «очаровательной девушке» ты написал Францу Вегелеру? Она, конечно, тоже принцесса?
– Нет, но благородного происхождения.
– Ясно. – Бройнинг откашлялся. – Леноре посылает тебе жилет из заячьей шерсти, а мать просит узнать, приедешь ли ты когда-нибудь в Бонн и сыграешь ли у нас, к примеру, вариации на тему «Марш Дреслера». Она всегда вспоминает о них, вытирая с рояля пыль.
– Вы знаете эти вариации, Фердинанд?
– Они даже засели в моих пальцах, только...
– Достаточно. Сыграйте, доставьте мне удовольствие. У меня с ними связаны очень приятные воспоминания.
Через несколько минут Бетховен со стоном закрыл лицо руками.
– Пресвятая Богородица! Нет-нет, извините, это у меня случайно вырвалось. Неужели я мог сочинить такую халтуру?! Позвольте-ка мне сесть за рояль, Фердинанд. Хочу доказать самому себе, что продвинулся достаточно далеко.
У рояля он вдруг резко повернулся:
– Да, а какова, собственно говоря, цель твоей поездки сюда, Стефан?
– Хочу насладиться воздухом Вены и заодно стать великим человеком.
– Воздух Вены. Им можно наслаждаться бесконечно. Что же касается великих людей... Моцарта, например, здесь похоронили в могиле для бедных. Возможно, тебя ждёт такая же судьба. В Вене я считаюсь выдающимся пианистом, и всё же я хотел бы ещё раз полной грудью вдохнуть сырой воздух Бонна.
– Что вы тут делаете? – Он смерил взглядом подённого лакея, который стоял на коленях перед печкой и соскребал со стенок сажу.
– Хочу протопить комнату, господин Бетховен.
– Ночью?
– Уже утро.
– Можете идти, сегодня вы мне больше не нужны. Убытки я вам оплачу.
Бетховен посмотрел лакею вслед. Он оказался прав. Уже действительно почти утро. В комнате царили предрассветный полумрак и полнейший хаос. Расплывшиеся, полусгоревшие свечи, груды нот, писем и книг на рояле и полу. Погнутый нож, кусок копчёной колбасы и надрезанный кусок сыру. Клавиши рояля обсыпаны табаком. На стуле рядом с засохшей лужицей соуса несколько пустых бутылок. В этом хаосе он вдруг почувствовал себя человеком, напрасно ищущим выход из лабиринта...
Нет, так нельзя. Первым делом раздавил недогоревшие свечи. Тонкие струйки дыма, клубясь, поднялись к потолку, он закашлялся и открыл окно.
Холода он не чувствовал. Серый сюртук из мягкой шерстяной ткани надёжно защищал его, но зато каким удивительно ясным и чистым стал воздух в комнате, как великолепно очищал он не только голову, но даже тело. Человек – особое существо. Иначе такая сильная любовь, сгорев подобно свече, оставила бы от него только мерзкий клубящийся дым.
Эти номера журналов на полу с критическими отзывами на его произведения – что искал он в них? Связи с Бонапартом, Первым консулом Французской республики, с которым он хотел сравняться, написав «Героическую симфонию»? Но сперва он оказался в республике музыки, обезглавил которую, правда, не парижский палач Анри Сансон, а анонимные рецензенты из лейпцигской, пользующейся весьма солидной репутацией «Всеобщей музыкальной газеты».
В печь! Он собрал все номера. Как там писал один из этих: «Господин ван Бетховен превосходно владеет техникой игры на фортепьяно и уже стал довольно известен, однако не ясно, получится ли из него столь же удачный композитор».
А как оценил другой осёл его фортепьянные и скрипичные сонаты? «Для них характерны бунтарство, стремление к редким модуляциям, отвращение к обычным сочетаниям и обилие трудных пассажей. Но в них нет места ни природе, ни истине. Вступит ли когда-нибудь господин ван Бетховен на путь, предопределённый естественным ходом вещей?»
Ну почему эти тупицы всё искажают? Пустота, искусственность – у них следование духу природы, а рождённое в муках – нечто затруднительное для восприятия или просто противоестественное.
– Что вы тут сжигаете, господин ван Бетховен?
– Крумпхольц! Доброе утро! Я проверяю, способна ли моя печь поглотить дерьмо. Оказывается, способна. Как обстоят дела со скрипичными голосами?
– Да не очень хорошо, – помедлив, ответил долговязый, худой как жердь скрипач. – Не получается что-то с вашей «Весенней сонатой». Я сижу за третьим пюпитром от второй скрипки и потому спросил также Шуппанцига. Он присоединился к моему мнению.
– Понятно. – Отблеск огня сделал лицо Бетховена ещё более красноватым. – Да неужели вы полагаете, что ваши жалкие скрипки... Извините, Крумпхольц, я не хотел вас обидеть. Вы никому не рассказали о том, что я тайно беру у вас уроки игры на скрипке и вообще?.. – Бетховен понизил голос и протянул скрипачу несколько нотных листов: – Вот гонорар за ваши уроки, и, желая доставить вам радость, я напишу для вас сонату для мандолины, ибо вы поистине виртуозно играете на этом инструменте. Наверное, лучше всех в Вене.
Он резко повернулся к двери:
– Войдите...
– Извините, господин ван Бетховен, что я потревожил вас в столь ранний час... – Молодой купец-еврей с бледным лицом и грустными глазами вежливо наклонил голову. – Но я хочу принести вам извинения. Эти субъекты из «Всеобщей музыкальной газеты» пишут такую чушь.
– Ни слова больше, Эппингер, – недовольно пробурчал Бетховен.
– Что вы обсуждаете? – робко спросил Крумпхольц.
– Одну рецензию, – зло усмехнулся Бетховен. – Потому-то сегодня я и занялся их инвентаризацией. Нам всем дали соответствующую оценку в критическом отзыве. Там похвалили девять вариаций для двух скрипок Шуппанцига. Я от души завидую ему! Столь же хвалебную оценку получили фортепьянные вариации господина Филиппа Фройнда. Так же благосклонно был упомянут наш славный Генрих Эппингер с его вариациями для скрипки и виолончели. Соната некоего господина, скрывавшегося под инициалами А. В., была названа просто превосходной и рекомендована для исполнения дамам, а относительно моей скромной особы было прямо сказано: «Его вариациям никак нельзя дать положительную оценку. Тирады слишком неблагозвучны, а непрекращающиеся полутона в сочетании с басом звучат особенно неприятно».
– Мне так неудобно, господин Бетховен, – растерянно пробормотал Эппингер, – ведь я всего лишь дилетант.
– Вы ещё и глупец, Эппингер, – рявкнул на него Бетховен. – Многие профессиональные музыканты, даже выдающиеся пианисты и композиторы, на мой взгляд, просто вечные жалкие дилетанты и, напротив, есть любители, которых можно назвать настоящими музыкантами. К ним относитесь и вы, Эппингер, только не как композитор, а как скрипач.
В дверь постучали. Бетховен, тяжело вздохнув, произнёс: – У меня сейчас урок. Очень тяжкое бремя для профессионального музыканта.
– Значит, ты и есть тот самый юный виртуоз, о котором говорил Крумпхольц. Как тебя зовут?
Лицо мальчика стало бледным как мел.
– Карл... Карл Черни[54]54
Черни Карл (Карел) (1791—1857) – австрийский пианист, педагог, композитор, чех по национальности, работал в Вене. В 1800—1803 гг. учился у Бетховена. Автор знаменитой «Школы беглости» и многочисленных этюдов и упражнений, а также опер, симфоний, камерно-инструментальных произведений.
[Закрыть].
– А сколько тебе лет?
– Десять.
– И в таком возрасте ты уже публично исполнял в Леопольдштадтском театре концерт для фортепьяно до минор Моцарта?
– Да... – еле слышно выдохнул мальчик, нервно теребя кончики пальцев.
– Оставь их в покое, они тебе ещё пригодятся.
Бетховен говорил так резко вовсе не потому, что мальчик не пришёлся ему по душе. Напротив, он ему очень понравился, но его облик пробудил такие яркие воспоминания, что они даже подействовали на его тон.
Интересно, сверкают ли его глаза сейчас таким же дьявольским блеском, как когда-то в доме Христиана Готтлиба Нефе? С тех пор прошло целых полжизни одного поколения. Точно так же, как когда-то у него, у юного любителя музыки трепещет сердце, ибо от решения Бетховена зависит его дальнейшая судьба.
Его вдруг охватило неодолимое желание схватить мальчика за волосы и отвести к роялю. Именно так он и поступил.
– В тех местах, где необходим аккомпанемент, я дополню мелодию левой рукой.
Дрожь прошла по телу мальчика, он начал играть, и Бетховен поразился ловкости его маленьких пальчиков. Фердинанду Ризу никогда не достичь такого уровня, какие бы драконовские методы он, Бетховен, ни применял на уроках.
Ах ты проказник! Среди тысячи учеников едва ли можно найти одного с такими способностями.
Поэтому Бетховен, небрежно сыграв несколько аккордов, взглянул на календарь-памятку и отрывисто сказал:
– Вторник и пятница тебя устроят, Карл? Хорошо, тогда в эти дни я жду тебя» у себя ровно в пять часов. Ты ещё ходишь в школу? Занимайся там прилежно, это тебе в жизни пригодится.
– Речь не о школе, – вмешался в разговор Венцель Черни. – Сбылась твоя мечта, мой мальчик. Ты стал учеником знаменитого пианиста Людвига ван Бетховена.
По щекам маленького Карла медленно текли слёзы.
Джульетта Гвичарди ловко натянула перчатки. Она не сводила глаз с Бетховена, казалось, полностью занятого исправлением оркестровой партитуры.
– Это ведь твоя Вторая симфония, не так ли, Людвиг? Я думала, она уже готова.
Её легкомыслие уже не раз приводило Бетховена в ярость. Ведь по-настоящему её никогда не интересовало, чем он занимается.
Он вычеркнул несколько нот и заменил их другими.
– Кстати, Джульетта, я послал тебе Рондо соль мажор. После отделки я посвящу его тебе.
– Очень милая вещица, – она быстро напудрила нос, – но какая-то безличная.
Он сразу же прицепился к этому слову:
– Верно. Мне сейчас нужно что-то безличное. Графиня Лихновски, сестра князя, оказала мне любезность. Позволь мне посвятить ей Рондо.
– А я...
– Ты внакладе не останешься. У меня много других произведений. Выбери себе что-нибудь подходящее.
Она сделала вид, будто погрузилась в раздумье.
– Тогда я выбираю «Лунную сонату».
– Вот как? – Он медленно повернулся. – Тебя привлекло название или... или это связано с Жозефиной?
– Наверное, и то и другое. – Она чуть улыбнулась краешками губ.
– Ты не вправе ничего отнимать у Жозефины.
– Женщине больно такое слышать. – Она приложила платок к глазам.
– Не устраивай, пожалуйста, театр, Джульетта. Хотя, понимаю, так легче сообщить мне кое о чём...
– О чём? – Она посмотрела на него расширенными глазами.
– Я всё знаю, Джульетта. – Он чуть приподнял и опустил плечи. – Не бойся и отойди от двери. Когда ты выходишь замуж?
– Довольно скоро.
– Таково желание Галленберга?
– Разумеется, он безумно влюблён, и потом... мои родители также хотят этого брака.
– Твои родители?
– Да, они говорят, ты пока ещё не признан как музыкант, Галленберг же граф, и все утверждают, что он весьма талантливый композитор. Мне же, как и Жозефине...
– Не стоит её сюда примешивать, – мягко возразил он. – По-моему, мы уже всё друг другу сказали. Или нет?
– А «Лунная соната»! Ты не забыл, что обещал посвятить её мне?
– Я всегда держу слово, Джульетта. Если хочешь, можешь даже распустить в салонах слух о несчастном композиторе низкого происхождения, который был безумно влюблён и потому написал в твою честь сонату. Люди любят такие слезливые истории.
Он вновь склонился над партитурой, но внезапно резко вскочил и обернулся. Когда же он в последний раз ел?
Комната была пуста.
Город он покинул без всякого сожаления, взяв с собой только самые необходимые вещи. Дом, в котором он снял на лето квартиру, походил на замок или, скорее, даже на караульное помещение у ворот замка. Это было здание с двумя пристройками. В середине арка, производившая довольно мрачное впечатление. Однако, пройдя её, можно было попасть на весьма опрятный хозяйственный двор.
Распаковать вещи, кое-как устроиться и работать, работать, работать... Прошло несколько недель, и вдруг однажды кто-то пропел у порога его комнаты мелодию основной темы его Второй сонаты.
Бетховен рывком распахнул дверь. Его лицо сразу же помрачнело и живо напомнило грозовую тучу.
– Ля мажор, а не до Мажор, господин слуга с графским титулом! И он ещё осмеливается играть на виолончели! Взяли бы лучше вместо неё жареного гуся или тушу оленя!
Его сиятельство Цмескаль фон Домановец, чиновник придворной венгерской королевской канцелярии, вытер платком лоснящееся добродушное лицо и хитро подмигнул, показывая на зажатую под мышкой коробку.
– Не соизволят ли его превосходительство расписаться в получении, чтобы я как можно скорее смог отряхнуть со своих ног пыль этого разбойничьего логова?
Вместо ответа Бетховен рывком втащил приятеля в комнату.
– Ох-ох-ох! Все вам кланяются, желают здоровья и всё такое прочее. А как вообще обстоят ваши дела?
– Хорошо. – Прозвучало, правда, не слишком убедительно.
– Тем не менее я полагаю, что ваше изгнание сюда объясняется причудами доктора Шмида.
– Цмескаль!
Граф успокаивающе помахал гусиным пером:
– За исключением немногих ваших друзей, которых можно перечесть по пальцам, никто не знает ни о докторе Шмиде, ни о болезни ваших ушей.
– Боюсь, вы нагло лжёте, Цмескаль.
– Разумеется, но пусть вас это не тревожит. У вас ещё бывают видения?
– Уже довольно долго не было, хотя недавно...
– Вы гипохондрик, Бетховен. Выкиньте этих сверчков из головы.
– Не знаю, Цмескаль. Доктор Шмид постоянно возвращается к этой теме. Ему кажется, что он делает это тактично и незаметно, но я всё замечаю. Он спрашивает, как я сплю ночью, не тревожит ли меня стрекотание сверчков. Тебе он ничего толком не скажет, но означать это может только одно: моё состояние вскоре ухудшится и я окончательно потеряю слух.
Послышался стрекочущий звук. Бетховен тут же окинул взглядом комнату.
– То ли я страдаю манией преследования, то ли здесь действительно завелись сверчки?
– Я такие вещи проделывал с моей тёткой – упокой, Господи, её душу. – Цмескаль скорчил пренебрежительную гримасу. – Стоило ей даже ночью в лютый мороз услышать за окном стрекотание саранчи, как она тут же вставала и отправлялась в заснеженный сад на поиски насекомого. Я же спокойно вытаскивал из-под подушки ключ от кладовой и набивал живот вареньем и фруктами.
– Вы пройдоха, Цмескаль. – Бетховен грустно улыбнулся, – но человек очень славный.
– Как вам угодно, ваше превосходительство, но знайте, что к этому пройдохе вы можете приходить хоть каждое утро. – Цмескаль вытащил из коробки несколько гусиных перьев. – Их хватит вам на десять симфоний. В остальном же я полагаю, что доктор Шмид поступил глупо, ограничив ваш круг общения. Вы – человек, Бетховен, а человек, как никакое другое живое существо на свете, нуждается в общении с себе подобными.
Он немного проводил Цмескаля, а потом обессиленно рухнул на траву на опушке рощи. Согретая солнцем земля источала тёплый пряный аромат, и на душе стало спокойно. Веки сомкнулись, он лежал в полудрёме и вспоминал свои детские игры.
Он вновь превратился в Гулливера, попавшего в страну лилипутов, в глазах которых травинки выглядели мощными стволами деревьев, а снующие вокруг муравьи и крошечные жучки – огромными чудовищами.
– Ти-ти-ти!..
Прямо на ветку уселась иволга. Звуки её пения были удивительно приятны, и одновременно в них звучал какой-то вызов. На фоне пламенеющего заката Бетховен даже воспринял пение птицы как своего рода серенаду.
– Ти-ти-ти!..
Бетховен осторожно взял свой альбом. Нет, эти звуки он непременно должен выразить в нотах. В его собрании они пока отсутствовали, хотя Бетховен записывал нотами даже шум крыльев перепела и журчание ручья. Возможно, всё это пригодится ему для написания симфонии, хотя сама идея была ещё более расплывчатой, неопределённой и смутной, чем медленно поднимающиеся над лугами клубы тумана. Вторая симфония была уже готова, и он уже думал о следующей, с гордым названием «Героическая».
– Ти-ти-ти! Ти-ти-ти-таа!..
Ну хорошо, он записал эти звуки, собрав, если так можно выразиться, последний урожай. Ибо в этом году птичьи голоса замолкнут и, вполне возможно, – тут лицо его помрачнело – к началу нового он уже ничего не будет слышать.
– Ти-ти-ти-тааа!.. Ти-ти-ти-та!
Иволга пела в тональности до мажор. Поразительно. Если бы ещё удалось превратить её в тональность до минор, он воспринял бы происходящее как знак судьбы, от которой ещё никому не удавалось уйти. Но иволга по-прежнему продолжала насвистывать:
– Ти-ти-та! Ти-ти-ти-таа!..
Ну хорошо, дружок, ты убедил меня. Значит, выбираем до мажор. Точно до мажор.
Этот чёртов Цмескаль, конечно, славный малый, но он разбередил рану, сказав правду.
Он, Бетховен, действительно нуждается в общении. Он готов быть доброжелательным ко всем и взамен хотел бы только такого же отношения к себе. Роль отшельника ему совершенно не подходит. Одиночество приносит ему только новые страдания...
Так, может быть, вернуться в Вену? Нет. Слишком быстрая смена обстановки пользы не принесёт. Уж лучше навестить выехавших за город друзей.
Решено, завтра он отправится к ним!
Однако это «завтра» никак не наступало, ибо каждое утро он постоянно уходил с головой в работу.
Однажды вечером он вышел из дома, собираясь отправиться на прогулку. Внезапно он замер в глубоком раздумье.
Мальчик по имени Франц Грильпарцер[55]55
Грильпарцер Франц (1791—1872) – австрийский писатель, драматург, в произведениях которого романтические тенденции сочетались с традициями веймарского классицизма.
[Закрыть], живший с Бетховеном в одном коридоре, испуганно наблюдал за ним из воротной ниши.
– Франц...
– Да, господин ван Бетховен?
– Как у нас дела, Франц? – Он горько усмехнулся. – Опять небось сочинил что-нибудь?
– Нет, господин ван Бетховен.
– Можешь утешить себя тем, что у меня пока тоже ничего не получается. Спокойного тебе сна, Франц. Мне же предстоит долгая дорога. До Вены путь не близок.
– Как, вы хотите прямо ночью отправиться в Вену?
Вместо ответа Бетховен махнул на прощанье рукой. Вскоре он вышел на просёлочную дорогу и словно растворился в сгущавшихся сумерках.
Минула полночь, когда он, наконец, с нетерпением дёрнул за шнур колокольчика. Немного подождав, он, словно нетерпеливый студент, принялся выбивать тростью искры из булыжной мостовой.
Наконец дверь открылась. Правой рукой доктор Шмид кое-как запахнул халат, а левой поднёс светильник к лицу незваного гостя.
– Это вы, Бетховен?
Тот ловко крутанул трость и подчёркнуто вежливо снял шляпу.
– Примите уверения в совершеннейшем моём почтении к вашим знаниям, доктор. На этот раз вы поставили превосходный диагноз.
– Что-нибудь случилось?
– Да нет, я просто пришёл к вам с прощальным визитом, ибо я совершенно здоров. Остаётся лишь рассчитаться с вами. За ночной визит, естественно, полагается повышенная плата.
Он прошёл в кабинет. Доктор Шмид проследовал за ним, качая головой.
– Вы сегодня такой...
– Какой? Слишком развязный?
– Если так можно выразиться... С кем вы общались? С этим полоумным бароном фон Цмескалем?
– Отнюдь. – Бетховен сел в кресло с высокой спинкой, с наслаждением вытянул ноги и принялся постукивать по ним тростью. – Нет, думать по-иному меня побудил некий юный поэт.
– Кто?..
– Его зовут Франц Грильпарцер.
– Такого не знаю. – Врач осторожно поправил пенсне. – Даже никогда не слышал о нём.
– Это не имеет значения. – Бетховен небрежно махнул рукой, – но, уверяю вас, вы ещё услышите. Благодаря ему у меня в голове созрел грандиозный замысел, не знаю, право, хватит ли таланта превратить его в музыкальное произведение. Ну ладно, не будем отвлекаться от темы. Итак, доктор, я часто ругал и проклинал вас, но сейчас вы видите перед собой раскаявшегося грешника, чистосердечно заявляющего: я здоров. Какими бы абсурдными ни казались ваши методы лечения, они дали хороший результат.
– Вот видите! Я всегда это говорил, но вас же не переубедишь. Вы оказались самым сложным из всех моих пациентов.
– Должен признаться, что по части веры в медицину я был просто неисправимым язычником.
– Теперь вы, надеюсь, исправились?
– Полностью.
– Это радостное событие стоило мне испорченного сна, – весело улыбнулся врач. – Я действительно достаточно часто и весьма основательно обследовал ваши уши и лишь в целях профилактики и для вашего собственного успокоения рекомендовал капать в них миндальное масло и принимать ванны в сидячем положении.
– Вот именно, Шмид, это главное. – Бетховен выбросил вперёд указательный палец. – Похоже, существует прямая связь между задней частью тела и слуховым органом, так сказать, между южным и северным полюсами.
– Перестаньте издеваться надомной. Вы не только невежда во всём, что касается медицины, вы ещё и истерик. Помните, что я вам уже давно сказал: хотя кое-какие болезненные явления имеют место, нет никаких поводов для серьёзного беспокойства.
– Но вообще вы обращались со мной как-то уж очень осторожно. – Бетховен набрал в грудь побольше воздуха, – ходили вокруг да около, словно кошка, а я – миска с горячей кашей. Но ведь я всё-таки не самый глупый человек на свете. Скажите прямо, если я вдруг перестану слышать стрекотание кузнечиков, это значит?..
– То есть высокие тона? – Доктор Шмид испуганно вытянул перед собой ладонь. – Хватит пугать себя и других, Бетховен! Это значит, что я уже ничем не смогу помочь вам. Ваша мать умерла от чахотки, значит, у вас дурная наследственность и, выражаясь понятным для дилетанта языком, вы можете заболеть чахоткой слуха или мозга. Тогда нить вашей жизни оборвётся самое большое через год.
– Извините меня. – Бетховен поднял с пола цилиндр и тщательно вытер его рукавом.
– За что? – удивился врач.
– За то, что я ломал перед вами комедию. Однако благодаря ей я узнал правду о своей судьбе. Спокойной ночи.
Начать трудиться?..
Многое начато, но ничего не кончено. Так что же сперва?
«Героическая симфония»! Было бы чистейшей воды безумием думать только о ней. Он метался по комнате, как разъярённый зверь, то и дело хватая различные предметы.
«Настоящий отец, – эти слова он слышал ещё в детстве, – обязан вовремя составить завещание на всё своё имущество».
Так что же он может передать по наследству? Может быть, роскошные смычковые инструменты, подаренные ему князем Лихновски? Он распахнул крышку ящика и сразу увидел покрытую ярким лаком скрипку, изготовленную Гварнери[56]56
Гварнери – итальянские мастера смычковых инструментов. Гварнери Джузеппе (1698—1744) – один из самых выдающихся мастеров наряду с А. Страдивари.
[Закрыть] ещё в 1718 году. Не меньшим шедевром была скрипка Николо Амати[57]57
Амати – итальянские мастера смычковых инструментов, работавшие в Кремоне. Амати Николо (1596—1684) – довёл тип скрипок до совершенства, усилив звучание и сохранив мягкость тембра.
[Закрыть], относящаяся к 1669 году, с чуть выпуклым корпусом и отличавшаяся сладковатым звучанием.
Какое же у него ещё есть недвижимое имущество?
Договоры с издателями с финансовой точки зрения не представляли собой лакомого куска для наследника. Но кто же мог считаться таковым у него?
Его братья?
У него не было особых оснований испытывать к ним дружеские чувства, но всё же это были его братья.
Карл?.. В его жизни произошли большие перемены. В последнее время ему грех было жаловаться на жизнь, но вот Иоганн...
Он взял большой жёлтый лист канцелярской бумаги и начал писать:
«Бетховен
Моим братьям Карлу...»
Он намеренно оставил свободное место. Уж очень ему не хотелось вписывать сюда Иоганна. Стоило ему представить себе фигуру брата с отвислыми плечами и надменной улыбкой, вспомнить, что ещё несколько дней назад он прямо-таки довёл его до белого каления...
Перо вновь забегало по бумаге.
«О люди, считавшие меня злобным упрямцем или мизантропом, вы не знаете тайную причину моего необычного поведения. С детства я был настроен весьма благожелательно по отношению к людям и был способен даже к добрым жестам, но с шести лет я страдаю от неизлечимой болезни, состояние моё всё ухудшается из-за неправильных действий бездарных врачей. Надежды на исцеление у меня почти не осталось. Вы даже представить себе не можете, люди, что значит постоянное чувство одиночества. Я всё время пытаюсь встать выше своих страданий, и порой у меня это получается. Я не могу заставить себя сказать собеседнику: «Говорите громче, я плохо слышу», – но как же могло случиться так, что я...»
Нет, при всём при том он, несмотря на страшные мучения, цеплялся за жизнь. Не будет преувеличением сказать: дьявол порой залепливал ему уши воском так, что он становился совершенно глухим...
Он задумался, а потом принялся писать дальше:
«...был вынужден признаться в своём слабоумии, я, который обладал умом более совершенным, чем многие мои товарищи по профессии. Я просто поддался минутной слабости и потому прошу простить меня. Я не могу себе позволить отдохнуть среди людей за приятной, умной беседой, нет, я вынужден жить как в изгнании...»