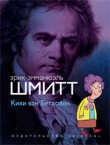Текст книги "Аппассионата. Бетховен"
Автор книги: Альфред Аменда
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 28 страниц)
– Соната навевает слишком мрачные мысли, лишает последней надежды. Я ещё тогда в «Золотом грифе» хотела тебе это сказать. Разумеется, сама соната просто изумительная, но сейчас я хочу поговорить о другом. Ведь ты мне даже руки не протянул, Людвиг. Или ты хочешь меня сперва поцеловать?
Он осторожно заключил её в объятия.
– Ты моя вечно любимая женщина...
– Ты придёшь сегодня вечером? – Она провела языком по его губам. – Я буду ждать. Зажечь побольше свечей или?..
– Нет. Только одну.
Он трудился теперь особенно упорно и настойчиво и напоминал самому себе таран, которым в старину взламывали ворота и стены вражеских городов.
Он тоже должен взломать стены города, в котором его ждала любимая женщина, олицетворявшая для него высшее счастье. Как-то вечером она ласково погладила его по лбу:
– Какие у тебя странные оспины, Людвиг. Я чувствую, что в душе твоей уже давно поселилась тревога, и хочу хоть немного успокоить тебя.
Да, он никак не мог обрести покой и даже не надеялся на это.
Он писал в дирекции различных театров, предлагая себя на должность заведующего музыкальной частью. Везде отказ. Ах, если бы не «Фиделио»...
Скрипичный концерт – и снова неудача. Может быть, имело смысл аранжировать его как фортепьянный концерт? Но тогда это была бы чистейшей воды подёнщина.
Правда, сейчас его манила цена. Ради неё стоило предпринять любую попытку.
«Пасторальная симфония» – мечта и реальность, воспоминание и день нынешний, а заодно и будущее, – она открывала ему путь в страну обетованную, куда он мог прийти рука об руку с Жозефиной. Он насвистел трель соловья, но так и не понял, правильно уловил её или нет. Он высунул голову в окно и не обнаружил поблизости ни одного соловья, хотя обычно они сидели чуть ли не на всех деревьях. Присутствие соловья раздражало его, он видел в нём какой-то зловещий символ.
Нет, он не прав, ни одно живое существо, кроме человека, не несло в себе зловещего начала, и потому его частые визиты к Жозефине, а её – к нему кое-кому очень не понравились. Ради неё он отправился в Баден и Хейлигенштадт, где им, подобно боящимся света насекомым, пришлось встречаться в темноте.
– Я не помешал, Людвиг?
Он так задумался, что не заметил, как в комнату вошёл Франц Брунсвик.
– Мне сейчас все мешают, – лукаво взглянул на него Бетховен. – Ведь одной рукой я сочиняю «Пасторальную симфонию», а другой – заказанную князем Эстергази мессу до мажор. Он хочет, чтобы её исполнили в день ангела супруги в Эйзенштадте. Но что с тобой, Франц? У тебя сегодня такой торжественный вид.
– Да, Людвиг. Скажи мне откровенно как мужчина мужчине, как близкий друг близкому другу: ты искренне любишь Жозефину? И готов ли ты жениться на ней?
– Франц! Если ты в чём-то подозреваешь меня...
– Не говори глупости. Но если ты её любишь, то немедленно женись на ней! Вчера приехали мама и Тереза. – Франц помедлил немного, а потом негромко продолжил: – Сестра заодно с нами. Она желает счастья и Жозефине, и... ещё в большей степени тебе. Она – самый лучший член нашего «Общества друзей человека». Ты понял?
Бетховен кивнул и с тревогой посмотрел на Франца:
– А Жозефина?..
– Речь сейчас не о ней, – холодно, с достоинством проговорил Брунсвик. – Очень многое, если не всё, зависит от мамы. Вчера она, не успев распаковать вещи, тут же обрушилась с нападками на Жозефину: дескать, она потеряла ещё один год, а молодость и красота не возвращаются. Короче, мама потребовала от Пепи снова выйти замуж, чтобы, помимо всего прочего, дети почувствовали мужскую руку. Иначе они вырастут балованными и невоспитанными.
– Вот уж не думал, что у меня руки воспитателя и педагога, – обезоруживающе улыбнулся Бетховен, рассматривая кончики пальцев. – Меня бы кто воспитал!
– Твоим воспитанием, я знаю женщин, займётся Пепи, – мягко, но очень серьёзно сказал Франц Брунсвик. – Поверь мне, я знаю женщин. Поверь мне, пока ситуация складывается не в твою пользу, но Жозефина просила передать, что твёрдо намерена как можно скорее вступить с тобой в брак, даже если мама будет против. Она даже готова хоть сейчас перебраться к тебе.
– Не следовало бы тебе это говорить, Франц. – Лицо Бетховена исказила нервная гримаса. – В данный момент я не могу жениться. Пойми, я нищий, Франц! – Перехватив недоумённый взгляд собеседника, он тяжело поднялся и прошёлся по комнате. – Знаешь, сколько я заработал на концертах по подписке у Лобковица? Даже боюсь назвать сумму, такая она маленькая. Я тружусь как вол и тем не менее влачу жалкое существование. Разумеется, у меня заключён договор с Клементом, но деньги поступают крайне нерегулярно. И в таких условиях должна жить Жозефина?
– А если вы переедете в Мартонвашар?
– Я? А в качестве кого? – в бешенстве закричал Бетховен. – Да там я буду получать милостыню! Жить на средства жены! Да меня там все презирать будут! Нет, я по-настоящему люблю Жозефину и потому никогда не пойду на такой шаг. А тебе, Франц, должно быть стыдно.
Брунсвик крепко обнял друга и прижался головой к его плечу.
– Скажу Пепи, пусть непременно дождётся. До свидания, Людвиг.
– Стой, Франц! – Бетховен схватил Брунсвика за плечи. – По-моему, такой сват, как ты, достоин вознаграждения. Но такой нищий музыкант, как я, может подарить только ноты. Могу я посвятить тебе фортепьянную сонату?
– Подумай лучше о свадебном подарке для Жозефины.
– Франц! Франц! – рассмеялся Бетховен. – К этому знаменательному дню я сочиню такое... Да я весь мир удивлю.
Месса до мажор в Эйзенштадте.
Стена, которую он так хотел взломать, чтобы попасть к Жозефине, в этом месте не поддалась.
Придворная церковь! Позолоченные изображения святых и чрезмерно роскошная церковная утварь. Сиятельные особы обоего пола. Быстрый поклон дароносительнице и обязательный книксен перед сильными мира сего. Запах ладана, смешанный с приторными ароматами духов и помады. Придворная церковь! Неужели Сын Божий согласился бы принять здесь смерть на кресте?
После торжественной мессы последовал вопрос князя, произнесённый пренебрежительным тоном в присутствии всех гостей и свиты:
– Опять вы всё сделали по-своему, дорогой Бетховен?
Гнилостный запах в кирхе, тоска и злость в душе, немедленное возвращение в Вену. Гонорар оказался гораздо меньше, чем он ожидал. Опустевшие, навевающие тоску поля, с которых уже собрали урожай. Руки, на которые наложили шины. Как же они болели! Неужели многолетняя игра на рояле действительно вызвала воспаление ногтевого ложа? И спасти пальцы теперь может только вмешательство хирурга?..
В Вене он узнал об отъезде Жозефины. Но куда и на сколько? В ответ Гляйхенштейн лишь пожал плечами:
– Ты сильно избил эрцгерцога.
– Кого?
– Своего ученика эрцгерцога Рудольфа.
– Ты с ума сошёл, Гляйхенштейн!
– Так они говорят.
– Кто? Придворные льстецы распускают слухи, ибо чувствуют себя особенно оскорблёнными. Послушай лучше, как всё было на самом деле. Я даю принцу уроки не только потому, что очень нуждаюсь в дукатах, нет, мы действительно испытываем друг к другу взаимную симпатию. Он очень одарённый, милый и скромный юноша, и его привязанность ко мне, ей-богу, дороже ста дукатов! Я так и сказал принцу, когда столкнулся с обер-церемониймейстером, сущим болваном в расшитой золотыми галунами ливрее.
– Как столкнулся?
– Уже на первом уроке. Я ведь раньше не бывал в Шёнбрунне, вот он и захотел научить меня правилам придворного этикета. Я только распахнул дверь в музыкальную комнату: «Давайте сразу условимся, принц. Я ведь здесь для того, чтобы обучать вас игре на фортепьяно, не правда ли? И пока у меня это получается лучше, чем у вас, так? Во всяком случае, я не собираюсь за сто дукатов целый час ползать перед вами на четвереньках».
– Какой же ты всё-таки стервец, Людвиг! – В глазах Гляйхенштейна заплясали весёлые огоньки. – Колючий как ёж.
– Принц это понял. Он сказал: «Оставьте его. Пусть он ведёт себя так, как считает нужным. Я лично горжусь таким учителем».
– А как насчёт побоев?
– Однажды я играл ему отрывок из моего фортепьянного концерта. Принц стоял рядом и сокрушённо покачивал головой: «Вы просто поражаете меня своим умением, маэстро. Умоляю, откройте мне тайну своего мастерства. Как вы научились ему?» И тут я решил не церемониться. «Охотно. Пожалуйста, сядьте за рояль, принц, и играйте гамму по квинтовому кругу. Начинайте с до мажор». Он сыграл, и я, нежно, очень нежно, спросил: «И это вы называете до мажор?» И ударил его по пальцам. «В своё время, – говорю, – меня били тростью, и не только по пальцам». Принц сначала испугался, а потом растрогался и схватил меня за руки: «Маэстро!..» К сожалению, один из придворных это видел...
После разговора с Гляйхенштейном прошло три дня. Он сидел, откинувшись на спинку резного стула и вцепившись руками в подлокотники. Ну почему, почему Жозефина уехала, даже не попрощавшись с ним? Гляйхенштейн предположил, что её сильно оскорбил его отказ немедленно жениться на ней. Она, дескать, сочла, что её унизили, оскорбили её женское достоинство... Да нет, чепуха. Иначе бы она уехала сразу, а не через несколько месяцев.
Нужно что-нибудь послать ей, напомнить о себе. Он пересел к секретеру, взял бумагу и с нарастающей злобой принялся рассматривать аккуратно отточенные гусиные перья. Как же неудобно держать одно из них в перевязанной руке. И как трудно ему подбирать слова. Нет, ноты ему писать гораздо легче. Так, может быть, лучше послать ей фортепьянную сонату, которую она сможет играть.
Сразу же определим тональность: ре мажор. Или нет, лучше до мажор. А в конце пусть будет нагромождение тонических аккордов и доминант. Пусть в них выразится горечь разлуки, как в звуках трубы в «Героической симфонии» выражалась бурная радость встречи...
Вдруг он быстро сдвинул веки, словно испуганный каким-то видением, отбросил перо и после некоторых размышлений сунул нотный лист в кипу возвышающихся перед ним нотных тетрадей.
– Ты непременно должен пойти туда, Людвиг.
– Нет, Стефан.
Бройнинг вновь принялся убеждать его:
– Ему ведь недолго жить осталось...
– И я то же самое говорю, – подтверждающе кивнул Гляйхенштейн.
– А я не хочу подвергаться унижениям.
– А я и не знал, Людвиг, что ты чего-нибудь боишься, – с вызовом заявил Бройнинг.
– Нет, я докажу вам, мерзавцы, обратное! – чуть ли не на весь дом закричал Бетховен. – Только поэтому я и пойду туда. Вам мои побудительные мотивы ясны?
Было 27 марта 1808 года. В начале апреля в Вене готовились торжественно отпраздновать семидесятишестилетие Йозефа Гайдна. В актовом зале университета собирались исполнить ораторию «Сотворение мира», считавшуюся одним из лучших произведений престарелого композитора. Ровно десять лет назад он положил на музыку текст итальянца Карпани.
Все трое пришли позднее, когда карета с укреплённым на запятках креслом уже остановилась возле здания университета.
Бетховен недовольно сдвинул брови, но Бройнинг жестом успокоил его. Он не мог в присутствии множества людей надрывно кричать, объясняя глухому другу, что происходит вокруг. Пусть лучше Бетховен своими глазами увидит, во что превратился человек, которого он в гневе навсегда вычеркнул из памяти. Даже запретил друзьям называть при нём его имя.
Гляйхенштейн стиснул зубы и болезненно поморщился – с такой силой Людвиг стиснул его локоть.
Беспомощному старику помогли выйти из кареты, посадили в кресло и понесли к распахнутым дверям. Стоило им переступить порог, как гулко загремели трубы, глухо зазвучали литавры и раздались выкрики: «Гайдн! Гайдн!» Музыканты подняли свои скрипки, гобои и фаготы, певцы и певицы, стоя, замахали нотами, а стоявший перед ними самый знаменитый композитор своего времени Сальери низко поклонился.
Слева и справа от кресла юбиляра с величественным видом заняли места князь Николаус Эстергази и его супруга. Бетховену сразу же вспомнился пренебрежительный отзыв высокородного бездельника на написанную им по его заказу мессу.
Но в данный момент это не имело никакого значения. Съёжившийся в непомерно большом кресле маленький хрупкий старик почти ничем не напоминал знаменитого Йозефа Гайдна. Его покрытое коричневыми пятнами морщинистое лицо было также изъедено оспинами, нос заострился, руки заметно дрожали. В этом помещении с выстуженными за зиму стенами мороз всегда задерживался надолго. От лютого холода Бетховена не спасал даже подбитый мехом плащ. Он искоса взглянул на Гайдна. На его голову, как и прежде, был надет аккуратно напудренный парик с косицей. Она чуть подрагивала, когда Гайдн наклонял голову, благодаря сиятельных особ, вереницей с поклоном проходивших мимо него. Первым конечно же шёл капельмейстер в имении «Эстергаза» Хуммель, ставший преемником Гайдна. Бетховен подумал, что композитор занимал эту должность ещё при покойном отце князя и что жизнь у него была очень нелёгкая. Он родился в семье каретных дел мастера, в которой помимо него было ещё одиннадцать детей, в детстве пел в церковном хоре в Вене, служил лакеем у учителя пения, неудачно женился и недавно потерял двух самых любимых братьев...
От этих грустных размышлений Бетховена отвлекло появление Эйблера. Ведь в мире музыки также существует табель о рангах. Эйблер всего лишь личный капельмейстер князя Эстергази и потому по статусу ниже капельмейстера придворной его императорского и королевского величества оперы Гировеца[82]82
Гировец Адальберг (1763—1850) – австрийский композитор, чех по национальности. С 1793 г. в Вене. С 1804 по 1831 г. композитор и капельмейстер придворной оперы.
[Закрыть]. Последний настолько проникся значимостью занимаемого им поста, что не постеснялся, поздравляя Гайдна, вяло сунуть ему три пальца. Юбиляр радостно пожал их.
Сальери собрался было подать знак музыкантам, но Бетховен повелительным взмахом руки удержал его. Он подошёл к Гайдну, осторожно взял его руки и с поклоном поцеловал их.
– Бетховен, неужели это вы? Бетховен! Бетховен!
– Да, отец, это я. Простите меня, если сможете.
– Бахвал! Настоящий бахвал!
Гайдн прижал голову Бетховена к груди и начал водить рукой по его взъерошенным непокорным волосам.
– Нет, ну надо же, бахвал Бетховен...
Когда он убрал трясущуюся ладонь, Бетховен выпрямился и озабоченно посмотрел на юбиляра.
– Вам не холодно, отец?
– Если уж быть до конца честным... – Гайдн смущённо улыбнулся и кивнул, качнув косичкой парика.
Бетховен сорвал с себя плащ и набросил его на колени Гайдна.
– Но, сын мой...
– Прошу вас, отец…
– Сердечное спасибо.
Так, а теперь, господин сочинитель камерных опер Сальери, можете начинать. Но где же император Франц?
Неужели его величество не сочли нужным прийти и хотя бы поцеловать руки Йозефа Гайдна?
– Ты поступил очень порядочно, Людвиг.
– С чего ты взял?
– Ну как же? – после паузы проговорил Гляйхенштейн. – Граф Трухзес-Вальдбург передал тебе предложение короля Жерома переехать к нему в Капель, обещал должность капельмейстера, хорошее жалованье, а ты...
– У вас, по-моему, всюду шпики. – Бетховен поднял на собеседника внимательный, изучающий взгляд. – Но, к сожалению, вы неправильно истолковали свойства моего характера. Решили, что я руководствовался благородными мотивами, а это далеко не так. Я ведь и нашим и вашим. В Мадриде патриоты сражались за свободу Испании и сотнями гибли под пулями мамлюков Мюрата. Ну, хорошо, предположим, они бы победили. И тогда бы в страну вернулась инквизиция. Таковы были бы плоды их победы. Опять людей заставили бы целыми днями молиться и неустанно трудиться на богачей. Наполеон раздаёт своей родне троны европейских государств вместо того, чтобы нести народам свободу. И в этих условиях, выходит, я должен ехать к «королю-весельчаку»? Нет, я пока ещё не сделал окончательный выбор. Заберите партитуру дуэта и убирайтесь.
– Какого дуэта?
– Я привёз его из Хейлигенштадта, из загородной тиши, которая меня, однако, ничуть не успокоила. Вы ведь просили написать кое-что для исполнения на своей любимой виолончели. А у меня там выдались несколько часов, когда я всё равно ничем нужным не мог заняться.
Гляйхенштейн, шевеля губами, прочёл про себя посвящение: «Inter lacrimas et luctus» – «Среди слёз и страданий» – и подумал, что Людвиг наверняка вспоминал Жозефину...
– Понял, почему я это написал, – издевательским тоном произнёс Бетховен. – Захотелось блеснуть знанием латыни. Ну хорошо, а теперь я должен составить программу своих концертных выступлений, которые состоятся в конце ноября – начале декабря. Я хочу впервые исполнить мои Пятую и Шестую симфонии, а также фортепьянный концерт соль мажор.
Однако концерт в академии состоялся только в конце декабря, и привлечённые к участию в нём музыканты рассказывали небылицы о «наполовину глухом безумце», который устраивал скандалы чуть ли не на каждой репетиции и с которым ничего нельзя было поделать.
С другой стороны, нельзя было отрицать, что в его музыке гремели «барабаны судьбы», от которых дух захватывало даже у прошедших огонь и воду «ландскнехтов музыки». Это было настоящее чудо, и потому многие с нетерпением ожидали, что произойдёт 22 декабря 1808 года в Венском театре.
Сперва выяснилось, что зрительный зал почти пуст, что заполнены немногие ложи, а в партере унылый пейзаж оживляют лишь несколько пёстрых меховых плащей – помещение, казалось, заморозили навсегда. Интендант театра барон фон Браун намеренно не отапливал его, справедливо опасаясь, что сборы не покроют расходы на дрова.
Для Бетховена же пустой зрительный зал был показателен ещё в одном отношении. Он подтверждал его репутацию.
Ведь на премьеру пришли только непоколебимые «бетховианцы», а также небольшая группа тех, кому уже нечего терять.
И всё же, всё же... Он пружинистой походкой взошёл на дирижёрский подиум и коротко, чуть небрежно поклонился. Внимание! Начали! Моя Пятая симфония.
Монотонно загремели литавры – том-том-том! Том-том-том!
Ах, прохвосты! На репетициях они так упрямились, что он в ярости чуть не задушил их. Клементу и Зейфриду пришлось даже запереть его в артистической уборной! Но зато как великолепно, как слаженно играют они сейчас.
Вторая часть. Ему вовсе не потребовалось жестами обозначать её начало. Поразительно, какие чудесные звуки извлекали эти несчастные, забитые люди из своих инструментов. Просто бальзам на раны.
Последняя часть. Финал.
Он собирался прошептать: «Браво!» – как вдруг музыканты вскочили со своих мест и закричали: «Бетховен! Бетховен!» К нему потянулись руки, он сложил губы в подобие улыбки. Неужели они научились играть трудную для понимания, режущую слух музыку безумца Бетховена?
Он передал дирижёрскую палочку Клементу и ушёл за кулисы, чтобы размять для гибкости пальцы. Вернувшись на сцену, он сразу же подошёл к уставленному горящими свечами роялю, и на лице его появилось странное выражение. Он чувствовал себя «королём фортепьяно», обращающимся к подданным с тронной речью. Таковой он считал свой Четвёртый концерт.
– Готовы, Клемент? Хорошо. Аллегро модерато и дольче, дольче[83]83
Мягко (ит.).
[Закрыть].
Он чуть наклонил голову, приближая ухо к клавишам. С такими квадратными ладонями и широкими подушечками пальцев, как у Клемента, только и играть «дольче». Он закрыл глаза, отчётливо представив себя сидящим за роялем. Но, увы, разговоры о глухом исполнителе окончательно отпугнули бы публику.
Сочиняя Четвёртый концерт, он постоянно думал об Орфее, спустившемся в подземное царство за своей Эвридикой и заворожившем обитавших там страшных богинь мщения своей волшебной музыкой. Он тоже Орфей, и вокруг него тоже парят тени, приближаясь всё ближе и ближе. Среди них и Жозефина, которую он также хотел извлечь из подземного царства невыносимой разлуки.
Так, а теперь рондо. Виваче! Виваче![84]84
Живо! (ит.).
[Закрыть]
Он подался вперёд, непроизвольно махнул рукой, и светильники упали на пол. Двое хористов тут же бросились вперёд, чтобы поднять их, но Бетховен досадливо покачал головой, и они, подобно факельщикам, встали рядом с ним. Сфорцато и ещё раз эклат триумфалика[85]85
Торжественно (ит.).
[Закрыть].
Когда Шестая симфония закончилась и началось второе отделение, князь Лобковиц, понизив голос до хриплого шёпота, спросил сидевшего рядом гостя из Берлина:
– Для меня очень важна ваша оценка, господин Рейнхард.
Капельмейстер знал, что князь в каком-то смысле покровительствует Бетховену, и потому, поколебавшись, отозвался с любезной улыбкой:
– Так называемая пастораль настолько затянута, что у нас в Берлине или, к примеру, в Касселе её вряд ли решились бы исполнить для широкой публики. Ведь она по времени равна чуть ли не целому придворному концерту. То же самое можно сказать и о симфонии до минор. Разумеется, ваше сиятельство, в пасторали есть просто великолепные мысли и образы.
– А в симфонии?
– Могу лишь повторить свои слова. Что же касается фортепьянного концерта, то меня несколько смутил его чрезмерно быстрый темп. А этот прискорбный этюд с мальчиками и подсвечниками... Уж очень нелепо.
– По-моему, нам пора? – Лобковиц встал и сделал приглашающий жест.
– Да, ваше сиятельство. – Рейнхард также поднялся, – здесь невыносимо холодно, да, признаться, и довольно скучно. – Он окинул взглядом погруженный в темноту зал. – Остался один-единственный зритель. Любопытно бы узнать, кто он.
– Русский граф. – Лобковиц перегнулся через балюстраду. – Его имя... его имя... Правильно, Виховский.
– Получается, что по окончании концерта господин ван Бетховен поклонится одному зрителю. – Глаза Рейнхарда посуровели, губы поджались. – Если такое произойдёт, я, ваше сиятельство, больше ни одной ноты не напишу.
В Сочельник, предшествовавший новому, 1809 году, он приступил к партитуре нового фортепьянного концерта ребемоль мажор.
Неужели из-за этой академии с её дурной репутацией он должен вечно пребывать в летаргии? Он и так ничего не делал целых восемь дней. В уши к нему будто залезли крысы и начали прогрызать ходы к мозгу, живот словно набили раскалёнными углями. Временами он лежал на кровати, не в состоянии подняться, а тело его от диких болей в голове и желудке то сворачивалось в клубок, то снова распрямлялось. Признак старости? В тридцать восемь лет? У Баха многократное переписывание нот отняло зрение. Есть ли что-либо более губительное для здоровья, чем искусство? Но с этим никто не считается.
На грудь всё сильнее давила изнутри свинцовая тяжесть. Может, уехать к королю Жерому? Или лучше остаться в Вене? Он никак не мог сделать окончательный выбор. Конечно, став придворным капельмейстером, он сможет жениться на Жозефине, но при одном слове «двор» у него обострялись желудочные колики. «Завтра снова веселимся!» Неужели обманутые революционеры отдали свои жизни ради того, чтобы получивший вестфальскую корону младший брат Наполеона мог каждый день веселиться? Нет, даже ради любимой женщины нельзя отказываться от своих взглядов.
А Вена? Здесь правит окружённый старцами в напудренных париках император Франц. В его замках такие богохульные слова, как «свобода» и «человечность», нельзя произносить даже в подсобных помещениях.
В поисках ответа на щемящие душу вопросы: в чём смысл жизни? в чём причина его неудач? – он вдруг решил посвятить «Героическую симфонию» сестре.
Пьянящая торжественная импровизация фортепьянного соло концерта! Следом оркестр играет музыку, пронизанную непреклонной верой в победу! Затем... Затем марш! Непрерывный марш! Призывно гремят трубы, возвещая о начале вечной революции во имя добра и справедливости...
Работалось ему, как никогда, легко. Первая часть оказалась даже больше первой части «Героической симфонии». Си мажор поразил красотой даже его самого. А вокруг основной темы как бы вились триоли.
Один за другим слетали листки календаря, и вот уже на дворе середина февраля и нельзя больше откладывать занятия с эрцгерцогом Рудольфом. Ничего не скажешь, принц отличался добротой и искренностью, но дорога в Шёнбрунн представлялась Бетховену подъёмом на крутую гору – таких она требовала от него усилий. Он отправил эрцгерцогу чуть ли не дюжину записок, в которых объяснял невозможность дать урок самыми невероятными причинами. Сегодня принценова ждал его.
Бетховен тяжело вздохнул. Он сам себя называл «свободным музыкантом», но по-настоящему свободным можно стать, лишь избавившись от необходимости зарабатывать себе на жизнь. А так всё время приходится думать об этих отягощающих мозг и душу дукатах...
Но сегодня хоть выдался прекрасный день, Вена была покрыта сверкающим снежным покровом, и ослепительная голубизна неба как бы предвещала скорый приход весны.
Правда, в дворцовом парке его застигла метель, и, продираясь сквозь снежный вихрь, он принял окончательное решение. Прощальным взором окинул оба великолепных фонтана и почему-то вспомнил безумные цифры: в Шёнбрунне насчитывалось 1441 комната и зал и 139 кухонь. Они предназначались для одной семьи!
В одном из бесконечных, освещённых свечами в чёрных, инкрустированных канделябрах коридоров Бетховен встретил принцессу Марию-Луизу, о которой ходили довольно странные слухи. Неужели стоило верить бесстыжим пьяным речам в замке Грэц: дескать, его величество Наполеон пожелал развестись, чтобы затем...
Двоюродная бабушка этой очаровательной девушки, дочь австрийского императора Мария-Антуанетта была признана виновной перед французским народом и взошла на эшафот. Лившиеся с него потоки крови вознесли корсиканца на вершину власти. В результате он, некогда презираемый и отвергнутый высшим обществом, сам сделался императором Франции и собрался жениться на принцессе из дома Габсбургов. Что крылось за этим намерением: желание потешить своё самолюбие или хитрый расчёт?
При виде Бетховена принц немедленно захлопнул книгу:
– Вы очень редко появляетесь, маэстро. Не ученик ли этому виной? Если да, обещаю исправиться.
– Ваше императорское высочество...
– Ну зачем же так официально? Давайте, когда мы одни, обходиться без формальностей. Ну, рассказывайте!
– Первая часть фортепьянного концерта готова. Если вы не против, я сейчас сыграю её.
Бетховен сел за рояль, долго смотрел на клавиши и потом отрицательно покачал головой.
– Без оркестра вы не получите должного впечатления от концерта...
Он неопределённо повёл плечом и после некоторого колебания медленно встал.
– Должен признать, что это не основная причина. Сегодня мой прощальный визит к вам. Я решил принять предложение короля Жерома.
– Понятно. Вы уже написали ему?
– Ещё нет, но непременно напишу. Мне не остаётся ничего другого.
Он начал торопливо расхаживать по комнате. Развевались полы его голубого сюртука, сверкали начищенные до блеска медные пуговицы. Даже белые шёлковые чулки, новые туфли с пряжками подчёркивали его решимость.
– Я не могу больше оставаться в Вене, принц. Издатели вечно задерживают выплату гонораров, а деньги, которые я зарабатываю уроками и концертами-академиями, можно смело назвать чаевыми. Человек искусства, разумеется, не должен жить в роскоши, но хоть какой-то постоянный доход он обязан иметь.
– Я прекрасно понимаю вас, маэстро. – Грустные глаза принца словно подёрнулись пеленой.
– Скажу прямо, я отнюдь не в восторге от собственного выбора, но давайте утешим себя девизом моего будущего повелителя: «Завтра снова устроим веселье!»
– И вы настолько «развеселились», что теперь не в состоянии даже дать мне на прощанье последний урок?
– Увы, принц, мне нужно срочно в город.
– Вообще-то мне тоже. Позвольте вас подвезти, маэстро.
Принц дёрнул шёлковый шнур с колокольчиком, и на пороге комнаты немедленно возник лакей:
– Слушаю, ваше императорское высочество?
– Пожалуйста, подайте карету.
– Какую именно желают ваше императорское высочество? Запряжённую четвёркой или шестёркой лошадей?
– Двуконную, – принц поднял на лакея серьёзный взгляд, – и ни в коем случае не парадный экипаж.
Лакей с поклоном осторожно закрыл за собой дверь, и тогда Рудольф чуть снисходительно улыбнулся:
– Я, правда, как будущий священник не верю в разного рода приметы, но считаю, что, если хочешь нанести визит удаче, нельзя это делать сразу в запряжённом шестёркой лошадей парадном экипаже. – Он помолчал, а потом негромко, но веско произнёс: – Вот только удача всегда обходит меня стороной, маэстро.
Спустя несколько часов в квартиру Бетховена настойчиво постучали, и через несколько минут эрцгерцог Рудольф стоял у секретера, внимательно глядя на удивлённо вскинувшего голову Бетховена.
– Ваше императорское высочество изволили навестить меня? – Он хотел было встать.
– Нет-нет, сидите, сидите, маэстро. Письмо его величеству Жерому? – Снимая плащ, он невольно стряхнул серебристые капли тающего снега на бумагу, и чернила расплылись. – Полагаю, вам не следует отправлять его. Разрешите присесть? – Глаза юного принца сверкнули весёлым блеском. – Только, ради Бога, не спешите обрушить мне на голову стул. Я всё-таки веду себя более сдержанно, чем Лихновски. Сперва мы объявляем, что отныне вы находитесь под домашним арестом.
Условия самые благоприятные: вас не запрут в комнате или, скажем, в Шёнбрунне, не заточат в крепость, напротив, вам будет позволено давать концерты где угодно, даже во владениях его величества короля Жерома, едва не ставшего вашим совереном, но постоянным местом жительства нашего Людвига ван Бетховена останется Австрия, господин арестант. Когда я говорю «мы», то подразумеваю консорциум, в который помимо меня вошли также князья Лобковиц и Кински. Особенно я рад за Лобковица, ибо впервые этот мот потратил деньги разумно, а не выбросил их на ветер. Вместе с моим скромным вкладом причитающаяся вам в нынешнем году сумма составит четыре тысячи гульденов.
– Ничего не понимаю. – Бетховен осторожно поднёс ладонь к уху.
– Мне давно пора привыкнуть выражаться более ясно и чётко, иначе будущие прихожане ничего не поймут. – Принц недовольно покрутил головой. – Попробую ещё раз объяснить вам суть дела, маэстро. Вы будете получать от нас ежегодно упомянутые четыре тысячи гульденов за согласие остаться в любом из австрийских городов. Скажу откровенно, меня больше всего устроили бы Вена или то место, где я со временем получу посох архиепископа. Минуточку, я ещё не закончил. Эти деньги вы получите не за сочинение каких-либо композиций или уроки игры на фортепьяно, а исключительно за ваше присутствие в наших краях, маэстро, вплоть до скорбного конца. Нам просто захотелось сыграть злую шутку с господином Бонапартом и его многочисленной роднёй. У вас хоть немного улучшилось настроение, маэстро?
– Вы полностью изменили всю мою жизнь, ваше императорское высочество. – Бетховен смотрел на принца широко раскрытыми, полными слёз радости глазами. – Поверьте, я говорю совершенно искренне.
– Хорошо, хорошо, – с улыбкой прервал его эрцгерцог. – Я бы с великим удовольствием назначил вас императорско-королевским капельмейстером, но, к сожалению, это не в моей власти. А теперь позвольте мне сесть за рояль.
Вскоре лицо Бетховена выразило неподдельное изумление.