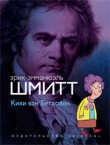Текст книги "Аппассионата. Бетховен"
Автор книги: Альфред Аменда
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 28 страниц)
– Вы – бродяга без роду и племени.
– Что?.. В своё время я, слава Богу, чуть не проломил в Грэце череп князю Лихновски, и если вы тотчас не отправитесь к Герцогу...
Комиссар поднёс фонарь к лицу «бродяги» и поразился его злобно сверкавшим глазам с расширенными зрачками. Откуда этот странный субъект мог знать о глухоте Бетховена? А история о непризнании Верховным судом за знаменитым композитором дворянского звания в своё время наделала в Вене много шума, но вряд ли о ней мог слышать простой бродяга.
– Ну хорошо, я извещу господина музыкального директора Герцога, – нерешительно проговорил комиссар и тут же сурово добавил: – Но если окажется...
– А ну-ка галопом за Герцогом! – с отчаянной лихостью прервал его Бетховен. – Хотя постойте, ребята! Не забирайте фонарь и принесите мне бумагу и карандаш. Хочу записать новую композицию.
– Грасман, принесите задержанному всё, что ему нужно, и до моего возвращения оставайтесь с фонарём в камере. Но будьте осторожны.
– В каком смысле, господин комиссар?
– В любом, Грасман. Даже не знаю...
Через полчаса комиссар вернулся, повертел головой так, словно его слишком тугой воротник мундира невыносимо резал шею, и закашлялся, выигрывая время.
– Всё в порядке, Грасман? – наконец тихим настороженным голосом спросил он.
– Так точно, господин комиссар! – как и полагается по уставу, отчеканил полицейский и тут же скривил губы в пренебрежительной усмешке: – Этот бродяга чего-то там марает, но совсем на ноты не похоже. Я-то знаю, как они выглядят, у меня у самого дочь на фортепьяно играет.
Наконец в камере появился музыкальный директор:
– Да вы с ума сошли! Господин ван Бетховен!
– Очень мило с вашей стороны, Герцог, – меланхолично произнёс Бетховен. – Извините, что нарушил ваш сон, но больше я поблизости никого не знаю. Можете ещё немного потерпеть? Я тут кое-что задумал, но голова, знаете, с возрастом всё больше и больше походит на сито.
– Я охотно подожду.
– Это не долго. Аллегро кон брио аппассионато![116]116
Быстро и воодушевлённо (ит.).
[Закрыть] – бормотал Бетховен, стремительно водя пером по бумаге. – Потом фортиссимо! Соль-ля-си-до-бемоль. И ещё раз си и фермата![117]117
Остановка в музыкальном движении (ит.).
[Закрыть] Следом то же самое, но уже без ферматы...
Комиссар и его подчинённый долго смотрели вслед Бетховену и Герцогу. Уже давно стих звук их шагов, а они всё ещё не сводили глаз с чуть приоткрытой двери полицейского участка.
– Грасман!
– Слушаю, господин комиссар! – Полицейский даже вздрогнул от неожиданности.
– Вы, кажется, заявляли, что разбираетесь в нотах? Так вот, вы дурак и невежа!
– Так точно, господин комиссар!
– Пусть ко мне завтра явится Францмейер.
Он не слышал своих гулко звучавших под сводами собора шагов, и потому его угнетала тишина, как бы затаившаяся в полумраке. Мерцала неугасимая лампада, главный алтарь сегодня был отгорожен решёткой. Он повернулся и с усмешкой взглянул на хоры.
В последний раз он играл на органе, когда обручился здесь с Жозефиной. Это было немыслимо, но прошлое по-прежнему, словно могильная плита, давило на него.
Зачем он вообще пришёл сюда? Сидел за роялем и вдруг сорвался с места и чуть ли не бегом бросился в собор. А может, это она позвала его?
Подобно многим глухим или одиноким людям, он настолько привык разговаривать сам с собой, что даже не обращал внимания на окружающих. Сейчас он также задавал сам себе вопросы и сам же отвечал на них, не замечая сидевшую рядом даму под вуалью и со страхом глядевшую на него маленькую девочку.
– Тётя, а ведь...
– Тихо, дитя моё. Он ничего не слышит, он – глухой. Это господин Людвиг ван Бетховен, о котором я тебе так много рассказывала.
– За кого он молится? – Серо-голубые глаза расширились и таинственно потемнели.
– Сложи снова руки, дитя моё. Давай ещё раз помолимся за твою мать.
В притворе Бетховен вдруг почувствовал, как кто-то легонько коснулся его локтя. Он резко повернулся:
– Графиня! Мы, наверное, не виделись целую вечность.
– Да, – тихо сказала Тереза, согласно кивнув, – вы правы, господин ван Бетховен. Минуло уже столько лет.
Он опустил голову. О чём говорить с человеком, которого последний раз видел...
– Впрочем, я тогда... был на кладбище.
– Я заметила вас. Вы стояли в стороне.
Он без труда читал по губам Терезы, ибо её манера говорить была ему хорошо знакома. Встреча эта была похожа на возвращение в родной дом, но одновременно она навеяла мучительные воспоминания. Он спокойно, без всякой злобы в голосе сказал:
– Я всегда стоял в стороне.
– Ну нет, что вы, господин ван Бетховен, далеко не всегда.
Зачем тревожить старые раны, зачем сыпать на них соль?
Он наклонился и протянул девочке руку.
– И кто же это?
Девочка сделала книксен и, очевидно, назвала своё имя.
– Не понял? – Бетховен подался вперёд, надавив ладонью на ухо, а затем вынул из кармана разговорную тетрадь. – Напиши, как тебя зовут. Вот карандаш. Ах да, извини, Ты же ещё, вероятно, не умеешь писать.
– Да ну что вы, господин ван Бетховен, – в шутку ужаснувшись, замахала руками Тереза Брунсвик. – Давно научилась!
– Вот как?! В самом деле?
Девочка взяла карандаш и, выводя своё имя, по детской привычке от усердия даже высунула язычок. Затем она с церемонным поклоном протянула тетрадь Бетховену. Внизу страницы неуклюжими буквами было написано: «Ми-но-на».
– Смышлёное дитя. А какое здоровое, сильное.
– Она здоровее и сильнее всех нас.
– Минона, – ласково потрепал он девочку по щеке. – А ведь цвет лица у тебя почти такой же, как у меня. Жаль, что я глухой, иначе я сыграл бы вам что-нибудь. Как... как в былые времена, графиня. Или ты не увлекаешься музыкой, Минона?
– Наоборот... – с жаром возразила девочка.
– Она даже пытается исполнить одну из сонат... Людвига ван Бетховена... Ту, которая полегче, – чуть дрогнувшим голосом сказала графиня и отвернулась. И добавила, пряча дрожащие руки: – Кстати, в ризнице мы говорили о вас с патером Вайсом.
– Он верит в свою микстуру, как в Евангелие, – презрительно бросил Бетховен.
– Ну хоть попробуйте.
– После того, как профессора и доктора мне ничем не смогли помочь...
– А в музыке вы тоже считаете профессоров и докторов последней инстанцией?
Бетховен не успел ответить. Минона дёрнула свою тётю за рукав, что-то взволнованно прошептала ей, а затем железной хваткой вцепилась в руку Бетховена.
– Что ей нужно? – Он вопросительно взглянул на Терезу.
– Минона очень упрямая и всегда добивается своего. И уж если что ей в голову втемяшится... Сегодня ей непременно хочется сделать добро, и потому она отведёт вас к патеру Вайсу.
– Я покорно пойду за тобой, как... когда-то пошёл за полицейским. – Взгляд Бетховена потеплел, на лице появилось непривычное для него выражение отеческого внимания и заботы. – Только не спеши. Видишь, я уже иду.
– О, как я счастлива, маэстро! – Госпожа фон Эртман поцеловала Бетховена в лоб и, отойдя назад, восхищённо закатила глаза. – Боже, как я рада вас снова увидеть.
– Бетховен! – Генерал протянул ему обе руки. – Должен признаться, что для меня тоже нет более приятного зрелища! – Он обнял жену за плечи и осторожно привлёк к себе. – Сперва мы, конечно, поехали на кладбище. Могила просто в образцовом состоянии. Мы посадили там свежие цветы и тут же поехали к вам.
Бетховен напряжённо всматривался в губы генерала и наконец, внутренне подобравшись, торопливо пробормотал:
– Эртман, я... я не понял ни одного слова. – Он горько усмехнулся и даже попытался пошутить: – При отъезде в Милан вы забрали с собой мой слух.
Генерал фон Эртман умел владеть собой. Он улыбнулся уголками губ и, не выдавая волнения, по слогам произнёс нарочито равнодушным голосом:
– Он ухудшился?
– Да, я оглох, – как бы извиняясь, ответил Бетховен, – но не до конца, и если вы, Эртман, выстрелите у меня над ухом из пушки...
Он сделал несколько шагов по комнате и поставил перед гостями стулья.
– Прошу садиться. Когда вы в последний раз были у меня? Шесть или даже семь лет тому назад? Ах, больше! Тем временем в печати уже появилась моя соната для фортепьяно ля мажор, опус сто один. Как летит время, моя дорогая Доротея Цецилия, не правда ли? И что такое моя глухота по сравнению с вашей потерей.
– Но я теперь хотя бы могу плакать, маэстро. – Баронесса отняла руки от залитого слезами лица и попыталась улыбнуться.
– Да это была просто моя дурацкая выходка. – Бетховен приподнялся, потом снова сел, стиснул косточками пальцев виски и отрицательно закачал головой. – Я хорошо помню, как ваш муж пришёл ко мне и сказал: «Бетховен, вы знаете, что наш мальчик умер, а Доротея сидит с окаменевшим лицом и даже плакать не может». – Он глубоко вздохнул, словно впервые осознал всю тяжесть взятой на себя тогда ответственности. – Вспомните, Эртман, что тогда я пренебрежительно бросил вам: «Пришлите её ко мне», – но, когда она пришла, меня прошиб холодный пот. Играл я дрожащими пальцами, поверьте, никакой моей заслуги здесь нет. Это как-то само собой произошло, будто кто-то мне подсказывал звуки.
– Ты только посмотри, Доротея. – Генерал Эртман подошёл к фортепьяно. – Какое роскошное английское изделие. На нём даже выгравировано имя нашего виртуоза.
– Именно такое фортепьяно полагается иметь генералиссимусу от музыки и победителю в «Битве при Виттории», – пряча улыбку, кивнул Бетховен. – И потому меня назначили почётным членом Лайбахского филармонического общества и Штирийского союза музыкантов. Хотите, я сыграю вам пассаж из моей Девятой симфонии? Обычно я больше не исполняю свои произведения перед публикой, но ваш визит заставляет меня отбросить даже самые твёрдые принципы. И потом, мне хотелось бы ещё раз выступить перед моей дорогой Доротеей Цецилией в роли «повелителя фортепьяно». Я потерял слух, но клавиши пока ещё чувствую. – Он сел за фортепьяно. – И сыграть я вам должен что-нибудь радостное, ибо ваш визит доставил мне несказанную радость. Может быть, мольто виваче. Я умерил его стремительный темп до ритма баттуте[118]118
Возврат к прежнему ритму (ит.).
[Закрыть]. Надеюсь, Доротея Цецилия, вы ещё помните, что это такое? Мы ведь с вами занимались теорией...
Внезапно он как-то отчуждённо отстранился от рояля и горько посетовал:
– Извините! Я совсем забыл... В фортепьяно нет струн. Я их вынул, чтобы не беспокоить жильцов нашего дома. Оказывается, я им всем мешал. Но не расстраивайтесь, Доротея Цецилия! Иногда я вдруг начинаю хорошо слышать, хотя вроде бы уже навсегда потерял слух.
На лестнице она припала головой к груди мужа и зарыдала во весь голос. Генерал привлёк к себе жену и, глядя в её заплаканные глаза, удручённо вздохнул:
– Какой ужас! Слышать в этом мире только постукивание и пощёлкивание фортепьянных молоточков! Я бы предпочёл погибнуть на поле битвы, чем жить с таким кошмаром.
– Есть ли Бог на свете? – Она возбуждённо пробежалась глазами по его суровому чеканного профиля лицу. – Я об этом спросила, ещё... ещё когда умер наш мальчик. Нет, Бог, если он, конечно, существует, никогда не допустил бы такого!
Бетховен вытер слезящиеся от долгого напряжения глаза смоченным холодной водой платком и посмотрел на часы. Он всегда ставил их возле миски, когда менял компресс. Вместо прописанных врачом сорока минут он держал его всего четырнадцать, так как не хотел терять времени.
На несколько минут он смежил усталые веки, затем всмотрелся в висевшее в простенке между окнами высокое зеркало в чёрной инкрустированной раме. Нет, это не обман зрения. Видимо, желтуха вновь уложит его на несколько недель в постель. Вообще у него вдруг обнаружился целый сонм болезней. Особенно его мучили ревматизм и боли в желудке, которые доктора объясняли «воспалением подчревной области». Содержимое его бумажника после диагноза ещё больше уменьшилось, но до избавления от страданий было ещё далеко, что, безусловно, было очень выгодно учёным мужам.
Но нет, он не позволит себе расслабляться и впадать в уныние. Если уж со своим слухом он сумел добиться таких достижений... Правда, теперь с ним всё. Finita[119]119
Конец (лат.).
[Закрыть].
Где же его последние записи?
Он вытащил из карманов исписанные нотами меню, ресторанные счета и обрывки газет. Ещё никогда ни одно его произведение так безжалостно не преследовало его. «Missa solemnis» и Девятая симфония гнались за ним подобно Эриниям[120]120
Эринии – в греческой мифологии богини мщения, обитающие в подземном царстве.
[Закрыть], которые, правда, иногда казались ангелами с неземными голосами.
Он никак не мог полностью осуществить свой грандиозный замысел, и это было особенно мучительно. Неужели придётся отказаться от завершения мессы?! Деньги, нужны деньги.
Какое же это всё-таки омерзительное слово, но без них никак не обойтись. Требовалось помимо всего прочего оплатить пребывание Карла в интернате Блёхлишера. На это должны были пойти доходы с банковских акций и довольно скромные сбережения. Но придётся отказаться от осуществления заветной мечты – покупки маленького домика в Мёдлинге. Ему так хотелось иметь собственное жильё, чтобы избавиться наконец от придирок домовладельцев. Но ничего не поделаешь, судьба племянника ему дороже. Деньги! Нет, нельзя всё время дурманить себя пением ангелов. Деньги, срочно нужны деньги.
На столе лежала газета, целиком посвящённая главному событию этих дней.
«Зельмира» – так называлась последняя опера Джоаккино Россини. Вена её заказала, и конечно же премьера состоялась именно в Вене. Публика бесновалась от восторга. Маэстро присутствовал на спектакле. Он едва переступил порог тридцати, но дорога его жизни на протяжении вот уже нескольких лет вымощена дукатами различной чеканки.
Безусловно, он одарённый человек, а таланту нельзя завидовать. В лесу искусства водятся самые различные певчие птицы, и он лично никоим образом не хотел бы поменяться с Россини местами. Наверняка это обоюдное желание.
Значит, оснований для гнева против Россини у него не было. Поводом для него скорее могло послужить поведение венской публики, которая вкупе с рецензентами вела себя так, словно «Зельмира» – он читал её партитуру – и впрямь представляла собой недосягаемую вершину музыкального искусства.
Ну хорошо, но его месса тоже, наверное, не самое худшее музыкальное произведение.
Так, сопрано... а в какой тональности?
Как раньше, только в более высоких регистрах!
Вот она, разгадка!
Он побежал пальцами по клавишам и внезапно как ужаленный отдёрнул руки.
Эта маленькая дьяволица Минона! Эта юная упрямица, совершенно непохожая на других детей Жозефины!
Он снова обнаружил в фортепьяно струны, и славный патер, так и не сумевший блеснуть врачебным искусством и сотворить чудо, объяснил суть этого явления: «Маленькая Минона фон Штакельберг пожелала, чтобы у вашего фортепьяно опять появились струны. Вдруг к вам опять вернётся слух. Минона пожертвовала на их установку всё содержимое своей копилки, и если уж это не поможет...»
Вот почему ангелы порой пели нежными детскими голосами.
– Как зовут эту дуру?! – орал Бетховен в один из последних дней октября 1822 года.
– Вильгельмина Шрёдер! – проорал ему в ухо верный вассал и секретарь Шиндлер, уже оказавший Бетховену много полезных услуг. – По слухам, она – невеста актёра Девриента!
Бетховен даже затрясся от отвращения.
Ох уж этот бесчувственный Шиндлер, обдавший его вонью давно не чищенных гнилых зубов. Однако без этого человека ему не обойтись. Про себя он называл Шиндлера «Вагнером», уловив в нём сходство с комическим персонажем из «Фауста».
– Любовные приключения мадемуазель Шрёдер меня не интересуют. Как только австрийской императрице могла прийти в голову нелепая мысль отметить день своего тезоименитства постановкой оперы именно немецкого композитора?
– Её величество очень восхищена мадемуазель и считает её восходящей звездой Бургтеатра... – Шиндлер сдвинул очки обратно на переносицу и принял важный вид.
– Да она же ещё совсем ребёнок! Сколько ей? Семнадцать? В этом возрасте не становятся звёздами.
– ...и потому милостиво соизволила, – непреклонно продолжал Шиндлер, – предложить своей любимице самой выбрать для своего бенефиса в день тезоименитства её императорского величества соответствующее музыкальное произведение. Мадемуазель Шрёдер остановила свой выбор на «Фиделио».
– Выходит, я так низко пал, что мои сочинения стали детской игрушкой?
– Спектакль по художественному оформлению не будет иметь себе равных, – попытался было утешить его Шиндлер.
– Вот как?! Отлично. А дирижировать буду я!
– Маэстро!.. – Шиндлер в ужасе вздёрнул обвислые плечи.
– А почему нет? – Бетховен пренебрежительно скривил губы. – Глухой будет дирижировать, а эта дура – хныкать. Так и передайте Умлауфу. Устроим настоящий балаган.
Бетховен сумел настоять на своём. Они договорились, что на предварительных репетициях дирижирует Умлауф, но на генеральной репетиции за дирижёрским пультом будет стоять Бетховен.
Стояли холодные, туманные ноябрьские дни, он нехорошо себя чувствовал; его бил озноб, и потому он не снимал плаща и широкополой шляпы. Воспалённые глаза сверкали, как у демона. «Ну наконец настроили? Сколько это продлится? Будьте любезны, увертюру!» Он не слышал ни одного звука, но зато видел, как действуют музыкальные инструменты, и знал каждую ноту.
Увертюру сыграли без малейшего срыва. Поднять занавес!
Двор Государственной тюрьмы. Всё как в либретто, но по случаю тезоименитства её императорского величества выполнено с особой тщательностью. На заднем плане главные ворота и высокая стена, из-за которой торчат несколько зелёных верхушек деревьев. Так свобода передаёт привет тем, кто оказался в царстве скорби и отчаяния.
Перед домиком привратника Марцелина гладит одежду. Из окошка на неё смотрит влюблёнными глазами Жакино. Его партию наверняка превосходно исполнит господин Раушнер.
Теперь, моё сердечко, теперь мы одни,
Мы можем поболтать спокойно...
Марцелина, не прекращая гладить, шаловливо открывает ротик. Как же убедительно у неё это получается. Ну да, конечно, фрейлейн Деммер уже давно хорошо зарекомендовала себя в театре.
Пока нам не стоит с тобой говорить,
Мне медлить нельзя за работой...
Жакино:
Скажи хоть словечко, упрямица, мне...
Фрейлейн Деммер:
Скажи лучше ты...
Вот уже и Рокко появился на сцене, всё шло как по маслу, и вскоре настал выход Элеоноры в обличье Фиделио.
Она выглядела именно так, как это предписывал сценарный план спектакля: тёмный камзол, красный жилет, заправленные в короткие сапоги панталоны, широкий ремень из тёмной кожи с серебряной пряжкой, сетка для волос...
Изящная фигурка, но вообще, как юное семнадцатилетнее существо осмелилось... Взгляд всё ещё устремлён в сторону, на спине мешок с продуктами, в руках цепи, которые она взяла в кузнице.
Она положила их возле домика привратника, глубоко и облегчённо вздохнула и обратила наконец к нему своё усталое лицо.
Его сердце бешено забилось: Жозефина...
Начался речитатив, и, пока он длился, Бетховен немного пришёл в себя. Девушка выглядела, как Жозефина двадцать лет назад, и одновременно ничем не походила на неё. На сцене она изображала верную, любящую жену, интонации голоса должны были соответствовать сценическому образу. Следовало признать, что она играла лучше всех.
Но чего девушка так боялась? Не подлежало сомнению, что она испытывала страх, но перед кем?
Наверное, перед ним, Бетховеном. Она не сводила с него испуганных глаз.
Нужно немедленно успокоить её. Он улыбнулся ей, обнажив свои страшные, похожие на клыки зубы: «Наконец-то, наконец-то я тебя нашёл, моя мечта, моя Леонора».
Поняла ли она его? Похоже, что да. Ведь она, скромно потупив глазки, улыбнулась в ответ и даже незаметно для других чуть присела и поклонилась. Страх пропал из её глаз, она выпрямилась, и сразу же возникло ощущение, что молодая актриса теперь начинает играть по-настоящему.
К дьяволу! Он также должен подтянуться и собраться с силами. Только пялить глаза на актёров незачем, этим сейчас ничего не добьёшься. Тем не менее он впился взглядом в губы Марцелины, читая по ним четверостишие:
Мне так чудесно,
Что сжимается сердце;
Он любит меня, это ясно,
Я буду счастлива, да!
С этим каноном он когда-то, выступая перед царственными особами, потерпел неудачу. Сегодня же он чувствовал себя окрылённым и счастливым.
Ну, дитя моё, ну, девочка.
Она запела, и Бетховен понял, что перед ним действительно его Леонора!
Но почему молчит Рокко, ведь сейчас его очередь, почему музыканты убрали свои инструменты, а Леонора, его Леонора, так грустно смотрит на него? Воистину в каноне это какое-то проклятое место.
Шиндлер чуть коснулся его локтя, он тут же протянул ему свою тетрадь и через минуту прочёл: «Невозможно продолжать! Всё остальное осталось дома!»
Вернувшись из театра, он сразу же бросился на софу и закрыл лицо руками. Так лежал несколько часов и лишь иногда переворачивался на спину и бросал беглый взгляд на мерно качающийся маятник.
На площади перед театром толпа дружно пела гимн, написанный Гайдном в честь императора и его супруги. Дирижировал, разумеется, Умлауф.
Стрелки неумолимо двигались по циферблату. Мысленно он вернулся на сцену именно в тот момент, когда Вильгельмина Шрёдер отбросила цепи. Их лязга он, конечно, не услышал.
Но зато он отчётливо слышал слова, доносившиеся из её уст. При этом она снова и снова с грустью смотрела на него.
О, какая мука!
И даже как назвать её, не знаю...
Леонора, приведшая его в смятение и ввергнувшая в глубины ада.
Нет, он ни в чём не винил свою Леонору. Всему виной была его глухота. Какая же страшная у него судьба!
Десятилетний Герхард фон Бройнинг, сын от второго брака его друга, члена Придворного Военного совета Стефана фон Бройнинга, забрался с ногами на стул и сверкающими глазами смотрел на господина Шлеммера, сгорбленного человека, внимательно изучавшего партитуру «Missa solemnis». Опытный копиист хотел снять копии с первого экземпляра в присутствии композитора, чтобы потом избежать возможных вопросов.
– Вы разбираете мой почерк, господин Шлеммер?
– Что? – Копиист испуганно взглянул поверх партитуры. – Какое там разбираю! Приходится только гадать. Да это хуже, чем расшифрованная ныне господином Гротенфендом клинопись.
– Что ещё за клинопись?
– Древневавилонские надписи тех времён, когда у людей ещё были петушиные ноги и они царапали когтями по навозу.
Герхард засмеялся. Бетховен весело посмотрел на них:
– Что вы такого обо мне плохого сказали, мошенники?
Герхард прыгнул к нему на колени, обнял за шею и прокричал в ухо:
– Мы удивляемся твоим нотным записям, дядюшка Людвиг.
– Ах, негодяи!
– Дядюшка Людвиг, какие оценки ты получал за чистописание?
– Всегда единицу[121]121
В Германии единица – высший балл.
[Закрыть].
Столь безапелляционное утверждение восхитило мальчика, он спрыгнул на пол и, приплясывая, начал говорить, отчётливо произнося каждый слог:
– Дядюшка Людвиг, ты нас обманываешь и потому должен заплатить штраф. Снижай постепенно оценки и давай за каждую конфетку. – Он вытащил банку. – Кидай их прямо сюда.
– Возможно. Память меня часто подводит.
Вскоре в банке лежало пять конфет. Шлеммер угрюмо пробурчал:
– По-моему, вы со спокойной душой можете положить туда ещё столько же.
– Не портите мне Пуговицу, Шлеммер.
Он обнял прозванного им так мальчика и ласково сказал:
– А теперь слушай меня внимательно, Ариэль. Придётся тебе слетать к господину Цмескалю и отнести бутылку, которая стоит на подоконнике. Пусть он её выпьет и поправит тем самым своё здоровье. Только не пропадай надолго, иначе папа с мамой обвинят во всём меня.
Мальчик подошёл к окну и воскликнул:
– Шевалье!
Затем он повернулся и скривился, как от зубной боли:
– Дядюшка Людвиг, там подъехал твой брат.
Достопочтенного помещика Иоганна ван Бетховена Бройнинг неуважительно называл Шевалье.
На улице кое-кто из прохожих останавливался и, покачивая головой, смотрел вслед запряжённому четвёркой лошадей роскошному, но уж очень старомодному фаэтону. Двое слуг на запятках производили впечатление людей, нарочно вырядившихся лакеями для участия в карнавале, ещё более поразительно выглядел лично правивший лошадьми владелец кареты.
Из-за жары он снял плащ, хотя, возможно, сделал это, чтобы показать венцам свой лучший наряд, извлекаемый из пронафталиненного шкафа явно лишь по особым поводам. Голубой фрак с чересчур большими медными пуговицами был сшит деревенским портным, но даже наилучшему мастеру кройки и шитья вряд ли удалось бы справиться со столь неуклюжей, расплывшейся фигурой. Сияющий белизной жилет плохо гармонировал с панталонами цвета перца с солью. На руки гордо восседавший на облучке гигант надел перчатки из кручёной нити, которые были слишком велики даже для его громадных рук.
Иоганн был на голову выше Людвига, одно его плечо было выдвинуто вперёд, а на лице, из-за привычки неизменно растягивать рот, казалось, навсегда застыла надменная улыбка. С годами гротесковые черты в нём стали ещё более явными.
– Иоганн! Вот уж никак не ожидал! Ну как поездка?
Иоганн сделал жест, означавший следующее: дескать, ничего хорошего не произошло, но мне пришлось всё бросить, чтобы посмотреть, всё ли здесь в порядке.
– Ты получил моё письмо?
Иоганн долго и обстоятельно снимал перчатки, затем расчесал их и уже потом ответил:
– Мы поговорим об этом.
– Пока можно продолжать снимать копии. – Шлеммер глубоко и тяжело вздохнул.
– О чём идёт речь? – сразу же насторожился Иоганн ван Бетховен.
– О сочинении вашего брата «Missa solemnis».
– Вот как? В бытность мою аптекарем я знал латынь, и, насколько мне помнится, solemnis означает «торжественный».
Странным образом надменная улыбка вдруг исчезла с лица Иоганна, и Шлеммер поспешил покинуть комнату. Мальчик, прозванный Ариэлем и Пуговицей, как мышь, прошмыгнул за дверь. Братья остались одни, и прибегать к разговорной тетради им пришлось теперь гораздо чаще.
– Выходит, под эту самую «Missa solemnis» я должен одолжить тебе тысячу гульденов? Ну будь это хотя бы произведение, равное твоей... твоей знаменитой батальной пьесе...
– Я очень нуждаюсь в деньгах, Иоганн.
– А когда ты в них не нуждался? Ну что это ещё за «Missa solemnis»? С ней ты снова зубы на полку положишь. «Героическая симфония» тебе и тысячи крейцеров не принесла. Над чем ты сейчас работаешь?
– Над Девятой симфонией.
Иоганн с глубоким вздохом вскинул глаза к низкому, давящему потолку и написал в тетради: «От восьми симфоний толку никакого, а ты теперь ещё взялся за девятую! За мой счёт! Но, мой дорогой Людвиг, деньги даются мне очень и очень нелегко. Можешь предложить какой-нибудь залог?»
Бетховен почувствовал, что ещё немного – и он взорвётся и обрушит на брата гневную тираду. Ведь он раньше очень помогал Иоганну и Карлу, даже аптека в Линце была частично куплена на его деньги, а теперь вместо благодарности...
– Я знаю, ты надеешься на акции, Иоганн. Они предназначены для Карла, но я дам тебе в залог те из них, которые собираюсь погасить. Деньги у тебя с собой?
Он хотел произнести эти слова холодным равнодушным тоном, но торопливость выдала его волнение. И это позволило Иоганну и дальше измываться над старшим братом:
– А даже если бы у меня их с собой и не было? Имя Иоганна ван Бетховена, владельца имения в Гнейксендорфе близ Кремса, хорошо известно во всех банках Вены. Да, а почему ты, собственно говоря, не пользуешься векселями? Так же гораздо проще. Достаточно лишь написать на бумаге с нужной суммой имя: Иоганн ван Бетховен. Или...
– Извините, что задержался. – Господин Шлеммер, казалось, ещё больше скукожился и сгорбился. – Пришлось изрядно потрудиться над вашей... вашей «Missa solemnis».
После каждой фразы он жадно хватал ртом воздух, как выброшенная на берег рыба, и, отдышавшись, добавил:
– Ох уж эта болезнь. Чувствую, что это... моя последняя копия.
– Ленивые, ненадёжные субъекты умеют находить любые предлоги, – нарочито беспечно улыбнулся Бетховен.
– Но...
– Да я сам из тех, кто не умеет соблюдать сроки. Эту мессу – впрочем, вы очень хорошо переписали – я должен был представить ещё к намеченному на конец марта тысяча восемьсот двадцатого года возведению эрцгерцога в сан архиепископа. Ныне же у нас март двадцать третьего, а значит, я потерял на неё пять лет. Восемнадцатого марта, накануне годовщины, я хочу наконец вручить её архиепископу.
Он размеренными шагами прошёлся по комнате и после непродолжительного молчания участливо спросил:
– Вы действительно серьёзно больны?
– Я безумно устаю.
– Не стоит обращать на это внимание, мы оба обречены всю жизнь носиться взад-вперёд и умереть на бегу.
– Доброе утро, маэстро! Доброе утро, господин Шлеммер, – в комнату неторопливо вошёл Черни. – Маэстро, вот уже больше часа вас ожидает некий мальчик.
– Кто?
– Я хотел бы показать вам одного своего ученика.
– А он знает, что я не люблю вундеркиндов?
– Ну, разумеется, но вы же знаете мою давнюю мечту о династии пианистов. Когда-то я учился у вас, теперь он учится у меня. И я хотел бы, чтобы вы сказали, способен ли он?
– На что именно?
Черни мог говорить тихо, он знал, что за долгие годы общения любимый и глубоко почитаемый учитель научился разбирать по губам любое его слово.
– ...продолжить династию Бетховенов.
– А почему вы не прихватили сорванца с собой?
Черни растерянно молчал. Ему не хотелось приводить в качестве довода расстроенное пианино.
– Я хотел сделать вам сюрприз, маэстро, но если он не удался, вся вина только на мне.
– Ну хорошо, давайте сходим.
В малом танцевальном зале они поднялись на помост, и Черни сразу же заявил:
– Нам нужны два одинаково настроенных фортепьяно, маэстро.
– Зачем?
– На одном из них я изображу оркестр.
– Вот как? Какой же концерт вы хотите?..
Черни сделал вид, что не расслышал вопроса. Маленький хорошенький мальчик с бледным как мел лицом низко поклонился им.
Бетховен окинул его доброжелательным и вместе с тем сочувственным взглядом.
– Не нужно меня бояться, хотя нет, наверное, тебе естественно сейчас испытывать страх. Со мной в своё время было то же самое. Помнится, когда мне впервые пришлось сыграть на органе моему учителю Христиану Готтлибу Нефе... Знаешь, как тогда мне было страшно. Ну-ка, ну-ка, что вы ему сейчас сказали, Черни?
Черни замялся, не решаясь ответить.
– Мальчик ещё более испугался. Не тяните, Черни, выкладывайте.
– Я сказал: «Человек рядом с тобой стоит той тысячи людей, которая могла бы сейчас сидеть в зале». И ещё я сказал: «Запомни, он может слышать глазами».
– Но я вижу, у него испуганный вид.
– И ещё я сказал: «От твоей игры зависит сейчас твоя дальнейшая судьба, ибо ты играешь перед Людвигом ван Бетховеном».
Бетховен промолчал, и тогда Черни спросил:
– Ты готов?
Мальчик напрягся, стиснул зубы и согласно кивнул.
– Я считаю: один, два... Внимание!
Рамм!..
Черни рывком убрал руки с клавиш. Прозвучал только один аккорд, вызвавший тут же на соседнем фортепьяно целый фонтан звуков.
Бетховен укоризненно посмотрел на Черни. «Ну хорошо, очень мило с вашей стороны, что вы выбрали мой фортепьянный концерт ре-бемоль мажор, но только мальчику едва ли удастся быстро освоить такую сложную технику».