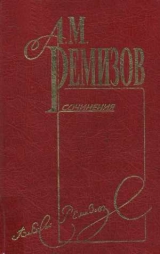
Текст книги "Том 9. Учитель музыки"
Автор книги: Алексей Ремизов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 36 страниц)
– Пустяки, раз бык убит, и дело с концом.
– Но бык забодал троих прохожих и милиционера!
– Трех милиционеров?.. а вон, читали, в Борнео количество крокодилов настолько возросло, что население боится по вечерам выходить из своих жилищ. В течение года они съели ни больше ни меньше, как 800 человек.
Африканский доктор закрыл глаза: или вспомнил свой год в Конго и годы в Нигерии, реки – «кишмя кишат крокодилами», обезьяньи леса, где он до того привык, что запросто обращался как с крокодилами, равно и с обезьянами, и только не мог привыкнуть к африканской блохе, которая вовсе не таких грандиозных размеров, не вол и не лягушка, как это здесь представляют, а еще мельче нашей, живет в песке, и вывести ее нет ни порошков, ни флитокса.
Корнетов чего-то подбегал к окну и смотрел на улицу: из кинематографа выходила публика – перерыв. Но ничего не было опасного и дело не в кинематографе, а верный признак нетерпения: когда случались скучные гости, он тоже все подходил к окну и смотрел.
– На поляне плясала лисица на лапках, только хвост завивался. Дорогу перебегал волк, и тут же, вижу, топчется медведь. По стенке пробираясь мимо зверей, я попал ногами… – Федор Грешищев, застененный Борщком, «Птицами» и Пытко-Пытковским, распевно, как Псалтырь, а нежно, как о каких-то рижских оранжерейных ананасах, рассказывает свой сон, который предрекает ему, по толкованию Очкасова, получение денег, правда, незначительную сумму и в мелкой купюре, – и только тогда сообразил я, какой опасности я подвергался; к счастью, звери не обратили внимания на меня, как на человека, оттого и не тронули. Шаркая ногами о траву, я смотрел на их лапочный танец и думал: если танцуя и опытному танцору бывает трудно удержаться, то зверю извинительно.
– Этим обстоятельством объясняется внезапно увеличившееся за последние недели количество крыс в Будапеште, – внезапно загремел такой внушительный голос, что сам монументальный доктор, оживляясь, протянул руку за раковыми шейками, а говорил это московский философ Пугавкин, привыкший говорить перед микрофоном: с Козлоком он появился в дверях, продолжая свой разговор, – да, крысы полчищами бегут из России! Министр здравоохранения обратился с призывом к населению бороться с крысиным нашествием и организовать в ударном порядке крысиную ловлю, чтобы не позже декабря Венгрия была очищена от крыс.
– Котофей Иваныч, – шепнул Корнетов своему ближайшему соседу, не проронившему слова и не подымающему глаз, – вы хоть начните, пора.
Но Котофей Иваныч, приехавший из Лондона, еще только учился русскому языку, кое-что понимал, а про крыс очень хорошо понял, это видно было по его заблестевшим глазкам, но ни на каком языке не мог говорить, тем более приветственные речи.
– – – – – – – –
Я вошел с пачкой телеграмм, я не без гордости показывал Корнетову, но передать их ему я не мог, чествование уже началось. Без меня и Псалтырь читали старинным московским распевом, сначала Грешищев, потом Очкасов – «самолично», как после передавал мне юбиляр. И все из-за этих телеграмм! Я застал только кончик речи: говорил экономист Птицин. И как это теперь принято, говорил не по своей специальности, не о колхозах и раскулачивании и вообще ни о каких земельных судьбах России, а о Достоевском.
Птицин оканчивал свою речь Майковым, который советовал Достоевскому скорее вернуться в Россию, чтобы совсем не отстать от русской жизни (Достоевский прожил за границей шесть лет), и что ему на это ответил Достоевский:
– «Действительно, я отстану – не от века, не от знания, что у нас делается (я, наверно, гораздо лучше вашего это знаю, я ежедневно прочитываю три русские газеты до последней строчки и получаю два журнала), но от живой струи жизни отстану; не от идеи, а от плоти ее».
И тут вот, кажется, и должен был бы наступить торжественный момент – минута молчания, но не успел Птицин покивать юбиляру, заговорил его неразлучный непримиримый спутник, бывший издатель Пытко-Пытковский. И, как всегда, речь свою повел против: если Птицин посвятил Достоевскому, Пытко-Пытковский заговорил о Тургеневе.
– О позабытом и нечитаемом, но живом и современном Тургеневе, о котором на все лады повторяются затверженные прописные отзывы.
Из современных прославленных ораторов по манере и одушевлению речи Пытко-Пытковского можно было сравнить с присяжным поверенным Авдеевым, о котором, как помнят «берлинцы», установилось бесспорное мнение, что своей речью может покрыть любой промежуток времени – от часу и до трех, целый вечер безостановочно.
Корнетов хоть и торжествовал, что все так по-юбилейному – речи произносят и юбиляру приятно, но не без тревоги посматривал на Мадритскую кукушку и даже тихонечко, я это заметил, к кукушкину домику чего-то лазил, уговаривал ли кукушку не спешить и дать возможность всем высказаться, или замеченную постороннюю паутинку снимал – Корнетов аккуратный и без дела сидеть не любит.
Пытко-Пытковский говорил о Тургеневе сновидце, – а это новая неисследованная большая тема, ведь редкий рассказ у Тургенева без сна; о Тургеневе, который, как и Толстой, владел в совершенстве «обходительным», по определению Петра, разговорным языком или «крестьянским наречием», по Пушкину, и только раз сбившийся на барский лад в самом известном публике «Бежином луге»; о Тургеневе, ученике Гоголя, изобразителе земли и цветов, зорь и ночи.
– И какой надо глаз, чтобы по-своему посмотреть на землю и небо и сказать не по Гоголю и не по Тургеневу – в русской литературе нет такого писателя…
– Есть, – перебил Корнетов, – Пришвин Михаил Михайлович78.
Но Пытко-Пытковский, только слыша свой голос, как это часто бывает в спорах, мимо ушей пропустил Пришвина и, устремляясь на своего противника, приятеля Птицина, подбирался к самому главному.
– Я не спорю, «Бесы» глубочайшее единственное произведение, заворожившее человеческую мысль на много поколений – кто умеет читать, тот вычитает! Но если в революцию всякий счел долгом прочитать «Бесов», то почему же никому в голову не пришло подумать о неумиренной и, я знаю, никогда не успокоющейся, пламенной Марианне из «Нови» и о ее сестре, открытой к мечте о человеческой свободе на земле, Елене из «Накануне», а кстати, и поискать «бесов» (в кавычках) совсем не там. Есть озорнейший Гоголевский рассказ «Шинель». Среди перелива на зубоскал и хохот незабываемые горькие строки о человеке и России: «как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной образованной светскости и, Боже, даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным». У Тургенева не было веселости духа. Гоголевское озорство не по нем, а вот эти случайные строки больно его хлестнули: почти все рассказы Тургенева, начиная с «Записок охотника», – о человеке: как человек мудрует над человеком. И разве это не современно и Тургенев не современен: современность ведь спрашивает не только «чего», а и «из-за чего»? Вы думали, что все пройдет и разрушится, как паутина, то-то, что нет, глубочайшие чувства человеческого сердца неизбывны, и вот наступил «суд жесточайший преимущим».
Корнетов стоял уже не над чайником, а над неукротимым Пытко-Пытковским, как над неостывающим чайником.
– Зверовидные женщины Тургенева – Одинцова, Ирина, Полозова, Лаврецкая – эта цепь такой цепкой «бессмертной жизни», чего же, это очень понятно. Но как еще мало осмыслен образ Лизы. В этом образе «верности» заключена тайна восхождения духа: восхождение через отречение. И судьба Лизы, недосказанная в Софье из «Странной истории», досказана в Евлампии из «Степного короля Лира». И разве это не живо и не современно? Хотят управлять волею других, не победив во имя какой-то высшей воли хотя бы одну из своих маленьких воль. И получается: с каким умом и способностями, не чета скромнейшей Лизе, а попадают в пылесос. А «Стук-стук» – эта тайна действия рока, движущего рукой и окликающего голосом помимо воли человеческой, этот тайный знак приближающегося удара того неизбывного часа, от которого не уйти и самому живучему, самому цепкому, самому зверовидному, вы об этом думали ли когда-нибудь, вспоминая Тургенева?
И в ответ пылесосной трубой взвился из-за Кролика Петушков и громче, а главное зловеще загудел о Толстом: он говорил о Толстом, который мимо Тургенева, перекликнувшись с Гоголем, со своей звериной силой на русские версты, открыл миру землю и человека, и со всей своей чудеснейшей верой в волю и власть человека объявил на все концы свою волю перевернуть весь мир.
– Есть много укоренившихся литературных предрассудков и один из самых вопиющих – это о Толстом, будто бы Толстой писал без всякого разбора, растягивая и громоздя «потому что» на «потому что», но я сомневаюсь, чтобы так говорили те, кто действительно прочитал Толстого. У Толстого есть страницы, которые по праву могут считаться высшим достижением русской прозы по ясности и точности изображения сложнейших многомерных явлений чувств и мысли. Я укажу, как пример, сон Анны Карениной:
– Позвольте сказать несколько слов о критике… – сразу поднялись и ангелолог Илтарев и китоврасик Белеутов.
И началось в три голоса: Петушков, Илтарев, Белеутов, а всех покрывал, по своей необыкновенной вне всякой конкуренции чистоте и дроби натерпевшийся в молчании Борщок: она непременно хотела рассказать свой сон, как у Анны Карениной. Уж те несчастные вопиют, а разобрать ничего невозможно. А тут Грешищев со своим Псалтырем, говорит, обязательно надо повторить, потому что без этого ни один юбилей не обходится, такой ритуал. А за Грешищевым Очкасов. Корнетов вовремя выхватил у меня пачку телеграмм. Но нужно было большое усилие, чтобы прекратить столпотворение. И в этом посодействовал главным образом не Грешищев и не Очкасов, выражавшиеся по-русски и в меру членораздельно, а будущая знаменитость, пока что неизвестный, московский философ Пугавкин, который во весь свой микрофон пустил немым окриком перекрестков: «Halt». И все остановилось – с пастилой, тянучками, бубликами, ватрушками, творожниками, кого с чем застало. Кролик подавился кусочком раковой шейки, а сосед его Пытко-Пытковский вареником, ну а потом проскочило.
И тогда Корнетов торжественно объявил, что только что получены – и предлагает спокойно выслушать приветствия. И обратясь к африканскому доктору и не без гордости прочитав «от президента республики», чего-то вдруг очень заволновался и сразу перескочил на «бельгийского короля» и, на минуту опять запнувшись, точно бегом побежал, перечисляя имена высоких особ и учреждения, ни словом не касаясь содержания.
Я ничего не понимаю: почерк у меня ясный – я еще в приготовительном классе награду получил – «Семейную хронику» Аксакова именно за свой почерк! – и никакой несообразности, насколько припоминаю, я не писал… «Подвели, – пенял мне после Корнетов, – я понимаю, Махонин или Тер-Погосян79 написали по-русски, это естественно, но президент-то республики или Макдональд или еще у вас там персидский принц, который, кстати, недавно умер, ведь они же по-русски не понимают или во всяком случае стесняются писать!» Ну, а я почем знал… а жаль, сколько теплых пожеланий и всяческого сочувствия – и все зря.
Единственное исключение было сделано для черного короля: телеграмма от него была прочитана полностью:
«Моему белому и незабвенному другу, африканскому доктору. Многоуважаемый африканский доктор, настоящим приветствую вас с днем вашего двадцатипятилетия. С наилучшими пожеланиями – черный король Тафа-Зунон Бо-бо».
Expediteur: Poletaef, 26, rue de Chartres, Neuilly sur Seine.80
У меня даже в глазах позеленело. Но представьте – вот она магия высоких, а главное нужных слов! – отправителя телеграммы никто не заметил.
Это ли имя черного короля с таким громким «Бо-бо», погромче куда «царя царей», или все вместе – Достоевский, Тургенев, Толстой воодушевили африканского доктора и теперь один его не соответственно зычный голос с Вергилиевой высоты раздавался на всю комнату. Я выходил к Корнетову в его «пильную», мне необходимо было оправиться – «и как это меня дернуло себя подписать, не понимаю»! – но и в «пильной» слышно было так, будто только мне на ухо кричит доктор и не может остановиться: воспоминания его действительно были необъятны – «Полетаев-Полетаев-Полетаев»!
Начал он с Петербурга со своей первой встречи с Корнетовым в Благовещение, когда по обычаю выпускают на волю живых птиц. Он так и сказал, «живых», отклоняя всякие иносказания: против него сидели теперь те две барышни «птицы», с которыми, по уверению Корнетова, разговаривал св. Франциск. Потом о своей экспедиции в экваториальную Африку: как «не имея средств и только имея одних недоброжелателей», ему удалось проникнуть в Сенегалию, Дагомею, Либерию, Конго и углубиться в Нигерию в самый центр «черноводья».
У спутников доктора было по 50 жен, каждая стоила 50 сантимов – «и никаких больше разговоров». А сам африканский доктор этим не занимается, его интересовали сказки – «таких нигде не услышишь, только в Нигерии»: эти нигерские сказки хранят память о далеких временах, когда люди и звери жили вместе, говорили одним языком и не было между ними вражды и страха.
Африканский доктор, зверски сосредоточившись на «Птицах», но едва ли различая со своей заоблачной высоты, рассказал две черные сказки: о «мудрой черепахе» и о «рыбе и ее друге леопарде», – а было это еще тогда, когда рыба говорила, как наша золотая рыбка, голосом человечьим, и была зверем вровень леопарду и никакой икры не метала. И кабильскую – память Атлантиды.
Но не менее сказок поразила воображение африканского доктора необычайная буйность экваториальной природы.
– Когда мы отправились к черному королю, мы ехали от нашего пункта пустыней: два-три деревца самых незначительных и только песок и камни. А через какой-нибудь час возвращаемся от короля, смотрим – и не узнать дороги: и какой, где песок? – на месте пустыни тропический непроходимый лес. Один за шофера, другой прорубает, так и продвигались. По дороге я убил трех слонов, едва дотащили.
А при воспоминании о черном короле голос африканского доктора зазвучал зловеще:
– Черный в блестящей пожарной каске и железных сапогах король объявил мне, чтобы я ничуть не опасался за свою жизнь: «Ваши белые мяса́, – сказал король, – соленые, на вкус противные, не то что наши – как копченые колбасы!» А между тем домой мне пришлось отправиться одному: спутники мои пропали. В газетах появилась заметка, будто всех нас черные съели! Это неправда. Я послал опровержение, но моего опровержения не напечатали; так и осталось: съели!
– – – – – – – – – –
– Знаете что я хочу вам предложить, – вдруг поднялся, говорили, это и есть Иван Козлок, но я очень хорошо видел, что это Ростик Гофман81, которому африканский доктор подарил какие-то необыкновенные «людоедские» марки, и видно было, Ростик большое сделал усилие и победил свою застенчивость, – хотите я вам подарю котенка: мать русская, т. е. здешняя, а отец сибирский. Или лучше за франк, тут так не принято.
А между тем мадритской кукушке пришло время выскочить из домика и куковать. Все встрепенулись – и оказалось: предательская кукушка отстала ровно на час.
И вы представляете – какой уж там триумф с «мистикой»! – те, кому в Кламар и Медон, нет, ни на каком другом языке не передать, да и кто может здесь представить: ведь это где-нибудь на Москва-реке под Люблином или на Синичке в знойный летний день без всяких стеснительных трусиков, свободно, и лишь с естественной ухваткой, бежит какой по бережку прыгнуть в воду – почему-то с этой самой ухваткой бросились в переднюю, чтобы одевшись кое-как, бежать поспеть на поезд.
Не убрав, как всегда, перевернутой после гостей комнаты, не проветрив, без чаю, только с папиросой, Корнетов сидел у себя за столом в «пильной» и записывал черные сказки – вековую память о людях и зверях.
И вдруг почувствовал, что ноги его как одеревенели – нет, не отсидел, и никаких мурашек, он ясно видит: у себя на ногах не стоптанные войлочные туфли, а высокие железные сапоги. –
Смотри: «писатель!» – и, как это царственно: «писатель»! Но по опыту скажу, как это трудно, если бы вы все знали!
5. Черные сказки
Рыба
Которую рыбу ест человек и звери, не была когда-то такой самой рыбой, и никому в голову не пришло бы ни так, ни бранно отбрыкнуться: «экая ты, рыба!». И не в море, не в озере, не в речке жила рыба и плавать не умела, и не молчала. Рыба жила на земле с человеком и со зверями, а говорила, как человек и звери.
Жил-был рыбец, друг леопарда: с леопардом дружила рыба! И по всему Калабару шла молва о дружбе двух самых сильных – рыбца и леопарда. Часто в джунглях видели рыбца и леопарда – двух братьев. И дом леопарда был домом рыбца. А была у леопарда жена. И полюбилась рыбцу жена леопарда. И рыбец приходил к леопарду, когда леопард уходил из джунглей. Ничего не знал леопард, и не узнать бы. А ходила в дом к леопарду старуха Свекла. Глаза у карги ничего не видят – или высмотрела она носом? Шепнула карга леопарду: «Какой твой друг рыбец – друг! хороша вера! с твоей женой…» Леопард не поверил: невозможно! и все, что хотите, только не это! А Свекла шепчет, Свекла учит, Свекла тычет: «Путается – видела – сам увидишь!»
Леопарда не было в джунглях, рыбец гостил у леопарда. Ночью внезапно вернулся леопард в джунгли. И уж не мог не поверить: леопард застал жену у друга. Что ему остается? – убить? Но вера убита и рука не подымается на друга. Он не знает: что надо? А что-то надо: такое так не проходит. Леопард пошел к царю Ейо. Рассказал царю о своем друге: как обманул его друг; и что ему делать? простить он не может, но и карать – не знает.
Мудрый был царь Ейо, царь над всем Калабаром. Ейо собрал сход: люди и звери. И велит рассказать леопарду о рыбце-друге. Все без утайки рассказал леопард: как он верил – не мог наговору поверить! – и вот убедился. А рыбец молчит: слова немеют, да и где найдешь такое слово – защитить измену: обманул друга! И сказал царь Ейо: «Леопарду быть на земле, а рыбцу в море: и будет земля ему смертью. Кто бы и где бы ни изловил рыбу, убей и съешь». И пошел леопард в джунгли, а рыбец поплыл рыбой в море.
С той поры живет рыба в море, а на землю ей ход закрыт – без воды умирает, и нет у ней голоса – немая плывет. И все ловят рыбу, и человек, и звери, убивают и едят.
Черепаха
Жил-был царь, не простой, звери покорялись ему. И был у царя единственный сын – Экпенион. Когда вырос Экпенион, дал ему отец в жены пятьдесят юных невест – и ни одна не оказалась по сердцу. Экпенион так и сказал отцу: «Ни одна не люба, ни одной мне не надо». Разгневался царь и дал наказ: «если бы нашлась в его царстве девушка красивее невест царевича, и царевич полюбит ее: и ей, и отцу ее, и матери ее – смерть!». Это слышали люди и звери, и всякий намотал себе на ус грозное царское слово. А жила-была черепаха. И у черепахи единственная дочка – Эдэт. И черепаха и муж ее черепах очень встревожились. «Ничего не остается, мать, – сказал черепах, – такая наша судьба. Тюкнем-ка тихонько нашу черепиченку, много ль ей надо! и выбросим в кусты. А то ведь голова одна, и хвост один, влюбится в нее царевич, и ссекут голову – и тебе, и мне, и ей». А черепаха не согласна; «Нет, Скороходыч, надо выждать: переменится», И припрятала черепиченку. И три года держала она ее в скрыта – три года никто не домекнулся, что у черепаха и черепахи растет дочка.
Ушел черепах с черепахой со двора, осталась дома Эдэт. А случилось Экпениону ездить на охоте, едет он мимо черепашьего дома. И видит: на изгороди сидит маленькая птичка, ну такая чудесная, и куда-то пристально смотрит, а эта птичка залюбовалась на Эдэт и уж ничего не замечает. Экпенион пустил стрелу и попал прямо в птичку – убитая упала она на изгородь. Послал Экпенион слугу отыскать птичку, а слуга и наткнулся на Эдэт: никогда еще ничего подобного он не видел! – забыл и о птичке, скорее назад, и рассказал Экпениону, какую красавицу он встретил. Экпенион за изгородь и, как взглянул на Эдэт, тут и влюбился. И долго проговорили они – и Эдэт согласилась стать его женой.
Вернулся Экпенион с охоты и дома ни слова, что полюбил черепахову дочку и другой жены ему не надо. А наутро взял у царского управказа, который царской казной управляет, – шестьдесят штук материй и триста бронзовых пионов и отослал черепахе. А за послом и сам. И объявил, что хочет жениться на Эдэт. Случилось как раз то, чего черепах до смерти боялся. «По царскому наказу, – сказал черепах, – и меня, и черепаху, и нашу дочку царь казнит!» – «Нет, Скороходыч, этого не будет, – сказал Экпенион, – скорее меня убьют, но ни тебя, ни черепаху, ни Эдэт никто не посмеет тронуть». И черепах согласился. А Экпенион пошел домой и рассказал матери. «Узнает царь, – встревожилась мать, – казнит и тебя: ты его волю нарушил!» Но самой-то ей по сердцу – она согласна. И понесла к черепахам – и денег и материй, и пальмового масла – выкуп за невесту: чтобы черепаха не отдала другому свою дочку.
Пять лет ходил Экпенион женихом. И когда выросла Эдэт, сказал отцу, что нашел себе невесту черепаху: «Черепахова дочка Эдэт». Разгневался царь и созвал сход – люди и звери: судить сына. Велит привести Эдэт. И когда появилась Эдэт, все были поражены ее красотой. «Я созвал вас сына судить: он нарушил мою волю. Но когда я увидел Эдэт, не могу его карать за выбор!» И царь простил сына. И все – и люди и звери – одобрили царя. И велел царь восьми эгбосам идти во все концы царства и объявить: «если бы оказалась в его царстве девушка красивее невест царевича и царевич полюбит ее, ни она, ни ее отец, ни ее мать не будут казнены». И дал эгбосам снег и пальмового вина. И в тот же день сыграли свадьбу. Пятьдесят дней длился пир: пять жареных коров и вдоволь сладкой фу-фу и пальмового масла, и по всем перекресткам горшки с пальмовым вином: пей, сколько душа возьмет. День и ночь шли пиры и пляски. Когда же кончился пир, царь отдал полцарства старой черепахе и триста рабов в помощь; и Экпенион дал ей двести женщин и сто девушек для работ. Были черепахи бедные из бедных, а стали богатыми – первые после царя. А когда помер царь, стал царем Экпенион, а Эдэт – царицей. И всякий – человек ли, зверь ли – понял тогда мудрую старую черепаху. И с той поры слывет черепаха премудрой среди людей и зверей.
Первые слезы
– Кабильская –
Тогда проходил по земле – ни отца, ни матери он не знал – беспризорный. И никто не позаботится, никто не спросит, почему он печален? А был он очень печален, но не плакал. Слез тогда еще не было в мире. Увидел его месяц: какой печальный и одинокий идет по земле. И когда пришла ночь, месяц спустился на землю, лег перед ним на земле. «Плачь! – сказал месяц. – Но слезами не слези землю: от земли человек ест. Я возьму твои слезы на небо». И заплакал печальный: вся покинутость и безродность, все одинокое кануло в слезах. Это были первые слезы.
Первые слезы упали не на землю, а на месяц. «Слезы, – сказал месяц, – я даю тебе этот дар и все тебя будут любить!» И месяц поднялся и поплыл по небу. А тот пошел по земле.
И с каждым днем все ему по-другому: не было человека, кто бы ни взглянул на него – и все его одаряли. А на месяце видите темные пятна? – не темные пятна – первые слезы покинутого, – первые слезы мира.








