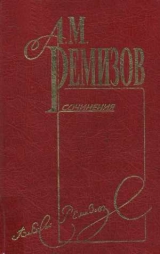
Текст книги "Том 9. Учитель музыки"
Автор книги: Алексей Ремизов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 36 страниц)
– Мими банщик украл!
Клотильда очень волновалась. Не все понимаю. Так и не понял, почему банщик украл кошку, и почему, зная, что именно банщик украл, Клотильда не отберет у него свою кошку.
– Девчонка принесла кошку: «нашла вашу Мими!» – говорила Клотильда, – вижу. Мими: белая, черное пятнышко на голове, черное пятнышко на хвосте, а на брюшке и нет пятнышка. Мими банщик украл!
Я не видел этого банщика, но вот вглядываюсь и вижу, что сосед мой – бритый господин с обваренным лицом поднялся со своего места, и оказалось, что он не кто иной, как банщик; и так же, как выкрадывал он Клотильдину кошку, взял он меня под руку и повел. Я не сопротивлялся. И мы очутились перед пролетом. Я заглянул – земли не вижу. И как я попал на такую высоту, не понимаю. И с ужасом я отшатнулся. Но банщик, не отпуская моей руки, наставил на меня револьвер, и я не успел отмахнуться, искры посыпались из моих глаз и, вздрогнув, я открыл глаза.
Первое, что я заметил, моей соседки-барышни не было – стало быть, Сане проехали. И в нашем купе только бритый обваренный господин и слепая. За окном в мчащейся тьме огни: подъезжаем к Парижу.
И тут произошло – подлинное чудо: на моих глазах слепая сняла свои черные очки – и вовсе никакие гноящиеся, оказались у ней самые обыкновенные и без всяких бельм глаза. Очки она спрятала в сумочку, а из сумочки вынула пудреницу и зеркальце и, прихорашиваясь, попудрила себе около губ.
Но может быть, я сам слеп или все еще сплю? Я посмотрел на соседа – банщик! – а этот банщик на меня, и я почувствовал, что он смотрит теми же глазами, что и я.
– Да я совсем не слепая! – сказала соседка, жеманясь с той лживой притворной улыбкой, я знаю эту улыбку, это бегающие по домам, переносящие новости, сочинительницы всяких сплетен, расхваливающие самих себя, считающие чужие куски, все эти «переноски», это их улыбка, – а то как же?
И в доказательство, что она и на самом деле не слепая – а значит, мы-то слепые? – слепая потянулась к своему тяжелому вализу снять.
– Зачем же вы заставляли ту барышню? – с возмущением сказал сосед-банщик, он не сказал «заставляли меня», – зачем заставляли таскать ваш вализ?..
И поднялся и, грубо наступая ей на ноги, вышел в коридор.
Вализ был тяжелый, но она справилась легко. И я подумал: «а что ей стоит снять и мой заодно?» А с каким презрением она смотрела – не на меня: перед ней был целый мир зрячих! Только знающий цену человеческому глазу так посмотрит.
Глава пятая. Эмпермеабль261Я заметил, как часто интересные события дня проходят бесследно и не попадают в мою сонную тетрадь, и теперь я рисую не только приснившийся сон, а и встречи и происшествия из «живой жизни».
Как миновать пожар, который, может, и не приснится никогда, по крайней мере в этой моей бессрочно-каторжной жизни, и только когда-нибудь в другой обстановке и при других обстоятельствах вдруг ни с того ни с сего моя извечная память воспроизведет до точности летний поздний вечер, едкий дым в раскрытое окно, пожарные гудки, шныряющих вдоль улицы и катящихся колесом пожарных и всю мою тревогу. Горит сосед портной – мосье Шезо, а загорелся по-глупому, не от какого-нибудь короткого замыкания, от которого ничем не оградишься и никак не предусмотришь, а от собственной папироски-капораль, которую оставил, не погася, и ушел, заперев на ночь мастерскую. Ведь снится же иногда из нашего прошлого, такого отдаленного, что из века донесла кровь, которая и есть «дух»… Да, когда-нибудь мне приснится и сам хромой Шезо, каким я увидел его на другой день, пристыженный – еще бы! – и прачка, и гаражист, и переплетчик, и сапожник, и дрогист – все соседи тыкали его в это пасмурное утро: «папироска!» – он стоял с обличающей его папироской у промоченной пожарным усердием суконной рухляди и обгорелого манекена на тротуаре под вывеской, из которой в пожар укорно выпало «l» – «Taileur»262.
И не нарисуй я этого пожара, многое останется непонятным в моей сонной тетради, и прежде всего, почему вдруг сны следующих ночей пошли так живы и разнообразны, и откуда эта приснившаяся гигантская рыба с человеческим лицом и другая в шерсти, а мясолангуста?
Можно ли сказать: «я люблю пожар?» Но я, как помню себя, всегда чувствовал непреодолимое влечение к охваченным огнем зданиям – к полыхавшим московским пожарам, я вдруг как пробуждался: я готов был, бросив ложку, выскочить из-за стола, а улегшись спать, вскочить с постели, я бегал на пожар не только когда горело по соседству где-нибудь на Алексеевских или у Симеона Столпника или у Серебрянических бань, а и за заставу: не отрываясь смотреть на огонь было высшее наслаждение, я упивался этим жгучим блещущим разрушением – иллюминацией, перед которой блекли самые яркие богатые паникадила, вспыхивающие за всенощной на литии под престольный праздник и казавшиеся всегда ослепительными, а уж чадящие на тротуаре между тумб плошки или тусклые стаканчики на проволоке по карнизу забора в царские дни, да их как будто вовсе не существовало. Огненная жертва, которую невольно приносит человек, по своей природе водяной, но дышащий пламенем своего огненного сердца, какая-то очистительная жертва какому-то пожирающему огонь пламенному сердцу, потрясала меня.
Пожар мосье Шезо как бы встряхнул меня, я вдруг ожил и мог так работать, как будто бы месяц я ничего не делал, я как-то отдохнул, и только осталось: ночами я схватывался, не оставил ли на столе у бумаг непогашенную папиросу, и долго мне чудился запах гари.
Или как миновать уличных певцов и музыкантов? Каких музыкантов! – принужденный слушать их музыку, схватываешься, какая беда толкнула на такое бесстыдство – «без зазрения совести», чтобы, выливаясь в разбитом фальшивом звуке, испытывать человеческое терпение. И все это ежедневно и не раз совершается под моим окном, как насилие, как напоминание, нет, больше… И однажды я видел, как ел такой «шантер» – он расположился на площадке у лицея Сей под фонарем: мешок с выброшенными в ордюр окусками хлеба и яйцо.
Или как не нарисовать в мою сонную тетрадь ту переходящую между маршэ д-Отой и Эглиз д-Отой серую под цвет парижских стен, еще не старую, но измученную, как спрессованную, женщину: молча, робко стоит она, протягивая руку. И много ль дают ей и долго ль стоять ей? Я-то не пригляжусь к ней, потому что… но другие, все эти спешащие на рынок или чинно возвращающиеся из церкви, просто не замечают.
Редкое утро – и это тоже должно занять место в моем графическом дневнике – в дождик и ясную погоду, сезоном не стесняются, к задрапированному черным с серебром входу в Эглиз д-Отой под бледный звон колокола, мерно окликающего не рукой звонаря, а электрической кнопкой, подкатывает автомобиль в венках живых цветов, скрепленных на проволоке так искусно, неподвижных, как фарфоровые, а за автомобилем стройной дорожкой провожатые – последний путь. А бывает и без цветов, и так одиноко, что невольно остановишься и станешь, провожая глазами, – последний путь.
В этих встречах моя жестокая судьба. Я узнаю себя и в уличном певце, и в уличном музыканте, и в переходящей истерпевшейся, как окоченелой, женщине, молча протягивающей руку… а «последний путь» – да, ведь это мой неизбывный сегодняшний день, когда с каждым годом уходят, с кем прошла жизнь. И вот подлинно, как во сне, ни с того ни с сего, вдруг, и из такого отдаленного… так появился Мозгин.
– Михаил Матвеич Мозгин! – он развернул книгу и положил передо мной: книга рукописная – полуустав – в современном переплете.
С Мозгиным я никогда не встречался, но фамилию знаю с детства, да и кто на Москве не знал Мозгиных? Дом их в Таганке на Большой Гончарной, где и Поляковых, откуда вышли Брюсовские «Весы» со «Скорпионом» – весь московский символизм, мне ли не помнить. Занимается Мозгин каучуковым делом, торгует в Варшаве, и дела идут хорошо… – построил церковь, содержит священника, тоже и по ветчинной части – в Варшаве ветчина даром, а в Париже кусается. А эта рукописная книга досталась ему случайно – подарок приятеля, есть и надпись, а приятель вывез ее в Варшаву, ухватя, с Москвы.
– Соловецкая челобитная царю Алексею Михайловичу, – сказал Мозгин, – хотелось бы определить и какая цена на такую книгу, в Варшаве говорят, музейная, жаль, что батюшка переплел.
Когда я взглянул на дарственную надпись, мне бросилось в глаза карандашом поставленный год – 1560! и я сразу догадался, что книга побывала в руках у доморощенных любителей-старинщиков, которым при определении рукописи всегда есть где помудровать и душу свою потешить: ну, какой же раскол и царь Алексей Михайлович – 1560 год!
С час проговорил я с Мозгиным, ни словом не касаясь соловецкой челобитной, а вспоминая Москву.
Начали мы с Рогожской заставы и обошли все кладбища, переходя из Андроньева монастыря с знаменитым итальянским памятником-склепом Жилиных, в Покровский с Хлудовскими и Найденовскими могилами, а из Покровского в Новоспасский – выставка московских невест, а из Новоспасского в Донской, а из Донского в Симонов с каменной лягушкой и вереницей порченых и бесноватых, потом пошли по трактирам с Алексеевской на Земляной вал в Таганку, в благочестивой тишине поели блинов у Лопашева, а чай пить по соседству к Лаврову, завел половой орган – сколько воспоминаний! А после чаю прошлись по пивным, посидели у Алексея Иваныча Горшкова, пивная с гуслями у Николы-на-Ямах, а закончили в «Гробу» у Новоспасского, из которого «гроба» один выход – на Хитровку или на Ваганьково.
В среду через неделю условились о свидании.
За неделю я собрал все нужные справки. Переплет кое-где срезал буквы в нумерации листов, но текст не затронут, и варшавский батюшка не так уж виноват. Бумага прошлого века, полуустав нечеткий, буквы косят, не рука старинного писца, этак-то и я напишу. Пятая соловецкая челобитная «о вере» или о «старом пении» царю Алексею Михайловичу 22 сентября 7176 (1667) года, распространенная редакция. Список напечатан у Субботина в «Матерьялах»263 и у Барскова264 в «Памятниках». Редкостью не назовешь – ведь не было старообрядческой моленной, где бы не хранился такой список, и о музейности не может быть речи.
Обо всем об этом я подробно рассказал Мозгину, когда в условленный час в среду он снова появился, и в появлении его ничего уж не было от сна, он был так уверен, что челобитная – подлинник, а цена – не жаль будет расстаться и с родовой памятью: Мозгины из старообрядцев, звенигородские. И про то объяснил я, что подлинник никак не книга, а свиток, и по справкам, нигде не хранится – пропал. Помянул я и карандашный фантастический год – 1560, посоветовал стереть резинкой: подымут на смех.
Мозгин, завертывая книгу, глядел растерянно; ведь он рассчитывал по крайней мере на миллион!
– Сколько же я вам должен? – уныло спросил он.
– Да ничего, – сказал я, – дело ясное.
Айв самом деле, если бы еще условились о какой-нибудь цене…
– Не пожелаете ли эмпермеабль?
Тут я вспомнил, что у Мозгина каучуковое дело, а моя давнишняя мечта – эмпермеабль.
– Моя мечта, – сказал я.
И на это Мозгин, как расцвел:
– Самый модный, на подкладке, – сказал он, – для вас по оптовой цене: сорок пять франков.
И сейчас же снял мерку. Записал себе в книжечку. А мне на листке свой парижский адрес с пометкой: «сорок пять франков».
– Завтра же будет у вас, принесет мальчик, а деньги потом.
Завтра у меня будет эмпермеабль! – я не верил себе: может, мне это только снится?
Вот уж год, как я рисую сны, за год я наловчился запоминать их, у меня в тетради более трехсот снов, жизнь моя расширилась, удвоилась, ночная и дневная реальность одинаково живы для меня, не перепутался ли я? Но у меня сидел живой Куковников, сосед баснописец, при нем я рассказывал о Соловецких старцах, Куковников видел челобитную265 и не мог не слышать – эмпермеабль! и, наконец, Куковников переписал в мою адресную книжку адрес Мозгина по-французски: Мозгин может только по-русски.
Нет, это не сон. И я верю, соловецкие старцы: старец Кирилл Чаплин, возивший челобитную в Москву, келарь Азарий и казначей черный поп Геронтий, автор и писец «воровской» челобитной, это все они сделали, и вот у меня будет эмпермеабль и в самый дождь, который я очень люблю, но всегда и боюсь, я смело выйду под дождь.
– А если что-нибудь запачкается, вы пришлите, сделаем денетуайяж, – сказал Мозгин, прощаясь, и у дверей еще раз проверил мой адрес, – «чтобы мальчику не ошибиться», и еще и еще раз повторил, что завтра в течение дня у меня будет эмпермеабль; а сам пообещал прийти вечером в субботу: есть у него еще Евангелие, много сотен тысяч стоит, напечатано в России в – 1530 году!
Ошеломленный эмпермеаблем, я пропустил мимо ушей этот, тоже не менее фантастический – 1530 год. Весь следующий день я не выходил из дому, я боялся, придет без меня мальчик, не дозвонится, а оставить эмпермеабль у консьержки не догадается; я даже на угол не выбежал в бистро – и как в дождик или когда совсем нет денег, я свертывал себе папиросы из окурочного табаку.
Беспокойно прошел день: на каждый шорох я подбегал к двери, и до позднего вечера все еще надеялся. Конечно, мальчик перепутал адрес, и надо ожидать завтра.
И всю пятницу я просидел дома, я все ждал, но уж к двери не пришлось подбегать, потому что шорохов никаких не было: все разъехались на «ваканс», и только один буйный сосед венгерец, – но буйство его начинается ночью. Оно и началось: сосед играет в карты, и выпивают. И в эту буйную ночь – о сне нечего было и думать – я решил, что никакого мальчика мне не дождаться, а завтра, как условлено, придет Мозгин, принесет фантастическое Евангелие, захватит с собой эмпермеабль! – и я невольно думал о эмпермеабле – я видел себя в этом эмпермеабле, мысленно я говорил Мозгину: «нарядили вы меня чучелой!» – а Мозгин, оправляя на мне складки, повторял: «самый» – в эмпермеабле я обходил всех моих знакомых, и, глядя на меня, все удивлялись: «откуда?» – а я отвечал: «соловецкие старцы».
В субботу вечером пришел Куковников и первое, конечно, о эмпермеабле. Он – подлинно не из сна – очень хорошо запомнил несколько раз повторенное Мозгиным «завтра», и очень удивился, что эмпермеабля я до сих пор не получил. А я с минуты на минуту ждал Мозгина, за день я еще больше уверил себя, что Мозгин сам принесет эмпермеабль.
– Да, может, нет такого размера? – догадывался Куковников.
И весь вечер провел я с Куковниковым. Мозгин так и не пришел. Проговорили, как всегда, о книгах.
– Знаете, кого надо читать и учиться? – сказал Куковников на прощанье, – Салтыкова. По силе и яркости, Головлевы идут вровень с Карамазовыми, а описания природы по крепости, только еще можно найти у Толстого, единственные в русской литературе. А определение: «беспредельная светящаяся пустота» не уступит Гоголевской «сверкающей красоте».
С Куковниковым я согласен и думаю, что Салтыков первым начинает второй круг наших учителей: Салтыков, Лесков, Гончаров, Тургенев, Писемский, Мельников-Печерский. А «беспредельная светящаяся пустота», как образ, есть ли что-нибудь ближе в нашей бессрочно-каторжной жизни? У меня в этой «светящейся пустоте» сверкал мошеннический эмпермеабль, самый модный, на подкладке.
На неделе зашел африканский доктор, принес показать свои только что появившиеся африканские авантюры, а кстати и мой эмпермеабль посмотреть – в нашей бессрочно-каторжной жизни даже и сна не скроешь!
По совету африканского доктора я написал письмо Мозгину, не произошло ли какого недоразумения, не забыл на конверте и свой адрес поставить. Ответа не последовало, но и мое письмо не вернулось.
И как же мне в мой сонник не нарисовать Мозгина во всей его красе и себя в эмпермеабле? И какая разница мои сны и действительность: проснулся и ничего нет.
Часть седьмая. Грубые дни
1. На хлебБольше мне сны не снятся. А это значит, что я погружаюсь в «материю», окостеневаю. С каждым днем неуклонно тяжелое и темное тащит меня, втягивая в себя, глуша мое последнее чувство к сну. Глаза мои видят только то, что доступно человеку при свете дня.
И только осталось: мое чувство, я по-прежнему точно впервые после долгой разлуки смотрю на мир, ставший для меня тесным без сновидений.
В последний раз мне приснилось, будто мне зачем-то надо наверх, и я знаю эту лестницу – крутая с загибами, и уцепилась мне за ноги маленькая старушонка в черном, но я все-таки пошел, тяжело со ступени на ступень подымаясь вверх со своей черной путающейся ношей. Кто-то говорит снизу, что старушонка эта – старая Колотушка, и сердито говорит: зачем я тащу Колотушку наверх чай пить? По голосу узнаю, что это говорит мать, и вспоминаю, ходила к нам в Москве старуха из Андреевской богадельни, Матвеевна, и звали ее Колотушкой, только Матвеевна, как мне запомнилось, хорошая была старуха, приветливая. Хороших людей гораздо больше на свете, чем принято это думать. Это мое убеждение, врывающееся даже в сон, где все навыворот и неожиданно. И вот эта Матвеевна черной цепкой Колотушкой неотцепляющейся тащит меня своей тяжестью за ноги вниз, и я волочу ее со ступени на ступень вверх чай пить наверху. Только очень еще высоко, но уж в маленьком виде виден мне и стол, и на столе чашки, полные с чаем, чуть дымок над чашками, очень горячие, а над столом по стене штук шесть калачей и одна баранка – с картинки, которую я помню, как полюбил картинки смотреть, иллюстрация к яснополянской сказке: «зачем не съел наперед баранку?»
Но тут сон прервали. И оказалось, последний. С тех пор ничего мне не снится – окостеневаю.
А разбудил меня звонок. Кое-как я оделся и к двери. Отворяю. Но совсем это не почтальон и никаких неожиданных денег: передо мной стояла какая-то женфий с раскрытым пакетиком в руке: булавки и иголки. Я их сразу заметил: блестящие с золотыми ушками.
– Зачем мне, – сказал я, – не надо.
Но она не отошла. И со сна и сослепу тычась в раскрытый пакетик, в блестящие булавки и иголки, повторял я:
– Не надо.
И вдруг меня, как кольнуло, и я проснулся:
– Pour acheter du pain!266
Она сказала тихо и сухо, и по голосу я понял, что она не пила и не ела.
Оторвавшись от булавок и иголок, я взглянул ей в глаза, и мне очень стало стыдно, что я вырвал у нее это слово. В глазах ее было мне знакомое – в этих выжженных подглазницах переработавшегося человека, – этот окаянный вид, когда целый день работает человек, а в итоге за его работу – ничего! Она смотрела на меня приговоренными глазами молча, и не было в них никакого упрека – это беда глядела на меня, последняя ступень ее, когда «не надо», как я сказал, принимается с каким-то крайним чувством, что «так и надо» – отчаяние.
В тот день я вышел на волю – не по своей, по бедовой. В такую погоду не погуляешь! Блестящие булавки и иголки с золотыми ушками не выходили у меня из глаз. Я знаю, что часто, очень часто, желая отделаться и притом в приличной форме – изобретение человеческой пошлости – на твою беду говорят тебе, что «всем тяжело» – «всем»? – так хотелось бы крикнуть – нет, никогда не всем! всем никогда еще ничего не бывает! И куда мне идти и как быть с моим проколотым сердцем?
Я шел по бульвару Распай. Мелкий холодный дождь и туман срезывали этажи с домов, и улица казалась ниже и теснее, и я чувствовал на себе, как сжимает меня и горбит. Недалеко от Лютеции в одном из выступов в доме, где было наглухо заделано окно, лежала женщина, ничем не покрытая, а как повалилась, и дождик на лицо ей, спит.
«Некуда деваться!» – подумал я.
И первое, что мне подумалось, – мне даже страшно говорить об этом, я как будто заглянул вперед на годы, уж очень что-то знакомое показалось мне. С трепетом я наклонялся и, глядя в ее измученное лицо и уверяясь, что черты не те, но чем-то очень близко… или это печать обреченности? «Не вернее ли было бы в Сену, и конец!» – подумал я. А, может, у нее и была такая мысль, но, видно, последнее утомление, а много, должно быть, эта бесприютная ходила! – а, главное, местечко удобное – каменный выступ – прилегла и заснула.
«Земля уходит, – думал я, – я это знаю, земля уходит от обреченных. И все меньше и меньше становится пространства, где бы стать и держаться, и некого больше покликать, ну, никого нет! и вот наступает – некуда деваться!»
Нет, она с булавками и иголками не ходила… И вовсе не оттого, чтобы, как это еще и теперь говорят, из гордости, мол, человек не попросит – какая жестокая обида для всех нас, когда говорят так, вот для этих, кто ходит по домам с булавками и иголками или поет под окном или просто молча стоит у бистро, когда варят кофе, или около булочной, из окна которой глядят, перемигиваясь, остроносые хлебцы, и кто посмеет бросить всем этим несчастным презрительную кличку! – нет, унижения нет человеку просить человека «на хлеб» или, что то же, хотя бы на один еще день дышать на земле. Она мать той – с булавками и иголками. И вот ее последний сон на воле. За час дождик всю ее до кости промочит, а на завтра, – но не все ли равно, на каком еще каменном сыром выступе досыпать вечность?
Проходя в метро на Мадлэн, я увидел в проходе двух женфий в черном, в таком густо-черном, сонно-черном, как Колотушка-Матвевна из моего последнего сна; одна стояла, влипая в стену и как бы дымилась, а ее спутница, прикурнув к углу, дымясь, спала. Я заглянул в глаза стоявшей – и она посмотрела на меня, и когда наши глаза встретились, в глазах ее блеснула, как иголка. И я узнал ее, это была сестра той, которая разбудила меня. И видно никуда мне не скрыться от моих черных сестер, в глазах которых последним отчаянием взблескивает стальная блестящая игла.
А когда я взял билет и шел к контролю, меня схватила под руку какая-то, я разобрал только ярко крашенные губы, и как-то виновато мигающие глаза; наклонившись, она очень быстро, но я все-таки понял, попросила на билет – и не все ли равно, на билет, на хлеб? – но у меня ничего больше не было, а своего билета я ей не отдал. И она, поспешно выдернув руку, бросилась от меня в сторону.
И я почувствовал себя виноватым – где-то в самой глуби, как в отсвете какого-то огромного сердца, в подглубье моего человеческого, во всю мою долгую дорогу кипела моя вина и чувство ответственности за свою и чужую беду.
Вечером я зашел к Куковникову в Булонь. Несчастный баснописец! больше его джемперов никто не покупает:
нет заказов.
– Мне бы хоть какую-нибудь письменную работу, готов за самое маленькое вознаграждение!
Очень это было тяжело слушать, и особенно мне. Ведь только нас двое во всем Париже, так все и знают – Корнетов и Куковников – хранящих заветы старых русских мастеров-книгописцев. Но кому надо в Париже наше русское искусство? Художники рисуют буквы и могут воспроизвести любой стиль, и работа их имеет художественную ценность, как рисунок, но нам, чистым писцам-каллиграфам, только навыкшим в стилях, только исходящим, продолжающим традицию, и уж по-своему мудрующим пером, все равно, в Париже ли, в России, пропащее дело. Это как какой-нибудь мастер-звонарь в Москве, где запрещен колокольный звон, или в другом русском городе, где стояли и теперь снесены церкви, кому он нужен?
Я знал, что Куковников переписывал юбилейный адрес и получил при сдаче сто франков, да посулили еще добавить «полсапога» после поднесения, но уж давно прошло это поднесение, а о «полсапоге» забыли. Надо было ждать нового юбилея, да что-то больше умирают – или срок, наконец, вышел и вот бессрочно-осужденным приходит час?
– Я готов за самое маленькое вознаграждение, – повторял Куковников.
И то, как говорил он, и как смотрел, и не на меня он смотрел, а куда-то дальше, точно обращаясь, кто за мной и за ним, к беспощадной жестокой судьбе и чудодейственно-милостивой, или просто ко всему человеческому миру, который мысленно всегда в жгучие минуты подымается перед глазами человека как на страшный суд, и как он руки так невольно складывал, точно прося, нет, больше, умоляя – так; так просят в последнюю минуту, за которой пропад. Этот голос и эти движения Куковникова, а отчасти, как мне кажется, отголосок из моего последнего сна, вторгшегося в сегодняшний день, пробудили у меня далекую память, и я вдруг вспомнил, что на тот же самый голос тем же голосом и теми же словами, только без «маленького вознаграждения», и также складывая руки и умоляя кого-то, просила мать, чтобы дали ей какое-нибудь дело, работу: она только детьми, как живут матери, для меня это теперь ясно, не могла жить, и само появление на свет детей, всех нас, для нее не было желанным, как это бывает у матерей, и я этим вовсе не хочу сказать, чтобы это был какой-нибудь порок, или, как говорят, «противоестественное»: ведь «естественное» – «природа» разнообразна, и родиться женщиной вовсе еще не значит родиться матерью.
Я никогда не забуду одну Пасху – никогда еще весна не рядила так чудесно своими «трепетными зелеными листочками» – «новорожденными листочками», взятыми Достоевским с московских тощих березок, московские «валы», «поля», пруды и бульвары, кладбища, садики при церквах, палисадники особняков и тянущиеся зелеными притоками Москва-реки бесконечные огороды к монастырям, разливающим свой весенний пасхальный звон от московских застав к Кремлю, После пасхальной вечерни, особенно торжественной, особенно песенной, пришел в дом священник с крестом и, отпев Пасху, под пение «Христос воскрес», христосуясь, подал матери крест приложиться – и вот я, вспоминая, как вижу захлебывающуюся ее от слез, я много потом видел слез, но никогда больше не видел, чтобы слезы так заливали лицо, – а это были последние слезы человека, за которыми пожар – горит душа. Я помню, как старик-священник сказал матери, что надо «терпеть». «Терпеть?» – да и что другое мог сказать старик-священник? «Терпеть? – но во имя чего?» Когда терпит пошехонская Каракатица и все претерпевает, увенчивая свое рабское терпение вольным блаженством на том свете, верой в расплату на том свете, я понимаю и, может быть, по-другому и нельзя человеку кротко пронести через всю жизнь клеймо раба, но живому человеческому сердцу, человеку пытливому, человеку, никак и безусловно не смиряющемуся, – да еще когда такая нарядная московская весна с листочками Достоевского? Потом, когда мы подросли и многое поняли, но не все, мы давали матери переписывать запрещенные цензурой произведения Толстого, работа большая, но было уж поздно: хряснуло и человек пропал.
Ночи мои бывают ужасны. Иногда мне жутко поднять глаза к незавешенному окну: мне все кажется, кто-то смотрит. Я знаю этот взгляд, все подкашивающий – недоверие. И у меня опускаются руки. Или вдруг я чувствую, что кто-то подходит за спиной, а в глазах – как завеса, что вот-вот разорвется и раскроет пространство, а я схватываюсь, что сейчас закричу и буду кричать… Теперь я понимаю, что мое состояние совсем не болезнь, а это те самые «судороги души», о которых говорит Достоевский, упоминая о минутах человека, ведомого на казнь.
А в ту ночь, когда я вернулся домой из Булони от Куковникова и лег, не засиживаясь – очень устал я – неожиданно я сразу заснул, и в этом внезапном первом сне голову мою расстреляли; я чувствовал приставленный револьвер и даже крикнул, когда увидел ее, расколотой пополам. И потом долго не мог заснуть, я продолжал думать начатое у Куковникова, нет, раньше – с булавок и иголок, разбудивших меня, и под всеми моими думами одна была, и сам я лежал, как уголь.








