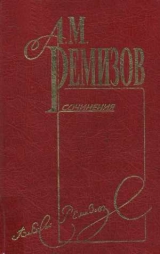
Текст книги "Том 9. Учитель музыки"
Автор книги: Алексей Ремизов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 36 страниц)
Я ни на что не жаловался и голова не болит, а температура все подымалась. Спать я не мог. Лежа, рисовал. Так прошла неделя. За всю неделю со мной была одна только книга: в который раз я перечитывал «Вия», не разгаданного исследователями Гоголя, и, как загадка, всегда завлекательного.
То, что панночка, поднявшись из гроба, шла по церкви, беспрестанно расправляя руки, как бы желала поймать кого-то, а во вторую ночь, вперив мертвые позеленевшие глаза, ловила философа Хому, это понятно – это возмездие за его преступный полет на ней. Но превращение панночки в труп… – как возможно, чтобы «страшная сверкающая красота» вдруг посинела, как человек, уже несколько дней умерший? Этот вопрос не выходил у меня из головы, поддерживаемый моей высокой температурой.
Иногда я спохватывался: ведь нигде Гоголь не прибегает так откровенно к своему излюбленному приему – «с пьяных глаз», как в «Вии», чтобы показать нечто скрытое от «трезвых», те самые «клочки и обрывки» другого мира, о которых будет рассказывать в своей «горячке» Достоевский. И нигде, только в «Вии» с такой явной насмешкой над дураками применяет Гоголь и другой свой любимый прием: опорачивание источников своих чудесных «откровений» – «и разве разумный человек, – говорит он, подмигивая лукаво, – может поверить такому вздору?»
В первую ночь перед тем, как идти в церковь читать над панночкой, философ подкрепил себя доброю кружкой горелки, а кроме того наслушался всяких страшных рассказов, действие которых могло быть сильнее всякой горелки. Только безразличное слово пусто, страшное же, проклятое, как и обрадованное, хмельно и заразительно. Правда, рассказы не заслуживают никакого доверия: рассказывал человек с лицом гладким, чрезвычайно похожим на лопату, Спирид, о псаре Миките, на котором ездила панночка, как на коне, и который сгорел сам собой, как Петрусь в «Вечере накануне Ивана Купала» – «куча золы и пустое ведро», вот и все, что осталось. И другой рассказчик – козак Дорош – со слов козака Шептуна, который «любит иногда украсть и соврать без всякой нужды», как Шепчиха видела собаку, в которую обернулась панночка, и как на ее глазах из собаки снова стала панночка, но с лицом не панночки «сверкающей красоты», а была вся синяя, а глаза горели, как уголь. И еще всякие несообразности: «к тому ведьма, в виде скирды сена, приехала к самым дверям хаты; у другого украла шапку или трубку; у многих девок на селе отрезала косу; у других выпила по нескольку ведер крови».
Перед второй ночью философу дали для подкрепления кварту горелки и он съел довольно большого поросенка, – «и какая-то темная мысль, как гвоздь, сидела в его голове». А перед третьею и последней ночью, за ночь поседевший, он потребовал снова кварту горелки и после попытки убежать вытянул вместе с поймавшим его Дорошем немного не полведра сивухи.
«За ужином он говорил о том, что такое козак, и что он не должен бояться ничего на свете. «Пора, сказал Явтух, пойдем». – «Спичка тебе в язык, проклятый кнур!» – подумал философ и, встав, сказал, – «пойдем». Идя дорогою, философ беспрестанно поглядывал по сторонам и слегка заговаривал со своими провожатыми. Но Явтух молчал; сам Дорош был неразговорчив. Ночь была адская. Волки выли вдали целою стаей, и самый лай собачий был как-то страшен – «Кажется, как будто что-то другое воет: это не волк», – сказал Дорош. Явтух молчал. Философ не нашелся сказать ничего».
* * *
И тут опять начиналась моя мысль – мой вопрос: как возможно, чтобы «страшная сверкающая красота» вдруг так резко изменилась: посинела? Но я так ничего и не решил. При высокой температуре вопросы жгучи и сами по себе в ответах не нуждаются. В этом и есть болезнь.
А когда температура упала и я обратился в лягушачье состояние – ниже 36-и – и как это лягушки плодятся?! – я прислушивался, как перестукивает мое ослабевшее сердце. И если что думал, то не о «Вии» – мне не вспоминался поразивший меня голос Явтуха – голос судьбы: «пора», – ни звучащие в вое волков «клочки и обрывки» другого мира, ни власть темной мысли, засевшей в голове, как гвоздь, – я думал, как быть мне дальше, когда от слабости закрываются глаза, и одно желание: найти какие-нибудь средства, выпить кофею, что ли, и такой крепости, которую не выдержит и самое из самых турецкое сердце, но лишь бы только почувствовать себя нормальным.
* * *
Лягушкой, глотая воздух, я вышел на волю. Моя первая встреча – Птицин. Давно я у них не был и ничего не слыхал, разве что одно, как теперь говорится, что «всем тяжело».
Сам Птицин добродушно врет: все так и знают, привыкли: «о чем бы Птицин ни рассказал, все врет». Вранье его лирическое, никого не обижает. Это «Редактор», прозвище нашего общего друга, носящего такое почтенное имя, им самим присвоенное: «Редактор», лишенный всякого воображения и не имея ни столечко юмора, «Редактор» говорит только «правду», но какая это правда! Обыкновенно все сводится: кто, где и когда вас ругал. Нет, Бог с ней, с этой «редакторской» правдой, не «правда», а великий грех – ссорить людей. И Птицина «неправда» мне кажется куда «правдивее».
За мои отсутствующие дни, когда я измерял температуру и раздумывал над «Вием», я был вычеркнут из жизни, а между тем произошло много всяких событий, как внешних – «парижских», так и внутренних – «каторжных». Было что порассказать Птицину, было где и развернуться.
Да, необыкновенные вещи совершаются на белом свете!
Где-то в XV арондисмане в самой «каторжной» воронке затеялось необыкновенное литературное предприятие, какая-то несбыточная «История России» – от начала русского государства до «литературные побеги» в эмиграции. Весь пишущий русский Париж был занят: Козлок писал «мировую войну», Полетаев – «побеги», а Птицин…
– Историю о генералах.
Я ушам не поверил: Козлок, Полетаев – «война», «побеги», все это из жизни…
– Как о генералах, о каких генералах? – спросил я, как сто лет назад Бетрищев, – генерал не вообще, не в «общности», а «отечественный», 12-го года, спросил Павла Ивановича Чичикова.
– Историю о генералах гражданской войны, Козлок, – повторил он, – «мировую войну», а я «историю о генералах».
И я не мог не поверить.
«Стало быть, подумал я, литературные явления могут чудесным образом воплощаться в жизни: вдохновение – вздор. Чичикова осуществляет Птицин в Париже и в ус себе не дует – что ж тут такого? – по программе: «История России»!
И я представил себе: как эти несметные генералы, военные и штатские, регистрируются у Птицина и какой великий соблазн выдать себя за генерала, чтобы попасть в «Историю России». И почему я не генерал, и никаким боком, ни вообще, ни в общности, а ратник ополчения 2-го разряда…277 а какая у меня есть фотография, любительская и без знаков отличий, но сколько достоинства…
– Я понимаю, – сказал я, – сочувствую. У Щедрина…
Но Птицин перебил меня, продолжая свои необыкновенные истории.
Опыт первой «воздушной обороны» произвел самое неожиданное действие. Ни один француз и представить себе не может, что почувствовалось на «каторге» в том несчастном отчаянном круге тех русских, кто за 15–12 лет, откладывая или по другой причине, не брал картдидантитэ.
«Старичка повара у Бурьяновых знаете? Так вот, когда завыла сирена и все автомобили остановились, несчастный влез в гард-манжэ, вообразив, что это окличка на неимеющих документов и что теперь уж его обязательно поймают, и так влип, нечеловечески втиснувшись в узкий, перегороженный ящик со свежей провизией, что не было никакой возможности вытащить его, когда сирена перевыла весь свой механически-зловещий вой, на который едва ли кто обратил внимание. Старый человек, – продолжал Птицин, – сами понимаете, не за что ухватиться, а слов не слушает. И щекотки не боится. И все такое… а случай с Балдахалом!» – сам себя перебил Птицин.
Балдахал, наш общий приятель, да его в Париже все знают, автор многолетнего труда, не нашедшего издателя: «История русского стиля» от Аввакума до Пришвина, кажется, единственный не приткнувшийся к «Истории России», впрочем, понятно – «за ненадобностью». Большой чудак и «провидец».
Балдахал собственными глазами видел, как на собрании на Монпарнасе среди философов, обсуждавших животрепещущий вопрос о литературной премии за лучшее сочинение, и как раз в то самое время, когда Козлок («подосланный большевиками») взял слово, указав, что в качестве судей надо привлечь самые широкие круги, не имеющие никакого отношения к литературному мастерству, как например, союз «каторжной иглы», вдруг показалась баранья голова, ну точь-в-точь как в «Вечере накануне Ивана Купала»:
«Баран поднял голову, блудящие глаза его ожили и засветились, и вмиг появившиеся черные щетинистые усы значительно заморгали на присутствующих. Все тотчас узнали на бараньей голове рожу Басаврюка; тетка деда моего даже думала уже, что вот-вот попросит водки».
– А знаете ли вы, – сказал Птицин, – в Париже образовался комитет и приступил к выработке программы «обильного пищепитания парижских мышей»? Куковников, не подававший прошения о зачислении его в этот комитет, неожиданно получил извещение, что его забаллотировали.
И бросив Балдахала, Птицин ухватился за Куковникова: тоже необыкновенный случай.
Куковников обнаружил у себя пакет с подтопкой для камина: лежит завернутый в газету на ящике в прихожей. Откуда? И кто мог оставить? У Куковникова камина нет, стало быть, исключается прежде всего сам хозяин, и подозревать его в рассеянности не следует. Припоминает: был Лифарь, да, только Лифарь, и у Лифаря он заметил какой-то пакет или портфель, нет, пакет. И хотя это ни с чем несообразно, ну, сами посудите, Лифарь, имя которого с восхищением произносит весь Париж, а слава затмевает громчайшие мировые имена, Лифарь, которому принадлежит единственное слово из всех, которые сохранятся от наших бездарных дней, претендующих на великие слова, провозгласивший «свободу и независимость танца» – как однажды поэты провозгласили «независимое слово», музыканты – «музыку», художники – «живопись», и воплотивший свое слово в «Икаре», зачем Лифарю подтопка и вообще есть ли время бегать в лавочку, ну, за папиросами – еще туда-сюда, это еще вообразимо, но за подтопкой? Куковников решил, что пакет Лифаря.
– И всем показывает: храню, говорит, до востребования. А между тем, – Птицин даже всхлипнул от вдруг осенившей его мысли, – а между тем, у Куковникова, исчез сверток с сухариками для «неизвестной собаки».
Птицин явно перепутал меня с Куковниковым; но я не возражал; действительно, однажды еще перед Рождеством, произошла такая путаница: кто-то по спешке взял у меня сверток с сухариками для «неизвестной собаки». Куковников никаких сухариков не собирает.
– Марья Петровна, – продолжал Птицин, – ела компот и в черносливе ей попался – сначала трудно было разобрать, что это за невиданная слива, а как стала приглядываться, видит: шоколадный петушок. А обедавший у нас Замутий откусил яблоко, а в яблоке косточка вишневая. И это как раз накануне – у нас большое несчастье, – померла наша фамдемэнаж мадам Рожье, вы ее наверное помните, замечательно кроткая женщина. И какой со мной случай, прямо из «Вия»…
Я насторожился: случай из «Вия» – это как раз мое. Но Птицин пообещал: в следующий раз – ему еще трудно рассказывать: жутко.
А никуда я не хожу – много всяких «потому что».
Потому что редкий вечер, засидевшись куда за полночь, не спохватишься, как мало часов и сколько бы надо часов, чтобы все мои затеянные дела переделать; а тут еще и моя медлительность: над каждым делом, и самым несложным, я должен непременно копаться, а, стало быть, мне часов требуется гораздо больше, чем другим и совсем не «скоропалитным»; а если вспомнить, что есть еще и на всякий день еще обязательное «потерянное» время – на кухне, то и при всем желании не больно расходишься.
А еще я никуда не хожу, потому что незачем.
Не люблю веселых дураков, с которыми равняется восторженный болтун; не люблю анекдоты – «пустое время», не люблю – как передаются и принимаются сплетни.
По Гоголю люди делятся на «человека-бабу» и «человека-не-бабу»: человек-баба верит больше слуху о человеке, чем самому человеку; человек-не-баба верит человеку, а не слуху о человеке; «когда человек-баба, говорит Гоголь, торжественно заявит, что он больше ничего, как баба, то тотчас и перестанет быть человеком-бабой!» – чего, добавлю от себя, никогда не бывает; а ведь этой «бабой» земля выбабилась, и что может быть паскуднее…
Не люблю легкости, которая стоит грубости, а человек-легкий и человек-грубый – такими на свет родятся и уж ничего, сама исправительная каторга не исправит, и против которых нет защиты.
Не люблю выспрашивающих и всегда корыстно и советчиков, которым до тебя нет никакого дела. А если вспомнить и всю тяготу возвращения домой – ожидание автобуса, и как всегда холодно, и от ветра не спрячешься, нет, ходить по гостям – пропащее время.
Вот и сижу дома.
Конечно, по беде-то бедовой, и хочешь-не-хочешь, а должен и несмотря ни на что – никогда я не помирюсь, но смиряюсь. Конечно, есть и исключения: старичок пушкинист Сергей Сергеич – и нет никакой «физической» возможности, а выберешься, или к тому же баснописцу Куковникову или к библиофилу Галкину: им-то хорошо известны все мои природные недостатки и моя жалоба на ограниченность и краткость часов – и никогда не посетуют, если проходит месяц и другой и третий, а меня нет.
Признаюсь, посули мне Птицин рассказать случай не из «Вия», а из «Шпоньки», я бы еще подумал, во всяком случае несвойственной мне быстроты не обнаружил бы, хотя Птицины не за горой, не надо никакого автобуса. И вовсе не потому, чтобы не ценил я «Шпоньку» – произведение блестяще-законченной формы, а для дураков «без конца».
И вот в дождь, а я иду к Птицину.
Я иду по нашей рю Дотой, глядя себе под ноги, чтобы не поскользнуться, но весь я – в «Вии», которого перечитал за всю мою странную болезнь с высокой температурой, но без всякой боли.
Вий! Вий – не «черт» с рогами, хвостом и копытом, и никакой «демон», не оперный и не монастырский, Вий – это сама завязь, исток и испод – живое сердце жизни, «темный корень» жизни, земляная, неистовая, непобедимая сила, «вверху которой едва ли носится дух Божий», слепая – потому что беспощадная, и глазастая – потому что безошибочная в выборе, обрекая на гибель, из ею же зачатого на земле среди самого косного и самого совершенного, не пощадившая однажды и самое совершеннейшее, Вий – а Достоевский скажет: Тарантул.
Весь охваченный Вием, я вдруг увидел себя забившимся за иконостас, невидимым для подземных крылатых чудовищ с отвратительными липкими, залупленными хвостами, и все различающим из-за своей засады в трепещущей от свечей, облитой светом церкви в третью и последнюю роковую ночь: я видел, высоко со стены из перепутанных волос-паутины два светящихся глаза с поднятыми немного вверх бровями и над ними, дрожа, спускались клещи и жала из стеклом-переливающейся, налитой, как пузырь, голова-груди тарантула; я видел синюю, оскаленную, стучащую зубами и взвизгивающую – а еще так недавно «страшную сверкающую красоту» – простирая руки, задыхаясь от мести, она ловила; я видел, как философ, этот избранный ею из бестий бестия, песенный кентавр, посмевший наперекор ее воле смертельно прикоснуться к ней, избранной и вещей, к ее «резкой сверкающей красоте», в первую мертвую ночь открывшей ему всю вину его, когда поглядела на него закрытыми глазами и из-под ресницы ее правого глаза покатилась слеза, и он ясно различил на щеке ее, но это была не слеза, а капля крови, и обезумев от страха, подгрудным голосом, как во сне и исступлении, не различая букв, перепутав все строчки и забыв все псалмы, он не кричал уж, а давясь, дико выл, вывывая – «Ой, у поли могыла»… я видел Гоголя, какая грозная тишина в его виновных глазах! как много пережглось в нем и все было растерзано – приближалась расплата; я видел, как в затихшую и вдруг присмиревшую церковь под отдаленный вой волков – нет, как будто выл кто-то здесь – ввели косолапого дюжего человека: он был, как корень, весь в земле, прилипшей к нему комками, отваливавшимися густо запекшейся кровью, тяжело ступал он, длинные веки опущены до самой земли, а лицо у него было железное; его привели под-руки и прямо поставили к тому месту, где стоял Гоголь –
* * *
Птицин встретил меня необыкновенным случаем – но без этого он не может: такова его природа выдумщика. В прошлый раз «история о генералах», которую он пишет по примеру Тентетникова, о генералах не «вообще» и не в «общности», а гражданской войны: ученый комитет, образовавшийся в Париже, для выработки юбилейной программы «обильного пищепитания мышей»; Лифарь и Куковников с его таинственным пакетом с подтопкой для камина; а теперь Сергей Сергеевич: старичок пушкинист Сергей Сергеич «опился дешевым молоком!»
– И надо же, что и у Годфрэна и в молочной против и в той, что против знаменитой булочной Гошэ и в «лявишер» молоко – двадцать сантимов литр. Сергей Сергеич и повадился: где литр, где пол-литра. Африканский доктор говорит, случай неизвестный в медицине: откачивали, как утопленника!
Но я пришел не за молочными чудесами, а за обещанным случаем из «Вия». – Птицин спохватился: «Вия» он нарочно перечитал, но он никак не похож на «философа» и никакого за ним нет преступления, чтобы наперекор – не помнит в своей жизни никакого полета, и ни в какие заклинания не верит, и, как всем известно, непьющий.
– Большое несчастье для нас: умерла мадам Рожье! Вы ее помните? Пять лет она приходила к нам. Последние годы два раза в неделю. На нее все можно было оставить и с деньгами не торопит: всегда подождет, когда будут. Теперь мы все сами. На кухне висит ее «таблие», не трогаем, вроде как живое, рука не подымается. В последний раз оба мы вышли, оставив ее убирать, а вернулись, ее уж нет, кончила и ушла. Так и ушла. От ее мужа получили письмо, что грипп: 41,3. Плохо, думаем, 41, да еще 3, не выдержит. Прошла неделя, ждем, и другая, а на третью – извещение с черной каймой: Мадам Рожье, 39 лет, и всякие подробности и где похороны и где должны собраться проводить. Сижу я ночью на кухне – ночью я на кухне курю, и вдруг чувствую, сзади подходит – а вижу я ее перед собой, как отражение, идет по коридору. И мне нисколько не страшно. Кротости она была необычайной, за пять лет ни разу я не рассердился на нее. И мне вспомнилось, как она рассказывала, что дома она всегда поет, но какой у нее голос, мы так и не слыхали, а судя по тому, как она чихала, голос у нее был полный, скорее низкий. И еще мне припомнилось, она говорила, что много читает, а когда я ее спросил о Пэги или слышала она что об Андрэ Жиде и известен ли ей один из искуснейших современных поэтов Поль Элюар, оказалось, имена эти ей незнакомы, впервые слышит, а читает она «les romans policiers»278, а кто автор, не помнит. Она шла по коридору, не глядя, и вдруг остановилась, увидала меня, – «Мосье!» – И во вторую ночь, опять за папиросой, я почувствовал, опять – и вижу, подходит – как всегда, она кротко смотрела, ясно было, она видела меня. Глаза у нее обреченные, но сама она этого не замечала, и когда однажды я спросил: может быть, у нее что-нибудь с сердцем? – такой взгляд я замечал у сердечных больных, или было очень тяжелое в жизни, почему она так смотрит – эта кротость и такая глубокая печаль? «Нет, – сказала она, – я всегда веселая, и если было трудно… в войну редкий день не приходилось высиживаться в погребе (она из Па-де-Калэ), но вот когда после войны захворал муж, да, было очень трудно». Она не профессиональная фамдеменаж, лишь временно взялась за работу, а когда дела поправились, ходила только к нам, не хотелось оставлять, привыкла; и даже в манерах ее появилось что-то мое. «Нет, мне и во сне ничего не снится, а с гостями в кафе я одна разговариваю и всех занимаю, и только в таких случаях курю!» Вспомнив ее рассказы, я невольно показал на папиросы – так живо я ее видел. – «Мосье!..» она этого не сказала, но губы ее шевельнулись. – А на третью ночь, в день похорон, войдя в кухню, я потрогал висевшее ее «таблие», я сделал это так, а до тех пор не решался, я был взбаламучен своим «каторжным» и вообще «человеческим». И за папиросой я раздумывал о подлой человеческой материи, о подлости самого основного вещества человеческой породы – изобретательная жадность, обман, вероломство, лицемерие, – ну, скажите, есть ли что еще паскуднее, как «всеобщая жертва», этот призыв к человеческому благородству, или как часто теперь повторяемое, что… «и всем тяжело»: жертву всегда приносили только те, у кого и без того хребет надломлен, а ссылка на «всех», нисколько не поправляя дела, утешает только говорящих, а авторитетнейший и безапелляционный «глас народа», пустивший в мир столько клеветы?.. И вдруг я почувствовал, подходит. И увидел: она шла по коридору, как и в первую и вторую ночь, но совсем не так, как в те ночи: она как-то на носках скользила, опускаясь на каблуки и притоптывая, руки она держала перед собой, пальцы ее были напряженно вытянуты и весь ее негритянский индефризабль вздыбился, как от ветра, лицо без кровинки с синими, как впадины, подглазницами, никакой кротости, никакой желанности в ее ужаснувшемся взгляде – видела она меня или не видела, но я видел, что идет уверенно прямо на меня. И я не выдержал, поднялся, погасил электричество и, не обертываясь, тихонько вышел из кухни. – И что меня поразило: такая воплощенная кротость и вдруг так измениться! Я смотрю очень трезво, я не верю ни в какие привидения, но как объяснить… или это взбудораженная ожесточенная моя мысль так ужасно извратила кроткий человеческий образ?
«Сочиняет!» – подумал я и сейчас же спохватился: – ну даже если и сочинил – Соня в «Войне и мире» сочинила, что, гадая, будто бы в зеркале увидела, и сочинение ее оказалось вещим. Наивные люди думают, что сочинение – здорово живешь, и не задают себе вопроса, почему что-то сочинилось. Человеческая мысль возникает не из пуста! – и вспомнив свои мысли над «Вием» в свою странную болезнь с высокой температурой без всякой боли, я сказал:
– Петр Петрович, мысли не из пуста, а также и представления: «страшная сверкающая красота» в страшных глазах философа вдруг посинела, но ведь что-то наперед напугало глаза, как растерзало и ваши мысли о человеческой породе! И скажу вам, а это я давно понял, что самый испод, самая завязь этой породы – что-то очень темное, и ничего нет удивительного, если.








