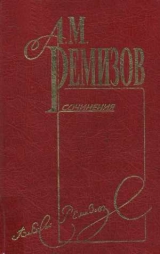
Текст книги "Том 9. Учитель музыки"
Автор книги: Алексей Ремизов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 36 страниц)
Боль – она и в большом дыхании – в весеннем благословении жизни – в этом «Да воскреснет Бог» – в гимне воскресению – и в вое ветра, который я слушаю, присмирев, и в моей жгучей памяти, и в лунном затишье, и в ночных голосах «чистого поля», – я узнаю ее голос, и с голосом мне светит горький цвет жизни, без которого нет жизни. И вот перед лицом этой боли я становлюсь на колени и прошу, – о чем прошу, не знаю, – и о чем просить и чего хотеть, глядя в пустые безответные глаза?
3. Шиш еловыйКорнетов терпеть не мог начатых и незаконченных дел. Неоконченные постройки, недописанные строки, на полуслове остановившийся разговор – все, где не хватает воли или выдумки, вызывало в нем возмущение. Представьте себе, как возмущала его легенда о Вавилонской башне…
«В последнюю минуту, – говорил он, – общий язык потеряли, кто в лес, кто по дрова, и пропало дело – величайшее и единственное, когда-либо возникавшее в голове человека: хозяйничать на земле и на небе! – и с такими несметными средствами все пошло прахом в вечный укор человеку».
«О этом человеке, – продолжал Корнетов, – Гоголь отозвался: «свиные рыла», а Достоевский – «глупые зверские хари», да при этом еще «указующие на тебя пальцем». Я не согласен: и не зверские, и не свиные, а человеческие, только человеческие. А вообще говоря, во всяком человеке надо подозревать свинью…»
И всякое «недо…» – «недостройки» и «недосказы» называл Корнетов «куснуть и бросить». Тут он был сущий тиран и истребитель. И действовал беспощадно. Если бы была у него власть, ну будь он каким-нибудь Си-Магомет-Эль-Мокри, по струнке которого, в обаянии его воли, движутся и останавливаются «массы», круто пришлось бы, ни на что не посмотрит, и не разжалобишь, – и какая невероятная скучища поползла бы в мире или, просто говоря, загнал бы.
«Принудительный труд! теперь это модная тема, – говорил Корнетов, – в богатых салонах, где ломится всякая прислуживающая и выслуживающаяся сволочь, животрепещущий вопрос, благо самим можно ничего не делать. «Принудительный!» – скажите, пожалуйста, какое открытие, или о чем ни болтать, лишь бы болтать… Человек лодырь, это всякий про себя знает, а ума ни на столечко, чтобы, свою же выгоду соображая, без палки что-нибудь делать, и по доброй воле – век будете ждать, не дождетесь, чтобы пальцем шевельнул. Да впрочем так оно везде велось и ведется и не мытьем, так катаньем, всегда было и есть «принуждение». И это в самой природе жизни на проклятой Богом земле, пока человек есть человек, у которого не хватило воли, а был случай, землю соединить с небесами – снять с земли ее отверженность, освободить и сделать себя свободным. А пока что, Блейк прав: «один закон для льва и вола – принуждение». И если говорить по совести, чего бы я сам хотел, так скажу прямо: ничего! и вовсе я не чувствую себя околевающим животным, которое ищет уединения и только уединения, чтобы околеть, нет, у меня вдруг закипает такое сердце… впрочем, все равно, делать-то я ничего не хочу – хочу «баклуши бить», «в потолок плевать» или, есть еще «гонять собак», а по-современному – газеты, кафе, театры, выставки, путешествовать и безответственно философствовать, т. е. вести жизнь, как «хорошие люди», перед которыми ломают шапки и которым говорят «приветственные речи» и для которых только «первые места».
И еще Корнетов не выносил, как говорили в старину наши общественные дамы, «кислых физиономий». Человека, впадавшего в уныние, он презирал. «Уныние» связывалось у него ни с каким грехом, как это в исповедальных требниках или у Нила Сорского в его скитской лествице,207 а только с достоинством человека, который все-таки оставался и после вавилонского позора носителем гордой мечты о «своеволье» и еще мог на многое «посметь». Уныние он объяснял все той же «божественной» ленью, этим соблазнительным «почил от дел» – единственным, кажется, воспоминанием, вынесенным из райской жизни, и после райского расплева убийственной отравой всех человеческих возможностей, источником рабства и поддержкой и поощрением волевых акул.
«Уныние, – говорил Корнетов, – унизительнейшее состояние бессилия, не просто расписка в своем ничтожестве, а засвидетельствованный документ; унылый человек – самый благодарный матерьял для всяких подлостей: если уж сам себя признал мразью, то еще одно новое паскудство эту мразь только размажет, не больше, и кроме того – самый послушный матерьял для этих ваших «акул» и «международных разбойников», для всех этих свиных рыл и звериных харь, указующих на вас пальцем, непроницаемых и не отравляемых никакой совестью, ведь и совесть подделывается! но которым без человеческого матерьяла никак не обойтись, или издохнуть; и наконец унылый человек опора всего «мирового зла», прикрытого и разукрашенного в ночь, но от которого при свете дня с души воротит».
Корнетов рвал и метал. И не столько уныние мое так будоражило его, как собственное возмущение, что его, как он выражался, индивидуальность попрана: с осени отменив воскресенья, он был убежден, что приток посетителей урегулируется и получится отбор – без налетчиков, да сначала так оно и было, но с течением времени в назначенные вечера стали приходить не только те, кому было назначено, а еще и те, кому сами назначенные от себя назначали для каких-то своих целей, и получилось такое безобразие, как в прошлую зиму, когда комната Корнетова обратилась чуть ли не в дом свиданий.
«Противопоставлять унынию гордость, – продолжал Корнетов, – какая уж там гордость! Нет, гордость давным-давно сломлена, и от нее одни лохмотья, а называется чванством и хвастовством. И этот смешной чванливый наряд очень подходит к человеческому лицу, какое вырисовывается, как говорит баснописец Куковников, «на аркане современности». Лицо среднего человека размазано в две краски или – две посадки: носом вверх и носом вниз. Если вы просматриваете газеты, вы знаете, в какой еще невероятной ерунде погрязает человечество: тысячелетние предрассудки живут, как освященные традиции, я читал, что японского императора можно воспринимать только «духовно», и оттого его фотографии завешивают, а уж написать с него портрет нечего и думать; а читали вы, как где-то в Карпатах хоронили ведьму – «к левой ноге привязана была подкова, чтобы помешать ведьме выйти из могилы, на ее теле нарисовали большой крест, рот забит маком, по трупу долго били лопатой, а затем глаза закрыли двумя луковицами и во дворе сожгли на костре все метлы», и обезвреженная ведьма из могилы не вышла и привидением не появилась, но стала всем во сне сниться – из ночи в ночь, и уж больше нет никакого средства, все метлы сожжены, а страха не выжжешь… или эти дурацкие церемонии и всякие формальности – традиционные, торжественные цилиндры и шутовские факельщики, парадные формы, «обезьяньи» ордена и знаки. И этими показными пустяками, возведенными в догму, забиты головы. Нет, смотрите так: не вниз и не вверх, а в себя – ваше уныние и ваше хвастливое чванство одной природы.
Ни о каком чванстве не могло быть и речи, я сидел с опущенными руками – осенью устроившись по малярному делу, я продержался до весны, а весна нынче на десять дней против всех весен, вот, значит, с каких пор я попал в шомаж и снова приютился у Корнетова. Советовали мне заняться по примеру Курятникова разноской молочных продуктов, но, как известно, кто только теперь этим не занимается и, кажется, вся клиентура исчерпана. Предлагали мыло купить за 10 франков и найти трех покупателей, чтобы каждый из них в свою очередь нашел трех, сулили 1000 франков – дело верное, остановка лишь за 10 франками! Меня соблазняло возобновить мое искусство интервьюера, но, когда я вспомнил скандальный финал моего «юнёра», я опускал не только руки, а и нос.
Корнетов, лучше меня понимая всю мою неподготовленность, не сомневался в моих способностях – он вообще про всех думал, что всякий все может, лишь бы была страсть и решимость.
– О дураке я не говорю, с него нечего взять, а вам стыдно: надо с другой стороны подойти, а дела не бросать; а не с другой, так с третьей. И так до бесконечности или, как говорили в войну, «до победного конца», а до войны – «до полного политического и экономического освобождения».
И Корнетов научил меня так: ничего самому не выдумывать – головы нечего ломать над вопросами, коли нет их, а сколько ни шарь, ничего не подденешь! – а взять готовое. В журнале «Мысли» есть такой вопрос: «для кого писать?»208– и есть ответ: один говорит – «надо писать для читателей, для всех, для большинства, для массы, и как можно проще и понятнее», а другой говорит – «не для кого и не для чего, а для того самого, что пишется и не может быть не написано». Взять эти «Мысли» и пройти по знакомым и, ничего не говоря, раскрыв страницу, показывать, а ответ пусть каждый напишет.
– А со своим пером не лазить, – сказал Корнетов, – и без того в одном Париже изведено бумаги на глупости такое множество, что, если на Конкорде построить дом в пять этажей, можно его книгами весь завалить с чердаками и подвалами, да еще возов с сотню на «кэ» вдоль набережной стоять останется.
Корнетов дал мне книгу «Мыслей», и я воспрянул духом. И без всяких поддельных надувательских планов, будто бы облегчающих достижение намеченной цели, а на самом деле ведущих к мошенническим Козлокам, ограничив себя хорошо знакомым отрезком – Булонь и, выбрав трех: Шестов, Куковников, Судок – я вышел, чтобы не бросать начатого и закончить мое дело интервьюера.
А чтобы не сказали, что это одно и то же, Корнетов придумал другое название: не «юнёр» уж, а по-русски – «шиш еловый».
У Льва Шестова
Лев Исаакович Шестов в Булони за церковью. Если у Корнетова день и до глубокой ночи трамвай лязгает – и который это из них, белый 23-ий или желтый 25-ый или оба стараются? – с открытым окном себя не слышишь, у Шестова и без радиоприемника всякое слово уловимо в те вечерние часы, когда за день нагрохотавшиеся упорные грузовики, выглотнув последний бензин, машинно окоченевают.
Живет Шестов отшельником – «Лев эрмит», и только что в лес. Есть у него такие часы, искусного устройства механизм немецкой работы: по словам баснописца Куковникова, как выходит из дому, тоненькая такая проволочка, где маятнику полагается, и ногу Шестов себе этой проволокой обмотает, и пока ходит, и часы идут, а вернется домой, проволоку отвяжет, и часы остановятся. Так по часам по лесу и гуляет – часов шесть, и говорит, что это нисколько не утомительно, и всем рекомендует: очень полезно.
А в Париже редко. Разве какая «меблированная» особа показать себя в Париж приедет, Томас Манн или сам Пиккар, и устраивается «рэсепсион», по старине «сход», по современному «собрание», а если для зверей – «сходбище». Только на эти «рэсепсионы», а то все дома. Забежит Оцуп с «Числами», Пытко-Пытковский с «Искусственным градом», Куковников с баснями, Судок с «хроникой»; заедет из Кламара по пути на Монпарнас Бердяев, пошумит-пошумит и дальше – читать лекцию; и как это его хватает! да еще из двадцати пяти часов книги пишет совсем уж в безвременье; и говорит, что это нисколько не утомительно, и всем рекомендует: очень полезно.
Бердяев когда-то при зарождении русского марксизма шел в паре со Струве – «Струве-Бердяев», потом с «Вех» с Булгаковым209 – «Бердяев-Булгаков», а тут в Париже вошло в поговорку: «Шестов-Бердяев». И оба они очень хорошие сердечные люди и друг с другом большие приятели, а какая противоположность: пойдешь за Шестовым, не поспеешь к Бердяеву, погонишься за Бердяевым, упустишь Шестова. Корнетов говорит, что, если вынести за скобку показательные рэсепсионы Шестова и религиозно-философские заседания Бердяева, то никакого и противоречия не будет, а останется Шестов-Бердяев: книга. Я так и сделаю, благо на рэсепсионы меня не зовут, а на заседания, не имея дара слова, не хожу, – я буду читать их книги.
– – – –
В час двадцать-пятый по-бердяевски, вышел я к Шестову для вопрошания: «для кого писать?» А в то самое время, как я готовился в свой анкетный булонский обход между лесом и церковью, в Париж приехал датский писатель, родственник Киркегарда: узнав, что Шестов читает в Сорбонне лекции о его знаменитом предке, заинтересовался книгами Шестова, и написал в их датских «Последних Новостях» статью, в которой оценивал Шестова, как первого из современных философов – выше самого Бергсона. И условлено было, что Киркегард[5]5
На самом деле никакой Киркегард не приезжал и не уславливался, все это измышления «залесного аптекаря» Судока, исправлявшего рукопись несчастного интервьюера. (Примеч. автора)
[Закрыть] в сопровождении Яши Шрейбера придет в гости к Шестову, чтобы познакомиться. И как раз, как Шестов ждал датского гостя, я и позвонил, держа наготове «Мысли», чтобы, от себя не говоря ни слова, показать страницу с животрепещущим вопросом. И к еще большему моему смущению Шестов принял меня за Киркегарда и сказал мне самую французскую любезность и только удивился, почему я один без Яши. Я поспешил его успокоить, что с Яшей я еще не знаком, а что я от Корнетова, его соседа и почитателя, и что сам я, Полетаев, стараюсь вникать в его книги и уже кончаю его полемику с Гуссерлем210. А чтобы не сказать чего невпопад, Гуссерля я не читал, я поскорее раскрыл «Мысли» и подал Шестову. И к ужасу моему заметил, что раскрыл не ту страницу. Шестов заинтересовался, надел пенсне и прямо на подчеркнутое.
А подчеркнуто было Корнетовым самое трогательное и самое жалостное из всей Парижской литературы «физиологического» направления по определению Сушилова, и с чистосердечным заключением: «…жалость к мозгу, которому хочется развлечений, жалость к губам, которые ищут прикосновений; жалость к дьяволу, тоскующему в костях; о, жалость к…»
– В Киеве был телеграфист Вася Кабанчик, – с необыкновенным добродушием отозвался Шестов, – как сейчас вижу: Вася Кабанчик! всем его Бог обидел, ни росту, ни виду, но в одном не обездолил; так он, бывало, зайдет в загончик, станет и стоит, на себя восхищается.
– Я совсем не про это место… – перевертывал я страницы, – я насчет вопроса Михаила Андреевича:211 «для кого писать» – у Слонима212 «портреты советских писателей» без генеалогии в противоположность советским – где все происходит от Алексея Максимовича213 – Парабола, – плел я сам не зная чего.
Шестов, заметив мое смущение, вышел поставить воду кипятить – за чаем веселее разговаривать.
А у верхнего соседа собака – прямо над головой; я эту собаку видел, попав, как всегда, этажом выше, хороший пес! – и вот третий месяц не может собака привыкнуть, и днем и ночью по комнате бегает – и как бегает. И действительно, не скажешь, что одна, а штук шесть их там – двадцать четыре лапы. И пока о собаке разговаривали – трудно человеку, а зверю еще труднее привыкнуть! – вода в чайнике выкипела. И пришлось снова ставить.
Шестов все беспокоился, что нет Киркегарда. Шестов купил для него печенья подороже, чем обыкновенно. Печенья, конечно, не пропадут, с чаем и я подберу.
Шестов подарил мне свою новую книгу: «Скованный Парменид». Пять лет лежала – издать книгу без гонорара большое счастье, да никто не соглашается, изволь сам платить за издание – так и лежала, и только благодаря Бердяеву, наконец, вышла, да еще и гонорар заплатили. Если бы Бердяев похлопотал о Балдахале – о его «русском стиле»! – да видно за всех нельзя, или наверняка уж никому не выйдет.
А Киркегард, конечно, не придет – иностранцы по гостям так поздно не ходят. Киркегард с Яшей сидели в устричном ресторане на Пляс-де-Тэрн, только что кончили раковый суп, принялись за черепашьи яйца, разговор у них самый оживленный. Какая там Булонь! Но как все-таки философы доверчивы и наивны: ну, зачем датский писатель пойдет к русскому эмигранту? что за интерес? – даже и ничего такого, чтобы подходило к «curiosité» – никакой «диковинки», а кроме того «отсталость» – кому же не ясно, что пятилетка победила! да и вообще, как теперь выяснилось, в эмиграции ничего нет замечательного, ни Льва Толстого, ни Достоевского!
За чаем с Киркегардским сухим печеньем Шестов вспоминал литературную старину: Киев, Петербург, Москву – Водовозова, Челпанова, Жуковского, Волынского, Розанова, Минского, Гершензона214, – как тогда было просто и даже ссорились добродушно.
– И в гости ходили друг к другу запросто: условишься, бывало, в девять, а заберешься с шести, да еще кого-нибудь прихватишь с собой для компании, вот как жили, и ни у кого никаких двойных мыслей не было!
– А как же насчет Михаила Андреевича: «для кого писать?» – спросил я, ободренный чаем.
– А помните, что записал Ницше, окончив «Menschliches Alzumenshliches»215?
Я молча подал приготовленный листок: Корнетов предупреждал, что Шестов любит выражаться по-латыни и, чтобы не перепутать, держать наготове карандаш и бумагу.
– Mihi ipsi scripsi? – сказал Шестов, – давайте, я запишу.
Прощаясь, я обратил внимание на часы в прихожей – «гулящие»: искусного устройства механизм немецкой работы. Шестов вышел меня проводить. Дорогой, памятуя слова баснописца Куковникова, я пристально смотрел на его ноги, ища проволоку, и действительно повыше каблука на задниках что-то поблескивало.
– Mihi ipsi scripsi! так и передайте Слониму, «написал для самого себя».
И мы простились. Я было уж к калитке, притушил папиросу, и обернулся. Вижу, Шестов под бензинной кишкой стоит – кому-то автомобиль нацеживают – и машет мне.
– Вспомнил, – кричит, – еще из Горация.
Я и вернулся – и как это он под кишкой не боится, Корнетов никогда не стал бы: еще взорвет!
– Из Ars poetica, – сказал Шестов, – si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi, – «если хочешь заставить меня плакать, сам наперед испытай боль».
«Вернувшись домой, пошел дождь», как говорит Балдахал, и я записал слово в слово Шестовский ответ.
Баснописец Куковников
О Шестове говорить как-то неловко: Шестова все знают, и, если кто не читал его книг, то наверное хотя бы имя слышал. Так принято думать. Так говорят, замкнувшись на каком-нибудь отрезке, как я сейчас, изо всего «стомиллионного» Парижа, ограничив себя Булонью и не всей даже, а «от леса до церкви».
И пусть Шестов, нарушая свою ежедневную прогулку по лесу, ходит на рэсепсионы с «меблированными» знаменитостями и разъезжает по всему свету на философские конгрессы, и вот этот Киркегардовский панегирик в датских «Последних Новостях» и похвальный английский отклик на книгу «На весах Иова» и «Последние Новости» печатают о его лекциях в Сорбонне особо, как о лекциях генерала Гулевича, а много ли и сколько наперечет знают его из «большинства», из «массы», из этих «всех» этого русского «стомиллионного» Парижа, имеющего безобидную наглость судить и о литературе – а то как же, всецветный, не поддающийся никаким дождям эмпермеабль и книга одно и то же! – и с судом которого по смыслу Осоргинской формулы «писать для читателя» следует писателю считаться? нет, ни «Россия разложившаяся», которой на все наплевать, ни «Россия натурализовавшаяся», которой, кроме своих дел, ни до чего, ни «Россия подъяремная», обреченная на черный труд на фабриках и заводах, чтобы как-нибудь прожить и имеющая для духовной пищи какого-нибудь многотомного пустослова или, по Шестову, болвана, переведенного на восемнадцать языков, ни «Россия, охраняющая русскую культуру» с ее органом «Русская культура», единственным на весь Нансеновский мир и, надо отдать справедливость, по скуке превосходящим все, какие были «Русские богатства» и горьковские «Сборники Знания», это «Россия», стоящая вне «русской литературной культуры» и для которой Гоголь, Толстой, Достоевский – пустое место, а высшее достижение, как говорит Корнетов, «девять фельетонов с описанием природы» или пустейший пересказ пошлейшего немецкого модерна, и писатель расценивается по читаемости – «я обошел все библиотеки, – признавался Корнетову редактор «Записок»216, – я просмотрел все вышедшие книги нашего журнала и оказалось, статьи Шестова не разрезаны, чего ж вы хотите?»
Ничего. И редактор прав. Шестов всегда был и есть «бесполезный» писатель, и Шестовские вопросы станут вопросами всякого русского культурного человека. А пока знают Шестова и ценят такие, как Корнетов, к которым и я теперь записался – «Россия», которую можно сравнить по бесприютности с собакой, потерявшей хозяина.
Так о Шестове. А что сказать о баснописце Куковникове? Если бывают круглые дураки, так этот Куковников для заграничного читателя «круглый незнакомец» и имени его даже и такого Шестовского – неразрезанного не существует.
– – – –
Василий Петрович Куковников не писатель, он лишь в «рассеянии сущий», с Берлина басни пишет – с Берлина и пошло ему название «баснописец» – Fabeldichter aus Tiergarten или просто «Kalenderdichter». А впервые и единственный раз напечатали его в Париже, но с такими несуразными опечатками, а главное с пропуском строчек по соображениям типографским, ввиду экономии места, что и сам он, читая свое, никак не может добраться до смысла, а запраторив черновик, не может восстановить оригинал. Куковников – книжник, любитель книжного почитания, неисповедимо очутившийся за границей: все книжники Куковниковского склада улитки или черепахи – малоподвижны, живут, где повелось и сживаются со своими книгами неотрывно – покинуть книги им все равно, что дать отсечь себе руку или выколоть глаз, нет, больше, они согласятся и на отсечение и на потерю глаза, лишь бы оставили с ними книги. Бывший младший регистратор Государственной Думы, а здесь в Париже, в категории «собаки, потерявшей хозяина», вяжущий свой бесконечный джемпер и довольствующийся для «поддержания сил» столь малым, – нормальному человеку и представить себе трудно, – безропотно проводил дни или, как говорили о нем его приятели, – «живет тихо и радостно».
Чтение книг – все. И способ своего чтения применил он и к джемперу – вот почему этот джемпер у него такой бесконечный, и в результате так мало вырабатывает: другой на его месте за тот же срок три свяжет, а он и один – до половины еле-еле. А читает он не только глазами, как это принято, а переговаривает – так читают иностранные книги не владеющие языком – каждое слово на язык берет и губами перемалывает; книга для него, как партитура для музыканта. И любит докапываться до самых «хвостиков», говоря словами Гоголя.
Мне запомнилось его замечание в разговоре с Корнетовым о знаменитой «Пушкинской речи» Достоевского.
«Вы думаете, так взволнованно говорил Достоевский о Пушкине… ничего подобного: о себе и только о себе. А о Пушкине или ничего не говорящее: «Пушкин явление пророческое, потому что в его появлении заключается нечто бесспорно пророческое»; или провинциальнейшую ерунду о каком-то чудеснейшем «даре перевоплощения в душу чужого народа», – о каком-то исключительном даре, какого далее и у Шекспира не было – да позвольте заметить, что и ни у кого не было, и кто ж это не знает, а лучше всех сам Достоевский: никакого перевоплощения нет и быть не может, а пущено для красного словца критиками для невзыскательного читателя. Но главное, и об этом все уши прожужжали: восторг Достоевского пред Пушкинской Татьяной: Татьяна – идеал русской женщины, и восхищение ее верностью. Очень вам благодарен. Точно все забыли «Дядюшкин сон»? С 1859 года, правда, много прошло. Или не читали? Татьяна – «настоящая русская женщина», «тип положительной красоты», «апофеоз русской женщины», «благородным инстинктом она чует правду и знает, где ее искать» (слово в слово откуда-нибудь из Писемского, из «Старческого греха» или «Людей сороковых годов!») … и, вспомнив свою Лизу из «Записок из одполья» «вот еще Лиза… в «Дворянском гнезде», – поправился Достоевский. И Тургенев, принявший эту вырвавшуюся Лизу за свою из «Дворянского», даже прослезился. А Достоевский перешел к Онегину и Татьяне: Достоевский вдруг перевоплотился в свою красноречивую Марью Александровну Москалеву, а может и «Взбаламученное море» вспомнил и «Тюфяк» Писемского… Пронзительная мамаша бобы разводит, а слушатели уши развесили. Выйти замуж без любви, любя другого, «для матери» – да прочитайте вы «Дядюшкин сон», там все, все доводы до «прекрасного и высокого», ну, конечно, и «угрожающая нищета» не была забыта, «по миру пойдем, если…», все раздирающие слова – «единственное спасение», и что, отказавшись, «ты убьешь мать» – и Татьяна согласилась, а ведь это же самая настоящая проституция – ведь это Соня Мармеладова. И я уверен, что в петербургском генеральском доме где-нибудь на Английской набережной, на бархате, «удобно», под какой-нибудь горностаевой мантильей Татьяна вздрагивала, как Соня под своим «семейным зеленым платком», и, как у другой Сони – Писемского, наутро, после брачной ночи тряслась голова и рука. И потом встреча на «шумном бале», Онегин у колонны… и этот наменитый стих, потрясший наивных слушателей – «но я другому отдана и буду век ему верна». Так все и ахнули: какая невообразимая верность! Еще раз очень вам благодарен. Или забыли «Записки из подполья»? С 1864 года прошло тоже не так мало. Или не читали? Там эта верность по-другому называется… есть, видите ли, известные обязательства перед хозяйкой дома, долг верности «публичному дому» и еще – и на это нет ни письменных, ни устных условий, это само собой, с ночами вырабатывается, это – «вынутость воли», «опустошение», человек сживается со своей неволей. И пусть после свидания с Онегиным, все вспомнив, Татьяна издрожится, а не «посмеет». И не в словах дело – «прекрасные и высокие» употребляются человеком столько, что в бумажки превратились, и самые «высокие и прекрасные» в руки взять, запачкаешься. Но в чем же дело? откуда эта взволнованность? Да очень просто и ясно: Достоевский хотел сказать и всеми словами сказал: идеал русской женщины – «жертва». И Тургеневская Лиза ни при чем: Тургеневская Лиза никакой жертвы никому не приносит, Тургеневская Лиза – «с-мирение»: чтобы подняться духовно, надо смирить свои чувства. Тургенев прослезился не вовремя, ему надо было растрогаться при слове Достоевского: «смирись гордый человек», – ведь единственный понял и выразил, что такое «отречение» – Тургенев. Но при чем тут Пушкин? Впрочем, так это и полагается: самое заветное никогда не говорится от «я», а всегда в третьем лице – такова форма публичной исповеди, потому что, по Достоевскому же, «в первом все это стыдно рассказывать».
Я это упоминаю, чтобы дать хоть какое-нибудь представление о Куковникове. Могу и еще привести пример, тоже книжный. Книга для Куковникова все.
Куковников пришел к Корнетову в воскресенье в баснописном ударе – «по причине хорошей погоды»: все книжники зябкие и жалкие, а чуть выдастся теплый день, и обращаются они во львов со всем неистовством своего согретого, теперь оттаявшего, а в стужу отверделого, воображения, и при всей своей органической неподвижности легко заносятся, готовые к кругосветному путешествию и полету в стратосферу. Этим грехом грешил Корнетов и недаром любимым его чтением были путешествия и география. Куковников всегда носит Корнетову чего-нибудь к чаю – так повелось еще с Петербурга.
– На сей раз, – сказал Куковников, – я вам принес из Ходасевича217, – и подал Корнетову газетную вырезку: «…в стихотворении «Буря» Пушкин написал и напечатал в «Московском Вестнике» 7-ой стих в таком виде: «И ветер во́ил и летал». Эта форма поныне считается «ошибочной». На эту «ошибку» тогда же указали и Пушкину (кажется, указал Фаддей Булгарин), и стих был переделан: «И ветер бился и летал».
А на мое недоумение, почему «во́ил» неправильно, а «выл» правильно, Куковников сказал:
– Есть глагол «во́ить-во́ил» и есть глагол «выть-выл». Обе формы имели одинаковое обращение в России, употребляются и теперь в С.С.С.Р. В литературе привилось «выть-выл», и потому эта форма называется «литературной)», а «во́ить-во́ил» областною. Но вот был, оказывается, случай, когда и эта областная форма могла стать литературною, и все говорили бы и писали бы, смотря понадобности и «во́ить» и «выть». И это мог бы сделать Пушкин. Пушкин и написал и совершенно правильно – «и ветер во́ил и летал», и натолкнулся на грамматику – грамматика дело почтенное, но как часто попадает она в руки тупиц: «во́ил, – сказал грамматик, – употреблять нельзя, слово не литературное, ошибка!» Будь Пушкин тверд в русском языке, да он и разговаривать не стал бы с этой безухой трухлой, но откуда могла быть у Пушкина твердость? – и он поверил: ошибка! – и свое звучное «во́ил» заменил немым «бился». Пушкин мог никогда не слыхать формы «во́ить», а как дети, по чутью языка, непосредственно из «выть» сложил «воил», а дети всегда так скажут.
Куковников любит стихи. И не может слышать, когда читают актеры.
– Актеры, – говорит он, – относятся к стихам по-смердяковски. Актер, читающий стихи, как прозу, нарушая ритм стиха и тем самым не замыкая рифмы, не может не повторить за Смердяковым: «стихи вздор; это чтобы стих, то это существенный вздор; кто же на свете в рифму говорит? и если бы мы стали в рифмы говорить, хотя бы даже по приказанию начальства, то много ли бы мы насказали? стихи не дело».
И еще позвольте привести из литературных опытов Куковникова – рукопись хранится у Корнетова, «впечатления на лекции Ивана Ивановича Ильина». Напечатать не удалось, а теперь нечего и думать: редактор скажет, что «будет вовсе непонятно, почему молчали, почему вдруг заговорили!» – есть такой паскудный ответ: когда молчат, это ничего, а если, хоть и с запозданием, вспомнить и тем исправить литературную подлость, самую подлую, какая только есть, «замалчивание», это неудобно: «что скажут?» А все равно скажут, я скажу: все редактора бессовестные! А «впечатления» Куковникова очень для него характерные: в них его любовь и оценка слова; а называются «слововедение»:
«В эмиграции есть два Ильина и оба профессора, и их никак не следует путать: про одного говорят, что это тот самый, что на «Шестодневе», Владимир Николаевич, Парижский; про другого – на «Гегеле», Иван Александрович, Берлинский. Я имею в виду того, который на Гегеле, его лекцию о «национальном характере». Председатель, запутавшийся в бесконечно-малых, представил аудитории Ивана Александровича – Арсеньевым: «слово принадлежит Ивану Александровичу Арсеньеву». И это произвело потрясающее впечатление: одни поняли так, что у Ивана Александровича есть псевдоним – «Арсеньев», другие же, что попали не в ту аудиторию, а третьи, у них-то и было самое жуткое – перед ними на кафедре стоял Иван Александрович Ильин, а вместе с тем он же был и Николай Сергеевич Арсеньев или, как уверяли потом… Николай Николаевич Алексеев. И было такое, как во сне снится, расчленение зрения. Так без всяких опровержений прочитана была лекция в двух частях с перерывом. Та часть лекции – географическая – «Россия есть игра природы», показалась слушателям слишком общедоступной, «на дурака», а от себя скажу, что «дурак» ни при чем, а что «рекой» человеческую душу не измеришь, и ни «лес», ни «гора» не оградят ее, и «морем» она не разделяется. О другой же части лекции – «словесной» ничего не говорилось – не по ушам. И эта часть, оставшаяся без внимания, по своим словесным сочетаниям сложнейшей конструкции, была истинным наслаждением для любителей слововедения. Сравнить ее можно с видением князя Андрея из «Войны и мира»: «…князь Андрей услыхал какой-то тихий шепчущий голос, неумолкаемо в такт твердивший: «пити-пити-пити» и потом «и ти-ти», и опять «и пити-пити-пити», и опять «и ти-ти». Вместе с этим, под звук этой шепчущей музыки, князь Андрей чувствовал, что над лицом его, над самой серединой, воздвигалось какое-то странное воздушное здание из тонких иголок и лучинок. Он чувствовал, что ему надо было старательно держать равновесие для того, чтобы воздвигавшееся здание это не завалилось; но оно все-таки заваливалось и опять медленно воздвигалось при звуках равномерно шепчущей музыки – Вместе с прислушиванием к шепоту и с ощущением этого тянущегося и воздвигающегося здания из иголок князь Андрей видел урывками и красный окруженный свет свечи и слышал шуршанье тараканов и шуршанье мухи, бившейся на подушке и на лице его. И всякий раз, как муха прикасалась к его лицу, она производила жгучее ощущение; но вместе с тем его удивляло то, что, ударяясь в самую область воздвигавшегося на лице его здания, муха не разрушала его. Но кроме этого, было еще одно важное. Это было белое у двери, это была статуя сфинкса, которая тоже давила его». Да, это был подлинный словесный гнозис, покоривший редких, но внимательнейших слушателей, расходившихся с «Арсеньева» в сырую, как осень, неприветливую, по календарю весеннюю, парижскую ночь».








