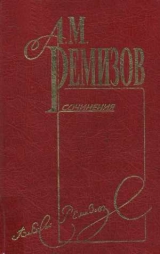
Текст книги "Том 9. Учитель музыки"
Автор книги: Алексей Ремизов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 36 страниц)
Алексей Михайлович Ремизов
Собрание сочинений в десяти томах
Том 9. Учитель музыки

А. М. Ремизов. Париж. Конец 1920 – начало 1930-х гг.
Учитель музыки*
Каторжная идиллия
«Учитель музыки» – идиллия. Начал о здравии, кончил за упокой. Незаметно перешла в «каторжную идиллию» с припевом «пропад».
Затеи Корнетова – учитель музыки с камертоном, без инструмента – петербургские канун Революции 1917 г.: Сочельник и Летопроводец 1 сентября, по-старинному новый год и «Парижское воскресенье» 1924–1939 – 15 лет по смерти Барреса до войны.
Событиями бедно, все мелочи жизни, жаловаться на скуку никогда не приходилось, но мне со стороны, дочитав до конца, показалось одним и тем же серым однообразно без блеска – без улыбки.
«Учитель музыки» – моя бытовая автобиография.
1. III – 1949
Часть первая. Петербургские святки и летопроводец
ПредисловиеЛегенда[1]1
В публикуемой книге «Учитель музыки» сохранены авторские особенности орфографии и пунктуации, иногда различающиеся в разных разделах произведения (например: Ничше – Ницше: Э. Т. А. Гоффманн – Э. Т. А. Гофман; Рожество – Рождество и т. д).
[Закрыть] о Александре Александровиче Корнетове складывается не с Берлина и Парижа, а с Петербурга. Да и немыслимо: Корнетов роду московского и прозвище, данное ему приятелями, «глаголица» есть имя древнего славянского алфавита, загадочного происхождения, а вида фигурного, а кроме того – имя человека, наделенного даром «сказывать», непереводимое никаким словом на иностранные языки, обличает в нем человека по уши вросшего в русскую землю.
Петербургская легенда о Корнетове1 начинается после 1905 года святочными крещенскими вечерами, – которые обрываются в канун Революции. Этот дореволюционный легендарный период жизни, закончившийся войной, Корнетов не любит вспоминать:
«Воздух был тяжелый и полный грозовых предчувствий, а лучше уж гроза, когда или выжил или пропал, нет, если бы мне предложили снова жить и поставили бы условием повторение этих годов, я не согласен!»
Из революции, героический период которой прожил Корнетов в Петербурге, по моим наблюдениям, вынес он свое поваренное искусство и окончательную запуганность жизнью. В житейских затруднениях и постоянных житейских ошибках Корнетов говорил не раз:
«Как бы я был рад, если бы объявили меня невменяемым и развязали мне руки от всяких контрактов, одно горе – некому!»
И правда, никому никакой пользы от этого не было бы.
И вот имея в руках карт-дидантитэ и чувствуя себя в Париже «вольным» человеком, Корнетов обречен был на трудную жизнь, защищенный одним только страхом: боязнь его всеобъемлющая2 – от автомобиля до консьержек…
Глава первая. Тысяча съеденных котлет1. Личность
Александр Александрович Корнетов, учитель музыки и никакой музыкант, единственный на всем земном шаре писал письма и всякие дружеские послания «глаголицей»3. И это была его гордость, этим он хвастал и в этом чувствовал свое право быть на земле среди миллиона подобных и неподобных единственный и – сам-по-себе – Александр Александрович Корнетов.
«Глаголица», вытесненная «кириллицей», мертвая грамота, и никто толком не знает, откуда она, и кто ее на свет пустил. А от всей премудрости уцелело наперечет несколько ветхих памятников, над которыми и трудятся ученые, умудренные не только в нашей прародительской грамоте, но и в самой эфиопской и кельтской.
Не «ученый», нет у Корнетова ни ученых трудов, ни орленого золотого значка Археологического Института4, но и без всяких отличий, как ловко, как бережно, затейливо выводит он крючки и ставит крестики, впору тому же ученому и книжному справщику. Уж такой дар отпущен ему от рождения к вещам темным, на мудреное дело.
Приятели и знакомые в шутку звали Корнетова «глаголицей».
Была тоже страсть у Корнетова и навык к пустякам и мелочи: собирал он от свертков палочки – к сверткам прицепляются, чтобы удобнее нести было. Всякий раз, возвращаясь домой с покупкою, Корнетов, старательно и терпеливо развязав узелки, веревку отдает Ивановне на кухню, а палочки себе спрячет в коробку. Когда же коробка наполнялась доверху, нанизывает он эти палочки все вместе на одну веревку, и выходила погремушка.
И в сущности из ничего, из вещей совсем неподходящих составленная – «Братья Елисеевы», «О. Гурмэ», «Жорж Борман», «А. И. Абрикосов С-ья» и других петербургских кондитерских, фруктовых и гастрономических с Невского, Садовой, Суворовского, а так заправски гремела корнетовская погремушка, словно бы не на Кавалергардской, а где-нибудь у Троицы-Сергия в посаде сделанная игрушечником.
Приятели и знакомые, навещая Корнетова, в гостях у него не скучали: живо что-нибудь такое придумает, из ничего погремушку сделает – зевнуть не даст.
Корнетов, службой никакой не занятый, и все-таки минуты ему нет свободной, минуты не мог усидеть без дела, все что-нибудь да кропает, все суетится – и так в занятиях с утра до ночи. И дела, одолевавшие его, такие – тут и зоркость и внимательность, а главное, и прежде всего, терпение – дела кропотливые, ну, те же узелки с палочками, та же мертвая грамота-глаголица, да мало ли еще что: при смертельной-то охоте найдешь всегда, чем заняться.
Корнетов одинокий человек. И нет тут ничего мудреного. Нет, ты попробуй, избудь жизнь об-бок с такою занятостью, с палочками, с глаголицей, с суетой и торопливостью – за три моря уйдешь, не оглянешься!
«Маниак5, – говорили про Корнетова, – вконец замучает!»
А другие не без добродушия подсмеивались:
«Глаголица!»
Была тоже страсть у Корнетова к именам: подбирал он людей себе и не каких-нибудь, а особенных – «вышних», прообраз будущих «нарицательных», когда из простых людей будет создавать он мифических – свое высокое окружение.
Одну зиму завсегдатаем у Корнетова был Соломон, самый обыкновенный, таких тысяча, но Корнетов так его всем представлял и так смотрел на него и слушал, словно был этот Соломон Леонтьевич сам царь Соломон, мудрейший из царей. Ходил еще к Корнетову Алей, ну так простой человек – «князь», но Корнетов так его всем представлял и так смотрел на него и слушал, словно был этот тихий Алей сам Шиг-Алей, царь казанский. Приютил у себя Корнетов бродячего человека: Пауль Рюкерт из Митавы – и носился с ним, чуть не пальцем каждому показывал: «вот он, мол, вам какой, Пауль Рюкерт, немецкий поэт!»6
Приискал Соломон себе дело, и уж ни ногой к Корнетову; определился и Алей на какую-то должность, и уж с огнем его не сыщешь; уехал Пауль Рюкерт к себе в Митаву, и поминай, как звали. И нет ничего тут неожиданного: что им до Корнетова, затянул он их к себе на Кавалергардскую, когда без дела они ходили и притом не простые, а именные – «вышние»! А ведь они совсем простые – и Соломон и Алей и Рюкерт. А простому человеку трудно сладиться – все как-то и непонятно и чудно, чтобы только, например, не вовремя нарочно спать валиться, чтобы только сны видеть, и постараться запомнить, и все потом рассказать Корнетову.
Невзначай приходящие не раз заставали какого-нибудь «именного» посетителя, распростертого на диване, а Корнетов на цыпочках ходит; а уложил его Корнетов с специальным заданием: увидеть сон. И представьте себе: и заснуть-то нарочно нелегко, а заснул, проснешься – или ничего не приснилось, или все забыл! Да и корнетовская погремушка в ушах звенит, – тут отбежишь и не на три, а на тридцать три поприща, как бес от угодника.
Жил Корнетов на Кавалергардской.7 Квартира на высотах – три комнаты с ванною. Что ни комната, то свое название: рабочая – нечто неподобное в семь углов – «избушка ледяная», тут Корнетов проводил за делами свои дневные часы; затем большая комната – «палаты пировые брусяные», а из них ход в самую маленькую – в «логовище»; ванная звалась «купельницей»; кухня, где вечерами штопала чулки Ивановна – «куховар», а под праздники Корнетов сухари толок – «поварня». Гости располагались в «палатках» или толклись в «ледяной», где такая стояла жара, ну, как банная: и от тесноты – повернуться негде! – и от жаркого парового отопления. В «логовище» Корнетов гостей не пускал, «купель» же всем показывал, а через «поварню» по нужде водил.
Народу – гостей толчея, шли к Корнетову и званые и незваные. Сам Корнетов особенный: не кинет слова наобум и корысти не ждет, тоненький, ну словно «курилка»; и одет по-своему: чулки васильковые, маковый галстук и на плечах неизменно вишневый теплый платок – посиди-ка день-деньской в «ледяной избушке», не лиса, с ног простынешь!
У Корнетова все было особенное: купит он вишневку у Елисеева, сдерет ярлык с бутылки и уж готова своя домашняя «варенуха»; гости пьют и удивляются:
«Экая, ведь, варенуха, так и тянется, горчит косточкой, правильно: домашняя!»
Примется Корнетов папиросами потчевать, откроет красную коробку со стеклянной крышкой, и чего только не наскажет и уж так выхваливает – дешевые, с дымком, превращаются в желтые крепкие «пушки»: которые папиросы сам Шапшал курит; гости курят да похваливают:
«И вправду, только Шапшалу и курить такие!»
Как-то на Рожество8 захворал Корнетов. Покупку не развертывал: не до еды было. Забредшие на третий день два приятеля тронувшегося поросенка съели, да как еще съели, все косточки обглодали и мозг высосали: корнетовская похвала и сам тлетворный дух отшибала!
Что говорить, приманчив: умел Корнетов и время занять, умел и душу ублажить.
Два больших сборища бывало в году у Корнетова. Одни сборы собирались в день Симеона-Летопроводца 1-го сентября, когда по русскому исстаринному обычаю справлял Корнетов «кудесовы» поминки – хоронил трех зверей самых лютых: муху, блоху, комара9 – веруя, что впредь донимать его не будут, а все подберутся и тихонько уйдут через стенку к соседу. Другие сборы бывали на Святках, на пятый день Рожества, в день 14 000 младенцев, от Ирода царя в Вифлиеме избиенных.
И кого только ни набиралось на Кавалергардскую провести на высотах у Корнетова вечер, кого тебе надо, изволь: и старики-моховики и молодежь желторотые, и тихие и крикуны, и спорщики, и ссоршики, и наустители, писатели, художники, музыканты, актеры, ученые и философы.
Карт не полагалось, одни разговоры. И во всем, во всех разговорных словах коноводил сам неутомимый глагольник Александр Александрович Корнетов.
2. Самое страшное
Повести вечериночный крещенский разговор надо толково. На Святках так и подмывает рассказать что-нибудь страшное. А как начнешь перебирать в памяти страхи свои и всякие, то, в конце концов, непременно и окажется, что есть где-то еще более страшное – еще большая безвыходность и все твои страхи не страшны.
Или уж нет ничего страшного, а все сплошь одна загадка?
Разговор не ладился. Гостей занимала Корнетовская домашняя варенуха, да селедка из особенных – «королевская», над которой трудился Корнетов чуть ли не с самого сочельника, вымачивая в уксусе с горчицей, перцем и прованским маслом.
Первым попробовал рассказать о страшном заслуженный актер Рокотов – но случай оказался целиком взятый из пьесы, а пьесу весь Петербург видел. За Рокотовым выступил скоропоспешный журналист Смелков и совсем беззаботно, нажигом, передал напечатанное в вечерней газете происшествие – загадочный случай; и было ни на что не похоже: газету все читали.
– Вина горячие, меды разные, квас сладкий, квас черствый, квас выкислый! – не унывая, потчевал хозяин и, желая поправить неловкость, обнес гостей маковниками.
Маковники не удались: маковники вышли жесткие и горькие. Но Корнетов и тут нашелся: он уверял, что надо войти во вкус – «мак первого сбора, а потому все так крепко и горько!»
В озарении ли от маковников «первого сбора» или по привычке говорить вообще, зоолог Копылов, получивший название «зоолога» за свое необыкновенное пристрастие к аквариуму, припомнил «страшный» случай из своего детства: за какую-то шалость заперли его вечером одного в комнате, о которой взрослые только что наговорили всяких страхов.
– Втолкнули меня в комнату, – рассказывал зоолог, – комната в мезонине, повернули ключ и все вниз ушли. Темнь, одна лампадка в углу мигает и что-то шумит, плывет в темноте. Зажмуриться боюсь: знаю, как только открою глаза, так сейчас и увижу. И смотреть страшно: чувствую, вот сейчас оно и появится…
– А со мной такое было, – трудясь над неподдающимся крепким маковником, заговорил профессор-византолог, ума гордостного и лукавого, – собрались мы как-то летом на богомолье, недалеко от Москвы, в Косино. Ночью шли по дороге, а к утру на железнодорожные пути свернули: торопились поспеть к заутрене. И вот под мостом нагоняет нас поезд и так незаметно подкрался, никто его и не слышал, вдруг увидали. Да уж поздно. Я – в канаву, дворник – в канаву, нянька – в канаву, а сестра няньки, богаделка, со страха как влипнет в стену… И прошел поезд, вылез я из канавы, вылез и дворник, вылезла и нянька, а она все висит, не отлипает. Насилу оттащили. Ну, как летучая мышь, так вот и влипла…
Маковник влип в зубы, профессор, забывшись, задумал расправиться с ним круто – откусить кусочек, а хряпнул – и сломал себе передний вставной зуб, да с перепугу и проглотил.
Вот незадача! Гости бросились к профессору выколачивать зуб, чтобы выскочил: инженер Дымов, искусный в разорении домов, и знаменитый певец Труханов, лишенный всякого голоса и все-таки певший, не жалея горла, по упорному настоянию Корнетова, больше всех отличились – и профессорский зуб благополучно выскочил.
– А у нас сейчас швейцара в сумасшедший дом свезли, случай необыкновенный! – сказал стрепетный полковник с колючими шпорами, небезызвестный доктор Абраменко, – наш Таврический швейцар Наум вы знаете, не лицо – один волос, кулачищи – ломовой извозчик, своего жильца норовит в дом не пустить, не только постороннего, всех наводит на страх. Приехал с визитом к генералу Куропаткину эмир бухарский. Поднял Наум эмира на лифте к генералу и всю его бухарскую свиту; а на другой день вызывают Наума через полицию в участок. Удостоверили личность, дали бумагу подписать, да в кабинет, к приставу. «Вот, говорит пристав, тебе, Наум, дар от эмира, халат бухарский, получай для ношения!» Принял Наум жалованный халат и оробел. И пока еще из участка до дому – ничего, а как пришел домой, забился в свою швейцарскую, развернул халат да как глянул, и уж от страха ничего в толк не возьмет и все из рук валится. Надеть халат, носить его вместо ливреи – страшно: а ну как и чалму дадут и обратишься в их веру, а в их вере и места лишишься. И не носить халат, спрятать в сундук – страшно: взыщут! – в сундуке лежать такому халату не полагается, сказано: жалованный для ношения. Переделать халат жене на платье – и опять страшно: приедет эмир к генералу, увидит Наума, спросит о халате: «Где, скажет, халат? Покажи халат!» Неправду сказать, сослаться, что потерял или в печке сгорело, все равно донесет сыщик, и по их законам голову тебе усекнут. Правду сказать, и от правды не легче, опять же голову долой. Отказаться совсем от халата – не имеешь права, да и поздно: и бумага подписана, и халат на руках. Запутался Наум, все концы потерял, и все халат на уме – желтый, узорчатый, цветами, и уж везде один он бухарский, жалованный, треплется, и по улице льнет. Думал, думал Наум, с ума и спятил.
– Мне вспоминается случай на Таврической же, – сказал сосед Корнетова писатель Иван Козлок, – мы только что переехали на новую квартиру в дом Хренова10. Дом еще не совсем был кончен и с отоплением и трубами продолжались работы. К нам пришел Чуковский11. Сидели с ним, чай пили. Разговор самый мирный: помню, я читал из моей повести «Гвадалквивир». И вдруг из стены – из крохотной дверцы, незаклеенной обоями, выполз – очень уж узко отверстие! – огромный человек, не то маляр, не то печник, и не обращая на нас никакого внимания, прошел через комнату и скрылся за дверью. Я сообразил сразу, хоть это было и для меня неожиданно, но для Чуковского осталось: среди бела дня вылез человек из стены, прошел через комнату и пропал. Я помню его лицо – исступленное, точно в чем-то его уличили и надо ответить, а ответить и не знаешь что, слов таких нет. И еще случай, тоже на Таврической. Повадилась к нам ходить одна барышня. Ничего она – дурного ничего не скажешь, только очень разговорчивая и ужасно восторженная: конечно, разговор про любовь. И это бы не беда, но главное такую взяла повадку: непременно ночевать. А комнаты у нас маленькие, и по ночам я обыкновенно долго сидел занимался, и уж тут всякий посторонний для меня помеха. И не то, что ей негде ночевать, у нее своя была квартира и хорошая, нет, это такая повадка. И вот я как-то за чаем, когда подошло время – или ей идти домой или оставаться ночевать – и говорю: «Бог знает, что у нас творится по ночам». – «Что такое?» – «А видите, – говорю, – тот вон отдушник-вентилятор, и из этого отдушника ночью вываливаются колбаски – одна за другой». И должно быть, я сказал с такой верой в эти таинственные колбаски, вижу, барышня-то как застыла: поверила! Как тогда маляр или печник, внезапно вышедший из стены, был для Чуковского необъяснимым страхом, так для этой барышни вываливающиеся из отдушины колбаски, которых она не видела, но кто знает: останешься ночевать и увидишь. «Вываливается колбаска за колбаской!» – повторил я. (Я тогда сказку про «мышку-морщинку» писал12 и там как раз в Забругальском замке мышка эти самые колбаски видит.) Барышня заторопилась домой. И больше никогда не ночевала у нас: посидит, расскажет за чаем какую-нибудь любовную историю и вовремя домой. И еще: но это из далеких времен, московское. Я не знаю, отчего так, а еще с детства находило на меня – «так ничего, смирный, – говорили про меня, – все за книгой, и вдруг ни с того ни с сего какие-то безобразия!» И немало было от этого хлопот другим, да и мне попадало. Одно время, помню, – я был тогда «естественником» на первом курсе – прислуга у нас постоянно менялась из-за «страхов». Купил я себе за 15 рублей скелет, не составленный – отдельные кости, чтобы дома изучить все позвонки с отростками и бугорками. А жил я наверху и вот поздно вечером, как идти вниз чай пить, лампу я не гасил – керосиновая с голубым абажуром – и возьму другой раз да на кровать к себе (кровать за печкой укромно), возьму на подушку положу череп и все такое сделаю и полотенцем и одеялом, как человек лежит. А сам вниз и что-нибудь выдумаю, будто забыл наверху, и к прислуге: прошу – «принесите, пожалуйста, у меня на столе осталось!» А подойти к столу – кровати не минуешь. Ну, та, ничего не подозревая, и пойдет. И, представьте себе, входит: а на кровати-то лежит – и свет такой от лампы. Как сумасшедшая, кубарем слетала вниз, – куда уж там на столе искать! – забыв, зачем и пошла. И этот страх будет пострашнее вылезшего из стены среди бела дня маляра или печника и вываливающихся по ночам из отдушника колбасок или это только потом так рассуждаешь, а сам «страх» – нет ни больше, ни меньше, а есть одно – «страшно».
– А я под сочельник черта видел, – сказал Корнетов, – и не то, что видел, этими глазами не увидишь, а почувствовал всю его злую силу и так ощутительно, словно бы за хвост его дернул или до шаршавой его лапы дотронулся. Вздумал я перед праздником ванну принять. Дома никого. Ивановна к Смольному в баню пошла. Пустой дом. Сижу я в ванне, намылил пиксафоном голову и чего-то задумался, и чувствую, что где-то тут, в ванной, появился он, и так почувствовал, что не успел сказать себе: «черт» – слышу, кто-то закурлыкал. Насторожился я – курлычет! И стало мне очень тоскливо, безнадежно, и я как-то понял, что мне все равно, что бы там ни делалось, что бы ни случилось, все безразлично, а на сердце дымно, чадно, отчаянно. Он тут в ванной со мною, и не весь, а просунулась в ванну какая-нибудь одна квадриллионная его частица, какой-нибудь отросток его самый негодный, червовидный, а все остальное, головища, лапы, туловище – там, на воле, над Петербургом, над всей Россией, и оттого везде такая безлепица, нескладица, бестолочь, бесстыдство – все равно, безразлично, безнадежно. Сижу я так, мыла не смываю, задумался, а он все курлычет –
И Корнетов закурлыкал. И все «пировые брусяные палаты» ответили громким смехом. И даже прокурор Жижин, в жизнь не смеявшийся, мертвецки ощерился, вроде как засмеялся; а придворный музыкант Кирюшин в своем малиновом кафтане, с медалями, весь затрясся, малиновый, как кафтан, а за ним инженер Дымов и журналист Смелков и правовед Сухов13, прозванный кавалергардом, и моряк с кортиком Мукалов, и актер Рокотов, и певец Труханов и бритый адвокат во фраке Багров и весь сонм необнаружившихся, пока безымянных, помирали со смеху. Стрепетный Абраменко, вздурясь, колол колючими шпорами зоолога Копылова, профессор-византолог, оправившись от зуба, без зуба не разевая рта, подхихикивал.
– Да, то ли еще будет… столпотворение будет! – Корнетов, указуя перстом по-халдейски, чудил, – потихоньку да полегоньку все мы съежимся – так, и на бок – так, без языка – так, с глупеньким смешком. И уж будет совсем неважно, безразлично, когда придет тот же псоголовый Индиан, ступит на Красную площадь и тихо займет Кремль, а у нас, в Петербурге, поволокут Петра куда-нибудь в Мурзинку и вылетит последний русский дух!
Нет, хоть бы дух перевести, сам царь Валтасар Халдейский ничего б не расслышал – ничего б не расслышал – ни про какого Индиана, впустую шла корнетовская глаголица. «Ванный черт» вызвал смех, смех возбудил позыв на корм – и пошла в ход варенуха, королевская селедка, вина горячие и меды разные, квас сладкий, квас черствый, квас выкислый и все, что около и за, заготовленное Корнетовым.
– В ту ночь и сон мне приснился особенный, – не унимался Корнетов, настраиваясь на крещенский лад, – снилось мне, будто я вроде как на вокзале – огромное здание со стеклянной крышей. И не знаю, для чего такое здание, одно знаю, что это-то и есть мир, весь мир. А сложено оно из коробок, из всяких плетушек, и много лестниц во все концы, со всех концов, – и деревянные и бревенчатые и из веревок и просто из паутины, прозрачные. Народу – не проберешься: и дети и женщины и старики и молодые. И все такие несчастные, измученные, и все только и делают, что прячутся. Этим только и заняты: одни заворачиваются в тряпки, другие в стружки, третьи заставляются каменными людьми – каменные такие полуживые стоят истуканы. Но как ни прячутся, как ни хоронятся, а схорониться не могут, их видно – а видны они эфиопу и эфиопке. Эфиоп – тощий-претощий и длинный, сухой, а эфиопка – паучиха, короткие ноги. Над всем и везде – они прытко белкой бегают по лестницам и всех и все видят; только они умеют так легко и ловко бегать с лестницы на лестницу, перебегать и спускаться из конца в конец, сверху вниз. И этого никто не может, а которые идут – с трудом подымаются, считают ступеньки. И я вижу, как по горизонту мечутся люди и никуда убежать не могут: их и там видно – их видит эфиоп с эфиопкой. Тут я не помню, что-то говорилось – ничего мне не в память, только вдруг откуда-то свет и страшно блестящие с синевою пушки…
– Очень жизненно! – крякнул стрепетный Абраменко с колючими шпорами.
– По моему положению я в сны не верю, – сказал прокурор, – но должен признаться, сон ваш – сама жизнь.
– Жизнь? – подцепил Багров, – что такое жизнь? – тысяча съеденных котлет…
И, как камень о камень, снова смех: багровые котлеты пришлись по сердцу: «тысяча съеденных котлет»! – посыпались невские анекдоты.
Тут догадливый хозяин, чтобы не порвалось дело, выскочил на кухню к Ивановне. И уж скоро вернулся и не один, а с Ивановной: Ивановна расскажет святочное – крещенское, чего все забоятся: лапландскую сказку.
* * *
Ивановна смерти не боится и пожара не боится, и темноты не боится, Ивановна «второго пришествия» боится – громогласной трубы архангельской, колдунов и лешего. Лешего Ивановна не раз видела и очень хорошо упомнила: «мужик большой, глаза светлые, и ребята у него есть, ребята черные, худые». Ивановна дальняя – отъезжица из Лапландии от Студеного моря. Там она прожила всю жизнь, там и быть бы ей до своего смертного конца, но судьба выбила ее из родной земли вон – в Петербург. Неграмотна, один «твердый знак» знает, а много чего видела и слышала.
Уехали родители в Колу. Осталась она одна дом караулить. Сидит у окна, шьет. Погасал ясный вечер. И вдруг две барышни прилетели, будто на крыльях, в черном: черные шляпы, черные ленты. Стали у окна – говорят:
«Мы шли-шли –
по пути избушка,
в той избушке маленькая подружка,
очень маленькая!»
И качают головой – черные шляпы, черные ленты. Которая постарше, у той ключи в кармане, брякает ключами:
«Отдать этой ключи?» – показывает на Ивановну. «Нет, – говорит младшая, – рано ей еще: не может она владеть нашими ключами».
А Ивановна и спрашивает:
«Барышни колец не носят, а у вас много колец на руках?»
«Мы эти кольца раздаем: кому два, кому три, кому пять!» – и качают головой.
Еще много чего насказали они Ивановне и на прощанье дали ломаное кольцо.
– В худых душах лежала, черная, как уголь, а сказать боюсь: «Смотри до трех лет не сказывай!» запретили мне барышни.
И все сбылось. Вышла Ивановна замуж, были у нее дети. И муж и дети померли. В Петербург попала. И не вернуться ей к Студеному морю, не обменять ломаного кольца на крепкое литое – не выменять горькую долю на счастливую.
3. Нойда14
Не было и нет на земле страшнее нойдов – лапландские колдуны. Много их было да и теперь не перевелись у Студеного моря, где живет кит-рыба, мать рыбам. Нечеловеческими чарами владели нойды: орлы доносили им чужие речи, рыбы приходили на их зов и на рыбах переносились они с земли в царство мертвых, вызовут мертвеца на землю – узнают от него тайны, они угадывали, что делается в далеких чужих странах, предскажут будущее – царю Ивану Грозному нарекли Кириллин день! – помогали и вредили человеку – привораживали, напустят болезнь, наведут порчу и мертвый сон, насылали и смерть, переносились на облаках, подымут ветер, грозу и бурю, их можно было убить до смерти, но они знали, как воскресить себя, и опять подымались, как ни в чем не бывало.
Нойда, умирая, благословлял своим колдовством. Если же не находил способного или не успевал передать свою тайну, его дух не успокаивался – и по смерти бродил он по земле с колдовскими ключами.
Там, у Студеного моря, где лелеется лунный олений мох волнистый – примени к волнующемуся морю! – там, где летней порой стоит день и ночь незакатное солнце червонное – примени к червонному золоту! – а в зимнюю темь и ночью и днем – звезды; там, где в звездном сиянии, как ударит мороз, и сполохи – души убиенных – подымут резню на небе: кровь их студеная – примени к студеному морю! – алой волной лелеется, и от звезды до звезды дыблет нож; там, где по звездному небу сполохи алым окатным жемчугом убирают самоцветные солнца, по белой дремучей пустыни среди живых бродят неуспокоенные чародейные духи. Страшны нойды при жизни, еще страшней после смерти; мертвец может больше живого!
Жил в Нотозере большой нойда – Ризь. И умер. Положили его в гроб, а везти хоронить боятся. Был Ризь страшен живой, а мертвый еще страшнее! Вызвался смельчак, запряг оленей и повез мертвеца. С вечера выехал – не ближний конец – думал к утру на месте быть. Едет он вечер, и стала ночь. Бойко бегут олени – споро дорога идет. К полночи чего-то испугались олени. Посмотрел возница – и туда и сюда – нет никого. Оглянулся – а мертвец сидит.
«Коли помер, лежи!» – крикнул на мертвеца.
Послушал мертвец, лег. Поехали дальше. Глухая ночь. И опять испугались олени: мертвый сидел в гробу. Тогда выскочил из саней возница, выхватил из-за пояса нож:
«Ложись! – кричит. – Коли не ляжешь, зарежу!»
А мертвец зубы оскалил – и стали зубы, как нож. (Покажи мертвецу палку, и стали бы зубы деревянные!) Спохватился возница, да поздно. А мертвец все-таки лег. Поехали дальше. Катит глухое время – стынет немая полночь. Дважды сошла беда, в третий раз не минует: встанет мертвец, загрызет! Соскочил возница, выпряг оленей, а сам на ель – до самой верхушки. А ждать не пришлось, встал мертвец – и к ели. Острые, как нож, железные чернели зубы – скрипел зубами, а руки его крестом на груди, как в гробу. Обошел он вокруг ели, пригнулся и грызет. Обгрыз ветви, за ствол принялся – он грыз, как россомаха! – летели щепки, падали ветви. И зашаталась ель – возница сам стал ветви ломать, бросал мертвецу. Мертвец подумал: падает ель! – и остановился. Не падала ель. И опять стал грызть. И не раз живой обманывал мертвеца: только б дотянуть до зари – с зарею мертвец ляжет в гроб! Возница запел петухом: прокукурекает, похрипит и опять кукореку. Встрепенулся мертвец, бросил ель: не заря ли? Нет, еще не зареет. И опять грызть, грыз, подгрызал под сердцевину. Дрожала ель – упадет: несдобровать! И обреченный сам стал спускаться на землю. Мертвец подумал: поддается! – и перестал грызть. Острые, как нож, железные чернели зубы – скрипел зубами.
«Заря! – закричал возница. – Ложись в свой гроб!» Заря алела – алый жемчуг. Не разымая сложенных крестом рук, покорно лег мертвец в гроб. Спустился возница на землю, закрыл крышкою гроб, впряг оленей и пустил вовсю по алой дороге. Только к вечеру был он на месте, там вырыл могилу и набок опустил в нее гроб.
Семь лет боялись! Семь лет боялись громко слово сказать, боялись ходить мимо. А кто ходил, слышал – ой, как свистит там и воет, и галит! Был Ризь большой нойда.








