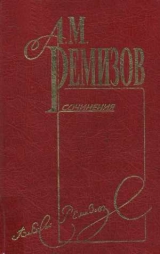
Текст книги "Том 9. Учитель музыки"
Автор книги: Алексей Ремизов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 36 страниц)
Я никогда из-за своего пропада не желал никому беды и не злорадствовал; оттого ли, что глубоко сознаю, что исправить ничего нельзя, и никакие, самые «пророческие» вдохновенные, проклятия ничего не изменят, а физическое истребление, на что я совсем не способен, самообман и со всеми его последствиями очень тяжелыми, как для себя, так и для других. Предоставляю другим – кто как хочет и может: воистину, все позволено.
Человеку все позволено и… прощено. Это говорю я не из какой-нибудь теории, вымученной за все мои напряженнейшие дни и жестокие ночи, всегда на волосок от какого-нибудь сумасброднейшего поступка, я говорю это из наблюдений, вольных и невольных, и столкновения моего до – синяков с живою жизнью: так не только всякий думает, а и поступает, а какими словами выражаются и выражаются ли, неважно; но это так.
Прожил я жизнь не без воли – я хотел быть всегда сам по себе и все делать по-своему, и все делал по-своему, несмотря ни на что. Пустые люди, описанные Чеховым, – Чехов потому и пришелся по вкусу: рыбак рыбака… – мне чужие; и пропад пустого человека, а это тоже Чеховская тема: как такой человек пропадает – не мой пропад. У меня было и есть упорство; начатого я никогда не бросал; не поддавался и никаким соблазнам; не опускал рук ни при каких и самых трудных обстоятельствах, которые подымались и окружали меня непрошибаемыми стенами; верил и верю человеку – да, не «все-равно» и не «все-одно», и это из моего глаза, из моего слуха и из моего сердца, а ведь проще простого поддаться самому безнадежному, а в сущности самому успокоительному «всеобщему и однообразному подлецу»; верил и верю в человеческую волю – в это никогда не удовлетворяющееся, настойчиво требующее «хочу», и в человеческий труд – в это в меру сил «могу» – но сам-то я за всю мою грозную жизнь путного ничего не сделал, и в этом сознании моем, что так-таки не сделал и не сделаю, и есть мой пропад. Последняя попытка проявить себя – сделаться писателем, ни к чему не привела: я знаю и не обманываю себя и не обольщаюсь, что мера моих сил – возможности мои очень ограничены или, выражаясь образно: «однодневная всеобщая забастовка» и другого, хоть тресни, не придумаю, и имени Корнетова вроде как бы и не существует. И мне осталось одно, на это я имею право: «свидетельство о бедности».
В «кассе шомажа» уполномоченный – писатель моего возраста, выпроваживая меня – а как по-другому сказать, не знаю: он так размахивал передо мною моим прошением, что я невольно пятился к двери…
«Возможно, – сказал он, наступая на меня, – вы не можете уловить духа времени».
«Мне хотя бы какое-нибудь свидетельство!» – говорю я в дверях уж.
Но вместо ответа он по-товарищески подал мне руку. И я узнал в нем самого себя, разница была только в том, что он еще не сомневался в своих возможностях и все относил к «духу времени» – к современности, под которую он по своему возрасту не подходит или, выражаясь образно, ему в голову не пришло бы на демонстрации бритвой подрезать жилы лошадям.
И вот я хожу с еще не подрезанными жилами, куда только можно, и куда нельзя, за этим бедным свидетельством – сам-то себе я его давно выдал.
Вчера заходил Козлок – мошенник и плут, но добрый человек и с ним нетрудно. С тех пор, как мошенник промудровал надо мной, дано ему имя Аркалай. И потому ли, что зовется «поэтом» – все волшебники поэты, – заходит Козлок всегда с литературными новостями, а если ничего нет, сам сочинит: что Козлок, что приятель его Судок – одного укуса и уксуса.
Козлок не без удовольствия передал мне все ходячие догадки, а и собственные домыслы, кто именно подразумевается из общих знакомых в «Шише еловом», исправленном предательской рукой «залесного аптекаря» Судока. Мне, знавшему подлинно в оригинале и в исправленном виде, и как составлялось это Полетаевское интервью, жутко было слушать, просто не верилось – в какой, значит, спертой тесноте живем мы, и как надо потерять всякий глаз и чутье к человеку, чтобы так перетолковывать.
Но Козлок сделал вид, как будто это не к нему, а к Тирбушону. И, подхватив «Тирбушона», рассказал о его загадочном пальце: у Тирбушона, по уверению Козлока, – «сам признался» – не растет на руке на левом мизинце ноготь – явление необыкновенное, и как был месяц назад, так и теперь, все в одном положении, а на других пальцах растут нормально, и он их подрезает, иначе б выросли когти – что все это значит?
– Тирбушон показал мне палец, – рассказывал Козлок, – вижу, ничего особенного, а он мне говорит: «значит, скоро будет война!» И признался по секрету, что уж потихоньку начал собирать пробку из-под бутылок и ночью, когда засыпают соседи, приклеивает фотографическим клеем эту бутылочную пробку рядами по стене своей меблированной комнаты.
Но самое главное: «письмо Ромэна Роллана»229. Козлок достал это письмо у Швабрина, и было ясно, что копия, но по своему природному мошенничеству выдавал за оригинал. Ну, пусть будет оригинал.
Ромэн Роллан, прочитав французский перевод «Крестовых сестер» или, как он называет «Inferno»230, делает такой вывод, что никто из героев «Буркова дома» не может построить новую жизнь, и чтобы построить новую жизнь, надо создать новую человеческую расу – другого человека, не Маракулина231.
«Vous êtes un des hommes qui avez annoncé et préparé le tremblement de terre qui a jeté à bas la maison Bourkov… – Mais où sont, dans votre livre, «les maîtres d’oeuvres» (au sens «gothique»: les architectes) qui reconstruiront une maison meilleure? Marakouline ne le peut point, ni aucun de ses compagnons de chiourme. C’est une nouvelle race d’hommes qu'il faudrait faire. Le vieil Adam est-il assez jeune encore pour planter dans le venire d’Eve une graine drue, non mordue par le ver du péché originel et par la vermine des autres moisissures ramassees au long des siècles?… Qui sait? Je lui crie: «Vas-y, vieux père!» Il n’en coate rien, d’essayer! Rien de plus, en tout cas, que d’attendre que la maison, ou lui, tombe».232
Козлок дал мне на прощанье десять франков «на бедность»; Ромэн Роллан взбудоражил мои горящие горькие мысли о человеческой бедности, и я все думал, пока не закрутило в сон.
Я увидел себя лошадью с подрезанными жилами, мне очень хорошо запомнились мои острые движущиеся лошадиные уши; ногам моим больно и не знаю, куда мне их девать, и эта лужа крови, и не могу я никак выразить словом моей боли и моего страха – я питаюсь сеном, я бессловесный, Козлок в рыцарском одеянии, не Аркалай, Амадис, кружил передо мной, сапогами размазывая кровь; он, должно быть, только что спрыгнул с меня. Если бы он догадался остановить кровь! И он взмахнул рукой, как летучая мышь крылом, и я превратился в человека. Ромэн Роллан заставляет меня прочитать на вечере Пытко-Пытковского из Лермонтова: «и жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, – такая пустая и глупая шутка»… – я упираюсь, но потом начинаю раздумывать. И вижу, как по горизонту бегут волки – облака! – злые с поднятыми лапами, как слоны, и кто-то – Лермонтов? – говорит мне: «надо затушить огонь и затаиться!» И мы с Козлоком залили камин и прижались к стене. И я видел, как за поднявшимся дымом, окутавшим стену, не заметив нас, пробежали волки. Тут я проснулся с чувством, что беда миновала.
Какое ясное утро – первый весенний день! «И жизнь, как посмотришь»… – вспоминаю сон, – но эти Козлокские десять франков и никуда мне не надо идти за свидетельством… да и не знаю я, к кому еще обратиться?
Я иду так по нашей улице – свободный от «бедности»; «бедностью» в старину называлась «тюрьма». «И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, – такая пустая и глупая шутка»…
«Ветхий Адам», нет, просто старик Адам, потому что «ветхий» предполагает другого «нового» – «поновленного», омоложенного «благодатью». «Старик Адам» – у старика «задатки» еще имеются: первые весенние дни, – я чую, – «станок поставил». И я нарисовал картинку – все, что я встречаю днем или ночью во сне, я всегда рисую: вот на нашей улице, с такими выгибами, что встречным, не толкнув друг друга, не разойтись, «mademoiselle Pédon et son cabot»233 (подпись к картинке) – неизменный и верный ее Тотор, встретив на таком неминуемом выгибе тротуара неизвестную мне Флоранс, первые заявили о весне. Проходивший мимо кюре уткнулся в молитвенник, очень заинтересовались ребятишки – они гурьбой шли из школы, ища «авантюр» – и как обрадовались невиданному осьминогому чудовищу: на одном туловище по концам две морды! А мадемуазель Пэдон, крепко держа на ремне своего Тотора, наблюдала первое явление весны – этот первый весенний клич, и с таким сияющим лицом – однажды в год ей выпадает такое счастье! – можно было смело сказать, что от ее лица и исходил и свет и тепло первого весеннего дня. С этого дня я с нею раскланиваюсь, а знаю ее и ее кабо еще с осени. Тотор питается из ордюров: поздно вечером, когда я подходил к калитке, Тотор, выпростав морду из «пубеля», схватил меня за рукав. Я уверен, что он меня принял за свежий ордюр: я с моим образцовым «анализом» и выброшенные кости, ботва и всякая полежалая дрянь – никакой разницы! И тут, в это яркое утро, никакого стеснения: так естественно и ему повезло – случайная встреча с Флоранс. И никогда не поймет, если я скажу: «и совсем не случайная» – ведь и хозяин этой Флоранс стоял тут же и изводил своими разговорами – известный «кабо!» – счастливую, счастливей своего «кабо», мадемуазель Пэдон. Тотор делал свое дело, чего ж стесняться!
Старик Адам! ты этого никогда не поймешь и никогда не примешь… о «деловых отношениях» мечтал, кажется, единственный Розанов, но как это чуждо в веках сложившейся «человеческой природе» с ее «грехом» и «стыдливостью». И старик, наверное, там где-нибудь за пустырем устроился, загороженный от любопытных глаз соблазнительной рекламой: «buvez les vins du Postillon»234, и, если бы увидел меня, близорукого, открыто смотрящего на мир со всем моим сознанием всего значения веса и тяготы «природы», «греха», «стыдливости» и «предрассудков» и горчайшим чувством моим перед «человеческой бедностью» и перед своей «беднотой», или увидел бы уткнувшегося в молитвенник кюре, который, предполагается, не смотрит по сторонам и ничего не видит, что вокруг, очень бы сконфузился, ну, и не обознался бы, как Тотор, принявший меня за ордюр, и когда окончится церемония, повторяю, задатки еще имеются, туркнется за хлебом и говядиной – и мясные и булочные тут же, где живописно расположилось осьминогое чудовище о двух мордах по концам. А хороша будет порода: отец и мать сытые, и виден хозяйский глаз – чистые, умные зародятся псы, ласковые собаки с тем особенным запахом здоровой псины… Одну такую на днях переехал автомобиль: с улицы перенесли ее на тротуар к угловому колониальному магазину, где за покупку неохотно выдают обещанный талон – надо набрать сто талонов, чтобы получить премию! – и уж как бывают довольны, если покупатель не напомнит, а я никогда не напомню по моей «запуганности» – и откуда это у меня такое прогрессирующее «стеснение»? – или это никогда не покидающее меня «стоит ли? и неловко!» – «случайно или забыли?» – «и разве это важно – талон и какая-то пустяковая премия?» На тротуаре около методически мелющей электрической кофейной мельницы – не могу помириться, что где-то в Бразилии жгут и топят тысячи мешков кофею! – носом к мельнице, распространяющей чудесный запах наперекор выбивающемуся чаду тут же поджариваемого кофе, лежала задавленная автомобилем собака, и все прохожие останавливались. И я, сквозь чад вдыхая кофейный воздух и негодуя на американское сожжение – какая скаредная расчетливость и алчная безрасчетность! – я тоже постоял над мертвой собакой: она была прекрасна и ее лоснящаяся шерсть – волк, не собака! Человек умирает семейно, зверь в одиночку, а тут у всех на глазах – труп: какое кощунство! Человеку в его «грехе» открылась «смерть», человек – «царь времени», не больше, но перед «безгрешным» зверем только жизнь и гнетущее предчувствие и в этой бесконечной жизни никакой тайны, ничего, чтобы скрываться или скрывать. Да такой и в голову не придет заводить плутню с премированными талонами или, когда мне не на что кофе купить, сжечь тысячи мешков, на которые не находится покупателя. У этих безгрешных зверей, которые легко могут обознаться с голодухи, как в случае со мной, и нисколько не стесняющихся воспользоваться «естественным моментом» и как часто одураченных – ведь Тотор убежден, что «нашел» Флоранс, а вовсе не то, что бы свел его хозяин, уговорившись с мадемуазель Пэдон! – у этих простодушных зверей нет никакого «первородного греха», ничего они не преступили – не нарушили никакой заповеди, у них только «кровь» и только «от крови» и «по крови», и ничего «не взыскуется» и один закон – безусловное: «множьтесь и наполняйте землю», по нюху подбирая себе пару. Вот и весь круг – собачья или лисичья или еще какого зверя зверовича судьба! но эта задавленная автомобилем – разве это не взыск? Так ли это, что и в безгрешном мире не взыскуется…? Но я не могу представить себе, чтобы и у них возможна была вдруг вонзающаяся в сердце боль, – та боль, которую Гоголь подметил в песне, «всегда неразлучной с унынием», та самая боль, которая настигает человека и в райском безмятежном житии «Старосветских помещиков», которая неожиданно, точно из-под земли подымется, и всякому покою и тишине, всякому «счастью» конец. Грех и добавлю: плач о грехе – боль, смерть – вот круг человеческий, человеческая судьба. А ведь и эта задавленная собака, ничего не подозревая, с «чистой совестью» уверенно перебегала на ту сторону, торопясь по тому же самому благословенному «производственному» делу, и вот наскочивший автомобиль хлоп колесом – прямо по брюху – и дух вон, и ни капельки-то крови! – а за что? – за неосторожность и неосмотрительность? Нет, что-то и у «безгрешных» взыскуется. Или неосмотрительность, за которую так бесповоротно и жестоко поплатилась она – и это то же, что «обозналась»: ведь другой на моем месте обознавшегося Тотора, принявшего меня за свежий ордюр, мог вгорячах так садануть – и подвернувшемуся под тяжелую руку Тотору ничего не осталось бы, как, подняв лапы кверху, издохнуть. И тут ясно, да, какой-то взыск – расправа за «житейское», может быть, за глупость, но никак никакой «первородный грех». «Первородный грех» – человеческое и только человеческое: боль и та бездонная чернота в самом существе человеческом, от которой в мире пролито так много слез и было и есть ожесточение. Все эти ожесточенные религиозные споры в Византии о словах, и только о словах, споры, кончавшиеся преследованиями, заточениями и казнью, и то же при инквизиции, – и при этом все «за совесть» и «по совести». Жалко мне собаку – жалко зверей с их откровенно перекатывающимися шариками, когда, помахивая хвостом, бежит который-нибудь по своему, мне непонятному делу. Конечно, и никакой нашей «совести», бессовестные – ни один зверь не съедает другого по совести, это только люди – их преимущество! – ни совести, ни гениальности, и вообще никакого «порока», никакого «уклона природных свойств» – уклона от нормы, от того, что выработалось в веках и стало привычным и с веками утвердилось, как «закон природы». Я думаю не о пьяницах, к которым чувствую непреодолимое влечение и знаю, как трудно иметь с ними и самое пустяшное дело, или какое надо иметь терпение и выдержку, чтобы что-нибудь сладить наверняка; я думаю не о игроках, которых мне жалко и за которых страшно – испытывать судьбу не безнаказанно! – знаю, что азарт и риск может погубить всякое дело, хотя, как и всякое, настоящее дело и делается-то при непременном условии азарта и риска; я думаю не о «истекающих» женщинах, которые безудержно лгут и не властны победить в себе этот «порок», хотя бы и раскаивались и мучились, их постоянная неверность подточит всякое дело; я думаю не о «свистунах» – «аривистах», для которых вы всегда только одна из ступеней той лестницы, по которой они карабкаются, чтобы выйти в люди, и неверны, как эти изолгавшиеся от «недержания» женщины, неисправимые… впрочем, нет, я вспомнил средство из Шахразады, этих еще можно поправить, если окурить их фардж парами уксуса с алоэ или, по Гоголю, плюнуть в их хвост; я думаю не о дураках – этих недорожденных с органическим пороком полузрения, полуслуха, получувства. Я думаю о Эдипе, о сыновьях Лота и о многом, что остается скрыто и тайной даже для ближайших, о чем «история умалчивает» и что можно иногда узнать из подрооных «мелочных» биографий великих людей, а больше из их творчества, где уж не может быть никакой подделки под «приличие». И только через «порок» – «преступление» мне представляется единственная возможность «открыть тайну», «разгадать загадку». Надо как-то «разладиться», как-то поступить «наперекор», «противоестественно», иначе сотрет, сровняет – ведь каждый самостоятельный шаг человека, только и только для него имеющий значение, как и все открытия, все чудеса… ученые, святые, пророки и просто человек, которого различаешь из толпы, никогда не от согласия, а всегда от нарушения принятой и установившейся «нормы» или от уклона от этой нормы. С папироской вальяжно никаких дел сделать невозможно, разве что пройти за нуждой. И мне кажется, что «физиологическое» направление в литературе – описание всяких «нужных» дел и лирические слащавые размышления о этих делах, ничего не откроют о человеке, о «тайне» человека – все эти дела естественные, а там, где дело идет только о естественном, там ноль – пустая бумага. И так же мне представляется и разговор и сочинения о предметах «важных» и «значительных»: ни разговор, ни сочинения ничего не могут представить ни важного, ни значительного, если говорится или пишется с той же самой легкостью, с какой рассказывают анекдоты или о знаменитых выеденных яйцах: можно нагородить тысячу великих имен и ничего не останется, и вовсе не из-за неуменья выражаться, а только из-за легкости сердца. Только питаясь и только ведя «нормальный» образ жизни, далеко не уйдешь. Горная болезнь начинается на высоте 5300 метров, и на высоте 7-8000 метров необходимо дыхание искусственным кислородом и, стало быть, чтобы овладеть пространством, требуется уклон от нормы. Есть «физическая» стратосфера, до которой проникнуть так, без чего-то, обыкновенным порядком никак невозможно, а есть и «духовная» стратосфера, до которой, ведя нормальный образ жизни, никогда не доберешься. Да, надо и на какой-то духовной высоте искусственнное дыхание, и это давно поняли – и что такое, на самом деле, оккультная гимнастика с «выхождением из себя» или хлыстовские – скопческие радения, изощренность дервишей и чудеса йогов, имясловство «старцев», ведовская мазь, пост, ночные стояния, оскопление, и всевозможные виды «переключения» или, наконец, совсем незаметный для глаз «чудаческий», а в сущности подвижнический образ жизни ученого? И есть еще одно неписаное средство, не зарегистрированное ни в каких скитских уставах и «лествицах», это игра самой судьбы: всякие несчастные события в жизни с непременным изводящим душу терпением, выбивающие человека из нормы, вырабатывают в человеке силы дышать на той духовной высоте, где нормальный человек, привыкший к удобной обстановке, задохнется, и никогда не осмелится погрузиться или, что то же, подняться. И еще есть – тут работа природы, ее «слепых» сил – так уж бывает устроен человек с «уклоном», не «под стать», с «пороком», «ненормально», или перестраивается той же природой – в детстве Гоголь слышал полдневные окликающие голоса; оттого ли он слышал, что у него болели уши или у него уши деформировались, потому что он слышал голоса, не воспринимаемые нормальным ухом?
Старик Адам! за пустырем ты работаешь не на порок… все эти гениальные, эти извращенные, эти святые, эти пророки – ну что может быть противоестественнее, как Исайя, который ел человеческое кало, об этом я узнал у безумного Блейка, которого жизнь вот уж крутила! – да, все эти безумцы, маниаки – великие изобретатели, но они же и разрушители. А вся ведь цель и все устремление построить на земле такое крепкое основательное здание, такой новейшей сверх-американской конструкции Бурков дом, чтобы никакого уж «inferno» – никакой «преисподней» с ее мучением и мечтой о свободе, с этими непрерывными муками, прободающими и самый упорный камень пещеры, куда загнан человек на свою волю в кромешной тьме. Но что надо для «райского» блаженства на земле, чтобы, наконец, настала безмятежная жизнь? А прежде всего: ограниченные умственные способности и без всяких острых углов, тупо – Достоевский это очень остро почувствовал, когда из своего «подполья» посмотрел на метущийся человеческий мир с его мечтою о райском блаженстве, как я сейчас из моей воли, свободный от своей бедности – мадемуазель Пэдон еще больше сияет, февральское солнце еще светлее, и какое ясное небо! «Деятель – тупица»! – а как же иначе; никакой разбросанности и чтобы никаких звезд не хватать, никакого полета в стратосферу, довольствоваться малым, только этим начертанным кругом, сесть на какую-то постоянную диету – разумность, рассудительность, трезвость – «mange, obéis et dors» – ешь, слушайся и спи! – «attention et obéissance» – внимание и повиновение! – я слышал такую науку детям, которые за «динэ» уж очень приставали со своим «почему» и «зачем». Да, старик работает на «нормальное» – на нормальнейшее – на такое, что вошло в закоренелую привычку и в мыслях и в чувствах и отлилось в крепчайшую форму, и чтобы никакой «боли» – боль есть начало страха, а страх начало смерти – на «бессмертие!» Иначе к чему и огород городить.
А может, все это только мое воображение по желаемому – эта вечная моя тревога, постоянное беспокойство, изводящая бедность и отчаяние перед человеческой беднотой! – или внушено заражающим зрелищем осьминогого чудовища – по концам о двух мордах с высунутыми языками – кульминационный пункт и снисхождение благодати зачатия! – цветение первородного сгустка крови. За пустырем пусто. Старик вдруг проснулся – острая боль укусила его, и он сразу понял: воспаление той самой железы, которая и есть все его первородное существо – первородный сгусток крови. Он завернулся с головой в одеяло и затих, прислушиваясь к резкой кусающей боли; и одно желание: дождаться, дотерпеть, когда успокоится. А это нестерпимо яркое первое весеннее утро в окно, и надо вставать, а на свет не глядел бы!
Но если я ошибся, и у старика все в порядке, и никакого приступа боли, и от напряжения вытягивается для какого-то равновесия язык, и язык его красен, как у Тотора – –
«Я ему кричу: «валяй, старик!» Попытаться ничего не стоит. Не больше, во всяком случае, чем ждать пока не развалится дом или он сам».
А любопытно бы взглянуть, какая такая за пустырем Флоранс… какая из виртуознейших среди белых, черных, коричневых и желтых, столько раз описанных Шахразадой, какая… а может быть, и никогда не проходившая «науку любви» и не Амадиса, а восточных гаремов, а просто наделенная одним природным инстинктом, я встречал таких, только и заметных по расширяющимся ноздрям и беспокойству, а служит в каком-нибудь почтовом бюро. Но я не могу забыть и счастливую мою соседку – и разве уж такое это счастье быть только зрителем! Какие у мадемуазель Пэдон чистые, глупые глаза! Одинокая, только и развлечения, что этот ее «кабо»! Но посмотрите, как она раскраснелась, ее горячие губы пышут, как и ее ноздри, все лицо сияет… и почему не она?
Но что меня вдруг осенило: старик Адам… да ведь у тебя была и другая привязанность и совсем из другого мира: ее ноздри не расширены и никакой этой виртуозности белой, черной, коричневой и желтой, и не человек она, а джинния – эта «сверкающая резкая красота» – у Гоголя она обращается в собаку, и синяя с горящими глазами пьет детскую кровь, выбирая самых одаренных природой – кровью, чтобы перевести на какую-то высшую ступень, ближайшую к своему миру джиннов, т. е. истончить и окончательно «опорочить» – сделать не «под стать» и не как «все». Такая не заведет себе «кабо» и, держа на ремне, весну открывать в качестве зрительницы никогда не согласится и не станет, как эта с раздувающимися ноздрями беспокойно приподниматься… Гордая и непреклонная, вдохновительница мечты «станем, как боги», никогда не удовлетворяющаяся никаким райским безмятежным блаженством, бунтующий мятежный дух, из-за которого человек и стал человеком со своим первородным грехом, отравой этого духа – и это правда, о «грехопадении во сне», да только во сне могла явиться так ярко мечта и вызов: «станем, как боги!» – «сверкающая резкая красота», от которой больно глазам и нормальному человеку беспокойно – «не надо» и «оставьте меня в покое», вот что подымается у нормального при встрече. И этот сверкающий дух, показавший Гоголю Вия, а Достоевскому Тарантула, есть не что иное, как бунт против этого Вия и Тарантула, этой всемогущей слепой силы, «темного корня мирового бытия», и бунт и мечта о каком-то доме для человека – не «inferno», но никогда и не конурке, хотя бы и оборудованной по последнему слову техники, а годной для ограниченного «механического» человека, этого идеала нормального человека – «мастера» новой человеческой расы. И, может быть, весь пыл старика, у которого была и другая роковая привязанность – «сверкающая резкая красота», вдохновлен этой мечтой, и новая человеческая раса, начало которой кладется сейчас за пустырем, приготовит такую революцию, которая не оставит камня на камне от всех этих строго распланированных конурок райской собачьей жизни.
Вспомнив о десяти франках – вчерашний дар «на бедность», я зашел в наше бистро купить папирос. Я с утра не курил и, закурив «bleue»235, самое крепкое, вдруг очнулся, и спросил у бюролистки, как зовут их собаку:
– Три года по утрам встречаю вашу собаку.
– А вам на что?
Я смутился.
– Так, – сказал я, – всякий день ее вижу.
– Зозо, – неохотно ответила бюролистка, – только она за чужими не идет.
И я понял, почему неохотно: и какое надо мне еще свидетельство о бедности? – ясно, она подумала, взглянув на меня, что я хочу подманить Зозо.








