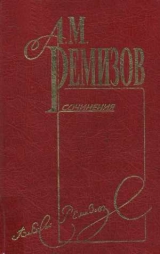
Текст книги "Том 9. Учитель музыки"
Автор книги: Алексей Ремизов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 36 страниц)
«…и опять «complet», – а это все понимают.
Но бывает еще вроде «комплэ», хотя без одного пассажира, а называется «dépôt»184 – и это тоже все понимают.
И единственный, ну, этому во всем везет, – вы думаете? Нет, совсем не везет, вот свалилось счастье. Сколько ждал, и все мимо или не то, а тут единственное место и в руках очередной номер, самый первый, – это Семен Петрович Полетаев, бывший пласье экономических газовых трубок, а теперь «шомёр», имеющий все права, как говорится, на свободу околевать. Он ухватился за входную цепочку такими клещами, ни пинком, ни подгузком не спихнуть уж. Я бывал этим последним, – вскочившим, за которым спускается дощечка с надписью «complet», я знаю этот звериный упор и чувство своих вклещившихся пальцев, – двух выросших из тебя удавов. Мне иногда казалось в такие удачливые минуты, что я на голову выше самых высоких голландцев, и хорошо помню, как весь Париж смотрит на меня, задрав голову, как на какой-то воздушный «восклицательный знак», – Париж, отчаявшийся и отчаянно машущий руками. А ведь минуту назад раздавленный, оплеванный какой-нибудь счастливо впихнувшейся харей с прилипшим к губе окурком, – курит еще мерзавец! – и вот занявший место, все равно какое, неважно, сам с папироской, я чувствовал в себе такую уверенность, такие вдруг нахлынувшие силы, и никакого великодушия, никакого сожаления, плевать мне на всех и все.
Глава вторая. На крайний камень1. Идиллия
А ведь какой этот мошенник Козлок, другого имени нет ему и не придумаю. Балдахал объявился, но ни в какого Тирбушона он не превращался и никаким дегустатором не делался. И вообще с ним никаких происшествий – застрял в лифте с молоком, но это не историческое. А ведь я так поверил.
Балдахал в доказательство показал язык – ну, самый обыкновенный язык в сосочках, едва ли что способный отличать, кроме горчицы и сахара. И тут же откровенно признался, что к винам не способен и никакой «кавист».
– Не иначе, как Иван Андреевич Козлок с кем-нибудь меня спутал.
Не спутал, а нарочно голову морочил, чтобы потом, высунув свой каверзный язык, над нами смеяться.
Я не ошибся: Козлок все это дегустаторство сочинил для смеха. Козлок на свои мошенничества смеялся в одиночку и в самое непоказанное время – ночью, высунув язык под одеялом, вдруг, уж засыпая, вспомнив. Одинокий смех у человека самый смешливый, а физиологически самый возбудительный: от такого смеха умирающий может не только очнуться, но и в самом прямом смысле воскреснуть.
– А как вы живете, – спросил Балдахал, – вижу, не весело. И никуда не собираетесь?
Куда уж! Надо квартиру искать и перевозиться, – сказал я, – теперь по случаю кризиса весь Париж в Париже залетует.
Признаюсь, хоть я и говорил так, но больше потому, что не имел никакой возможности уехать, и вот приплел этот кризис, а на самом деле мне очень хотелось, хоть и «шомёру» устроить себе «ваканс» и обязательно с приключениями, чтобы потом вспомянуть было,
Корнетов никак не отозвался. Корнетов был доволен: хоть одно лето никто его бередить не будет и насильно никуда не потащит.
Неподвижность Корнетова и цепкость к месту, куда его забросило, превышали всякое воображение: когда рассказывают, как живут люди в тундрах или на каких-нибудь отрезанных от всего живого островах – есть такой остров и здесь на Океане: Иль-де-Сен – ничего удивительного и противоестественного, эти «необитаемые» острова и тундры населены Корнетовыми.
– А знаете что, я ни в какие дегустаторы не поступал, но мое отсутствие все-таки неспроста, – сказал Балдахал, – только вчера я освободился, а занят я был на Колониальной выставке: надо было наладить доставку в рестораны всяких «колониальных» продуктов. И надо сознаться, справились отлично – «je ne suis pas dans la mouise или dans la purée», как говорят мои «копэны», а по-русски: «не с пустым карманом». И вот что я придумал: «вы правы, по случаю «шомажа» Париж залетует в Париже, во всяком случае количество «вояжеров» сократится. Давайте поедемте, куда никто не ездит, а если и ездят, то одни чудаки и сумасшедшие: «Pointe du Raz».
Балдахал показал на карте крайний камень в Атлантическом океане – там, где «необитаемый» остров «вдов» Иль-де-Сен, населенный Корнетовыми. А схватился он за этот Пуант-дю-Раз, я вспоминаю: все дело заварил бывший сосед Корнетова Monsieur Dorat, неизменный «Escalier-de-service» Корнетовских воскресных вечеров; прошлым летом знакомые таскали его на этот «Пуант-дю-Раз», о котором он рассказывал нам с ужасом – как должен был под ветром на веревке лазить над самой океанской крутью, что потом три недели жил в Нанте, и все-таки не очухался. Этот рассказ произвел на всех нас неизгладимое впечатление, но ехать туда и самим проделать веревочные упражнения никому из нас и в голову не приходило.
– Я все расследовал, надо сначала попасть в Кэмпер, а из Кэмпера на отокаре.
– В такую даль, да и денег неоткуда взять, – сказал Корнетов.
– Как вам не грех говорить о деньгах, я и пришел за тем, что я вас везу на этот Пуант-дю-Раз. И вы должны согласиться. Мы товарищи. Сейчас у меня есть и вам думать нечего. И вовсе никакая даль, для вас все будет далеким, кроме вашей комнаты.
И Балдахал по свойственному ему упорству, как наладил этот «Пуант-дю-Раз», ничем его не собьешь. И это как со своим «русским стилем»: ведь книгу его никто не покупает, а он второй том написал… «и третий напишу, – говорит, – плевать мне: никто не покупает! Не на покупателя пишу, а потому что хочу и мне самому интересно, это дело моей жизни, и без меня никто такого не скажет!» – упорный человек.
Я-то не прочь, и даже очень бы хотелось – торчать в Булони лето совсем не казисто, еще в Париже я понимаю, но здесь – ни то ни се. Вся остановка за Корнетовым. Не прошлое лето, когда его можно было взять не говоря ни слова и распоряжаться, как хочешь: теперь Корнетов ссылался на неустройство – наперед надо квартиру отыскать и переехать.
Все разговоры о квартирах, будто ввиду кризиса отдают даром, а в некоторых случаях при передаче не только никаких «репризов» и отступных, а предлагают какие-то «въездные» до 1000 франков, называли даже имя: Ежов 1000 дает! – все эти надежды оказались такой же ерундой, как и всякие слухи из «достоверных источников», а Ежов действительно, боясь упустить лучшую квартиру, в отчаянии как-то говорил, что готов пожертвовать 1000 франков, но в конце концов передал квартиру безо всякой отчаянной тысячи, а имя его все еще повторялось и во множественном числе. А все потому, что всем очень хотелось, чтобы квартиры отдавали «даром»: новых домов настроено было – куда ни взглянешь, квартиры стояли пустые, на каждом доме вывеска: «appartements à louer», но цены было недоступные и при передаче, как и раньше требовали «реприз» – какой-нибудь протоптанный прошмыганный бобрик, вылинявшие шторы, развалившаяся этажерка – и всю эту ветошь и дрянь оценивая в тысячах. И понятно, Корнетов ни о чем и думать не мог, кроме как о устройстве – отыскать квартиру и переехать.
А ничего подходящего не было – мы натыкались на мародеров. Я видел, что Корнетов с каждым днем озабоченнее, а про себя скажу: я готов был взять бомбы и ходить из дому в дом и бросать – другого средства на эту паразитическую сыпь я не представлял себе.
Балдахал стоял на своем: высокие цены и мародерство от Колониальной выставки, но к октябрьскому «тэрму» цены упадут, – искать квартиру надо в сентябре, а пока что ехать на «Пуант-дю-Раз».
И Корнетов согласился: его соблазнил не «крайний камень», а Кэмпер и дорога к этому «камню» – древние города и святыни Бретани185: Плозевет, Одриен, Сен-Тюжан, Пон-Круа, Конфор, Дуарненез, Локронан.
Я опять за Корнетова ездил к «жерану». И «жеран» согласился ввиду пустующего дома оставить за Корнетовым его квартиру за половинную цену до октября «pour garder les meubles», т. е. под склад его книг.
Балдахал оказался неотложным, он даже испугал Корнетова: Балдахал появился и не с пустыми руками: через своих «колониальных» знакомых он достал льготные и полульготные билеты. И как неожидан был его приход после пропада, украшенного и расславленного Козлоком, так неожиданно – Корнетов жаловался, что и собраться не дали, Корнетов не успел приучиться вставать рано, а он всегда с неделю тренируется перед отъездом, – снялись мы с места и тронулись в путь без оглядки.
2. Кэмпер
В дороге ничего особенного не случилось. День, конечно, выбрали мы неудачный: в субботу много едут. И в Нанте при пересадке вскочили не в «рапид», как нам указано было, и который ждали мы два часа, а в обыкновенный, который битком набился, и, кто не поспел, стоять пришлось. Но чем дальше, тем становилось просторнее, и с Ванн осталось нас в вагоне совсем немного.
И тут Корнетов всех взбаламутил: уж темнеть стало, и он по своей слепоте Кэмперле принял за Кэмпер: «приехали!» – и хотел ссаживаться, и мы с Балдахалом, не разобрав хорошенько, полезли за ним, – хорошо, что сосед матрос остановил. Будь у нас деньги, нечего было бы и схватываться – Кэмперле так Кэмперле, рассуждали же дорогой, что хорошо бы и в Ванн побывать, а тут случай сам привел.
От Кэмперле до Кэмпера дорога промелькнула, не заметили – всего одна остановка – и до чего Россию напомнило: самый воздух русский и поля, и деревья, и лес, который растет по старине со мхом, не отшлифованный и не расчисленный.
А ведь очень все вышло по-глупому. «Рапид» на целый час обогнал нас, а этот час перевернул нашу судьбу. Наконец-то и мы приехали – перетряслись – все бока отсижены, но это пройдет. Погода прекрасная, станция веселая. Приехали, а не знай, где перебыть ночь. И не в субботе дело, а совсем непредвиденное, что угодили на ярмарку – «фуар»: нет свободных комнат. На такси объездили все отели: везде занято. Попади мы на «рапид», еще возможно, что и нашлось бы – все расхватали «рапидисты». И вернулись мы на вокзал – неужто наша такая судьба: дежурить ночь на вокзале! А только видим: как раз против вокзала ресторан «Cheval noir» – мы в эту «Шваль» – имя-то какое, точно на смех! – и что же вы думаете, оказалась незанятая комната. Конечно, на эту «шваль» вряд ли много охотников найдется, но все-таки лучше, чем на вокзале или за 16 километров трястись, куда нам в отелях указывали. А цену заломили безбожную – ведь кто ж его знал, что ярмарка! а и хозяину упустить случай тоже не рука, может в году только и есть: ловить дураков, но и деловым человеком воспользоваться.
Комната на вид, хоть и без лоску, одеяла на кроватях времен короля Градлона186, но паркет, как каток, только почему-то нет звонков. А нам с удивлением говорят: «да и звонить незачем, «le cabinet» против вашей комнаты». Никогда не думал, что «кабине» со звонком связан, ну, да что рассуждать, хорошо еще, что хоть в «шваль» попали. А «кабине» действительно против: шумновато будет, но и не заспишься, к обедне вовремя поспеем.
После самого невообразимого «динэ» – подавали, что попало: артишок с омлетом, жареную рыбу и такой крепости говядину, куда топор – слону клыками не прободать, а продолжался «динэ» с час и под такой крик и не то, что по пьяному делу, а такая привычка кричать – ярмарка, обращающая всех в цыган. Я посмотрел на часы: было десять – еще ранний час, но выйти походить по городу не было желания. Наученные горьким опытом, захватив лимонаду, стали мы подыматься на верхотуру ночь перебыть – шли в шесть ног, но лестница оступчатая и такая стучащая – как двенадцать копыт топало.
И улеглись. Я долго не мог заснуть. Мне все казалось: кто-то ползет. Я тихонько вставал, подходил к окну. Прямо над крышей соседнего старого дома висела комета – 1 500 000 километров делает в сутки, проносясь мимо Земли, какая! а незаметно. За домом лаяли собаки – так лают только в деревне за разросшимися коноплями у дальних соседей. Потом началось топанье по лестнице не в двенадцать, а в трижды двенадцать копыт – это возвращались жильцы по своим стойлам. Шипела вода, бойко работал «кабине». Но всему бывает мера, даже и непривычным к сидру, заменяющему «пюргос». Мимо нашей «Швали» прошли подгулявшие, горланили. И под их не луженое горло последним издыхающим сипом ворчали автомобили. Ближе, чем собаки, провизжали женские голоса, не то запустил кто пятерню слишком далеко, не то просто от удовольствия. Но и этим естественным звукам дан был исход и успокоение. И вдруг раздался необыкновенно жалобный «писк», такой жалости рулады я еще не слыхивал: она тянулась, как тянучка, и в ней было столько и уныния и чего-то до-голи смешного. Не раскрывая глаз, я чувствовал, что не могу удержаться – мой рот расходится в улыбку. Это был какой-то окончательный и освобождающий звук, после которого наступила полная тишина – все соседи заснули, и Корнетов и Балдахал дышали ровно, да и я, должно быть, в лад с ними с моей застывшей улыбкой, потому что больше ничего не помню. Я помню из другого мира: я складываю слова из мыльных пузырей, и выходят целые фразы, они летают разноцветными гирляндами и, хотя понять ничего невозможно, но у меня такое чувство, что я выхожу победителем. А проснулся я на петушиный крик. И опять началось копытное топанье по лестнице, и заработал «кабине».
Решили сначала пройти в Катедраль на мессу, а потом посмотрим, не освободится ли где комната: к «Швали» мы не подходили, хотя на блох я зря погрешил – на простынях не оказалось никаких следов.
* * *
Всякий город имеет свой запах. Париж в ясную осень на Авеню Мозар пахнет устрицами, виноградом и только что выпущенными книгами осеннего сезона. Кэмпер – и это больше, чем в воздухе, это где-то на языке – вкус копченой andouille187 de guéméné и с колбасным запах сидра до вкусовой горчинки. Нас сразу обдало, когда мы пробирались по набережной Одет, глазея на бесчисленные мостки: что ни дом то мост, и с каждым мостом дух крепче.
Св. Корантэн пожалел нас – а какой чудесный орган в его Катедрале, не знаю, какая молитва или гимн в конце мессы: играли на низах глубоко и так отчетливо, как выговаривает, и такой мир, такая заботливость – голос нечеловеческий, но человек. А может, доктор Лаеннек – его памятник тут же на соборной площади, видно, добрый был, тоже не оставил без внимания. Нам повезло – после мессы забрали мы наш «вализ» и перебрались в лучший отель на набережной: единственная освободившаяся комната досталась нам, а цена чуть побольше «Швали». Но зато и комната, действительно, без начищенности чисто, это сразу видно, и по ночам наверное так не топают и такого безудержного нет крика, хотя морды и наглые, те же барышники. И Бог знает, за кого там нас приняли в этом «Парке». Отель для американцев, и конечно, мы к ним не подходим.
В понедельник ходит отокар в Пуант-дю-Раз. Надо как-то до завтра перебыть и еще, вернувшись, одну ночь, и домой. Да на большее и не хватит. Балдахал пересчитал и не раз, всю мелочь вывернул, нет, не хватит. А глаза-то разбежались: можно было бы во вторник в Сен-Геноле проехать. Плохо то, что в этом «Парке» обязательно: или бери «дежене» или «дине», а так на своей колбасе не полагается.
Целый день мы слонялись по городу – от Локмарии до св. Матфея и от св. Матфея до Локмарии. Корнетов, привыкший сидеть или суетиться в своей комнате, тащился, как обреченный. Ему это путешествие было очень чувствительно. Зашли опять в Катедраль, думали и за «вепр» орган сыграет что-нибудь такое. Но верно, не всегда такое бывает: никакого голоса мы больше не услышали. Что ж, ведь устроились, слава Богу. И в самом деле, не нами одними и заниматься: и святым и добрым людям столько еще забот и еще столько тут же бродит неприкаянных или таких, перед отъездом я слышал: «поселились они в подвале, но и в подвале оказалось для них слишком дорого».
От Корнетова я узнал, что есть три аномалии: «amour» (любовь), «délices» (отрада) и «orgue» (орган) – в единственном мужеского, а во множественном женского, и, стало быть, надо говорить: «quelles belles orgues!»…, a какие прекрасные есть органы – и никогда не надоест!
В сумерках Корнетов рассказывал о короле Градлоне, жил в Кэмпере, о его дочери, черной волшебнице, погубившей знаменитый город Ис и погибшей в море; о двух свирепых псах, их держал король впроголодь для охоты, они же решали судьбу, и суд их был беспощаден.
«Недалеко от Кэмпера в лесу Невет жил святой человек Ронан. Родом он был из Ирландии и пришел в Бретань, как в пустыню. Он был так чист помыслами и так желанен в чувстве, что звери и птицы его слушали, а людям от его взгляда и слов становилось легко. Жена лесника, который заботился о святом, потеряла ребенка и в смерти его обвинила Ронана, будто он колдовской своей силой ночью обращается в зверя и пьет детскую кровь. По доносу Кэбан, привели Ронана в Кэмпер и король Градлон задумал испытать, прав Ронан или виноват? – и выпустил на него своих псов. Услышав голос святого, псы вдруг притихли и с нежностью стали лизать ему руки».
Корнетов нам и место показал, где это происходило – рю дю Шапо-руж против св. Матфея.
Поздним вечером, пропустив и самое запоздалое «дине», мы вернулись в наш американский «Парк».
* * *
Окна нашей комнаты на набережную. А на другом берегу Одет – «фуар». И днем была музыка, а теперь началось невообразимое: все карусели, все тиры работали, как утренние и на ночь «кабине» в Швали. Нет, еще пронзительнее: карусель с каруселью не в лад. И не было чародея, который овладел бы ярмарочным разладным адом – этим «Enfer de Plugoff», а такой звуковой массе позавидовал бы сам Эдгар Варез, автор «Интегралов» и «Аркан».
Корнетов под музыку спокойно заснул. Заснул и Балдахал. А я и тут не могу. Я попробовал закрыть окно – музыка стала глуше, но душно. И пришлось открыть – и музыка с еще большей настойчивостью затопала в ушах.
Перед сном Корнетов читал нам Достоевского, и теперь мне вспомнилось литературное признание, написано до каторги.
«Что тебя мучит? Бедность, нищета? но бедность и нищета образуют художника. Они неразлучны с началом. Ты еще никому не нужен теперь, никто тебя и знать не хочет; так свет идет. Подожди, не то еще будет, когда узнают, что в тебе есть дарование. Зависть, мелочная подлость, а пуще всего глупость налягут на тебя сильнее нищеты. Таланту нужно сочувствие, ему нужно, чтоб его понимали, а ты увидишь, какие лица обступят тебя, когда ты хоть немного достигнешь цели. Они будут ставить ни во что и с презрением смотреть на то, что в тебе выработалось тяжким трудом, лишениями, голодом, бессонными ночами. Они не ободрят, не утешат тебя – твои будущие товарищи; они не укажут тебе на то, что в тебе хорошо и истинно, но со злою радостью будут поднимать каждую ошибку твою, будут указывать тебе именно на то, что у тебя дурно, на то, в чем ты ошибаешься, и под наружным видом хладнокровия и презрения к тебе будут, как праздник, праздновать каждую твою ошибку (будто кто-нибудь был без ошибки!). Ты же заносчив, ты часто некстати горд и можешь оскорбить самолюбивую ничтожность, и тогда беда – ты будешь один, а их много; они тебя истерзают булавками».
Корнетов, отдавая все должное, поднимал ошибки тех первых литературных лет Достоевского: какая словесная фальшь «Честный вор»…
Корнетов, должно быть, прав: надо говорить своим голосом – теми самыми словами, какими говоришь самому себе, и никогда никого не представлять: «как при чтении не следовать актерским шаблонам, так и в письме не надо актерничать; актерство в рассказе затрет и самые замечательные наблюдения – в «Честном воре» «ползучая вина» едва внятна из-за искусственной манеры рассказывать: Достоевский «играет» отставного солдата – из бывалых людей».
Корнетов старается, пишет – в эмиграции все становятся писателями – а я еще пока только присматриваюсь. Что еще запомнилось? – Украшения речи и сравнения – этот пестрый мундир, в который наряжают героя, так что и лица его не видишь. До сих пор это держится в литературе, а называется «пирожничество» – «пирожники» по преимуществу поэты, пишущие прозой. Сравнение должно выходить само собой: когда сегодня за принудительным «денеже» подали спаржу, я вдруг вспомнил нашу хозяйку в «Швали».
И вспомнив хозяйку «Швали», так напоминающую вареную спаржу, я мысленно начал свой дневной поход от Локмарии до св. Матфея по улицам с названиями городов, окружающих Кэмпер и уводящих к тому крайнему камню – цели нашего путешествия – Пуант-дю-Раз.
Я вспоминал рассказы Корнетова о Бретонских святых – всю археологию, с которой связан был дневной осмотр старинного города.
«Что я вынес из этого осмотра для сегодняшнего дня? – Вот мое чувство: судить о настоящем, рассматривая вчерашний день, все равно, что говорить о вчерашнем вкусном обеде. Нашлось ли хоть что-нибудь в сегодняшнем дне от прошлого? –»
В карусель – в эту музыку «Enfer de Plogoff» стали врываться новые звуки: визг – до свиного.
«Ну, что ж, были святые – какие чудесные легенды! а вот «фуар», карусели и этот человеческий визг – безостановочный и бесконечный. Пока какая-нибудь безымянная планета, пересекая земную орбиту, не упадет на Землю: упадет в океан, и поднявшаяся волна смоет все живое, а ударит в Эйфелеву башню, весь земной шар сгорит за какой-нибудь час, и вся мудрость человеческая, рукописи и книги, и первое и единственное из чувств человеческих любовь – дом человека – обратятся в пепел. Но пока что жизнь на земле продолжается – природа произрастает. И это все?»
И вдруг я вспомнил: на мессе в Катедрале я заметил мальчика – с каким чувством и усердием наклонив голову, он замирал, впору только взрослому, и ноги его тоненькие без чулок вытягивались и не вздрагивали.
«На чем была сосредоточена его мысль? Какой грех? Или дома в семье тяжко? Ему не больше десяти. Но он уже проснулся, как Неточка Достоевского: «в половине девятого вдруг пробудилась, как от сна, а до того никакой памяти». Или это будущий Корантэн? Во всяком случае не безразличный и ни подо что не строющийся, а ведь самое ужасное, это строющийся под «добрых»! – и не в гуще визгов природы, один. Или будущий Лаеннек?»
И вспомнив этого Корантэна-Лаеннека, такого молчаливого наперекор «фуарным» визгам, я увидел нашего соседа по «дежене», как он ест палюрдов и омара.
«Добродушный веселый человек – наш Monsieur Dorat – ничего злого, а ведь есть в человеке неистребимая злоба, не стираемая никаким «крещением» – никакой религией и никакими «духовными словами» – и приятный, но и вся его жизнь в этих палюрдах и омаре, он может думать и ждать их, как визжащие на карусели ждали музыки – «Enfer de Plogoff». И так было всегда и в археологии и в сегодняшнем дне, и это совершенно нормально и ничуть не бесстыдно, и Корантэны и Лаеннеки вышли из этих визгов и палюрдов. Так, стало быть, что же?»
Но я жаловался, я возмущался и не мог заснуть.
Только в полночь музыка прекратилась, но долго еще шумели на улице – долго не могли успокоиться, расходясь по домам и стойлам. А когда человеческое кончилось, в плотине водопадом зашумела вода.
3. Пуант-Дю-Раз
«Не хвались, идя на рать…» – стих вдохновенного Асконченского, этого патриота Севастопольских времен, прозвучал во мне непроизвольно, когда ранним утром заработали «кабине» нашего американского «Парка», возвещая, что наступает минута, и через какой-нибудь час мы очутимся на «крайнем камне» с одиноким островом, отрезанным от всего живого, а населенного Корнетовыми – людьми упорными, несмотря ни на что, – Иль-де-Сен.
То, над чем каждый из нас смеялся в Париже, встречая переполненные отокары – «дураков везут!», ожидало вас перед подъездом нашего пробуждающегося «Парка». И, обернувшись в «дураков», мы заняли места рядом с такими же «дураками». И заранее можно было сказать, на чем их глаза будут останавливаться.
Весь отокар восхищался картинами природы.
Археология скучна, если не знать истории. А картины природы утомительно однообразны. И гоняться за «видами» – пропащее время. Хорошо, когда они сами собой встречаются, – этим и хороши всякие поездки: посмотреть в окно, а, насмотревшись, отойти. Поля – везде поля, лес – везде лес, и море – море. И без передышки восхищаться – не понимаю.
И до чего опять напомнило Россию, именно Россию, а не индустриализирующегося СССР, – вот молотьба цепами, вот старики, сидят на пыльной площади, или неожиданный цвет городов – как в России в каком-нибудь заштатном, а котором никто и не вспомнит, – розовые дома в Пон-Круа, и старинные церкви – «шапели», сверстницы Благовещенскому собору в Сольвычегодске, эти живые музеи – в церквах совершается служба, и ладанный дух и свечи оживляют занумерованное – этот драгоценный фонд для археолога и ничего не говорящие надписи для туриста, восхищающегося видами природы.
О Бретонских святых сохранились одни легенды и сказки. И под этими легендами хранится образ непреклонного «живого», а не только живущего человека и память воли; веет нашим Архангельским, Вологодским и Олонецким севером – дремучее есть и в этой чудесной полосе Океана, не такого сурового, как исконный русский – Ледовитый.
Деревянная скульптура, чугунные гробницы и иконы сохраняют лицо святых: св. Тюжан – мудрый, спокойный взгляд все победившего в себе человека и рядом взбешенный пес, которого он держит на цепи или просто без всякой цепи; а когда я увидел гробницу – лежащего св. Ронана, его слушались птицы, и никогда не обижали звери, – «а который не мог сдержать своей природы, понуро отходил, поджав хвост», – какой кроткий взгляд! я не мог оторваться, я все хотел вспомнить.
И дальше всю дорогу я думал о нем, – это была встреча со знакомым, с которым связано было когда-то в жизни столько хорошего, но которого я позабыл, и вдруг опять увидел.
Я не смеялся над соседями, умилявшимися видами природы. У каждого свое, или каждый по-своему плох. И у каждого есть что-то, когда он думает так, как я, о встрече – долго хранилось в сердце и позабыл и вдруг вспомнил! – или когда, не думая, глядят не отрываясь на тихо переливающийся разноцветный Океан в Дуарненезе.
Мне вспомнилось, как однажды в церкви какая-то монашка прикладывалась к образам, она тыкалась всю службу: в житейском дома эта монашка, должно быть, очень канительная со своей чересчур уж простой и даже назойливой верой в «скоропослушницу» и в какого-нибудь Лесковского «венчального батюшку», и лучше не иметь с ней дела, изведет, но, тычась, она была так умилительна и так трогательна, как и не она; какой-то не из клира, а по усердию, читал за дьячка канон – и даже по голосу, не глядя, было ясно, что человек он так себе, как это часто, чаще, чем думаешь, бывает, не скажет «нет», а смолчит, если это неудобно, т. е. невыгодно, и поддакнет, когда требуется, но с каким умилением он выговаривал слова, и стал совсем не похож на себя. И я тогда подумал: это умиление тычащейся монашки и умиление усердного чтеца и то чувство, с каким я за всенощной заслушиваюсь, когда поется знаменитый догматик, это то общее, что красит не мои, а «наши» минуты в нашей серой «безвдохновения» жизни. И это же всеобщее умиление меня и помирило с соседями.
Так, от Святого к Святому, от камня к камню, по прекрасной дороге – их «тропкой» – лесом, полями и берегом добрались мы до крайнего камня, где ни деревца, ни травки, а один ржавый колючий мох – Пуант-дю-Раз: остров друидесс, поминаемый в «Martyrs» Шатобрианом – Иль-де-Сен с маяком фар д-Арман; бухта Бэ-де-Трепассе, загон всего, что погибает в Океане, и кипящий Анфер-де-Плогов.
* * *
За проводниками стадом потянулись туристы, и из нашего американского и из других подъехавших отокаров. Проводники вели по скалам, где Океан, превращаясь в белых взвихренных драконов, взвихрял синего цвета море.
Тащиться в хвосте и слушать проводников предоставляется любителям видов. И мы отделились. Мы шли без дороги над пропастями. Картина получалась живописная, на которую обратили внимание и проводники, и все устремляющееся стадо отокаров.
Корнетов в своих парадных лакированных ботинках – не из щегольства, а старые его, служившие пять лет, отслужили, – в берлинском инфляционном сером пальто поверх двух свитров и с теплым вязаным платком на руке, – взяли на случай, – шел, не глядя на взвихряющийся «ад», – не может глядеть вниз, предупреждал! – шел, ступая по скользящим камням, на одной ноге, чтобы сохранить равновесие; за ним Балдахал, вытянувшийся, выше своего роста, – я подозреваю, со вставшим от волнения штопором в пищеводе; а за Балдахалом – ведь только и можно, что гуськом – ваш покорный слуга Полетаев, единственный, как полагается, по таким кручам, в парусинных туфлях. Когда карабкались над пропастью, это еще ничего, но когда, потеряв терпение, задумали подняться на скалу, чтобы выйти на дорогу, все человеческое кончилось.
На четвереньках – я, не глядя, видел, каким вниманием мы были окружены! – с ухваткой за камни, обрываясь от скользины, медведями, кружа, подымались мы по скале. И, казалось, совсем близко, а чем дальше, тем труднее становилось, и последний каменный выступ, торча в глазах, не поддавался руке.
Какая-то босоногая девочка, для которой никаких скал не существовало, продав альбом с видами, стоющий несколько сантимов, за три франка, помогла Корнетову.
И первое, что я услышал, когда с исцарапанными руками мы поднялись на ноги и «ад» остался у нас позади, первое слово – «идиоты».
– Только идиоты могут ездить на Пуант-дю-Раз. Ну, что еще унизительнее, – карабкаться на четвереньках? И вниз я не могу смотреть, я предупреждал.
И каждому из нас было теперь непонятно, зачем мы спускались за стадом, зачем лазили по крутизне, когда отсюда вот – все видно, весь бледный, белее белого от сини, «ад», и совсем безопасно?
– Ничего нет интересного и смотреть нечего. Взглянули и довольно, и еще на веревках лазить я не согласен.
Корнетов ворчал всю дорогу – мы шли по колючему ржавому мху к отелю. Корнетов готов был, хоть сейчас, назад ехать, но этого никак нельзя было, отокар не одних нас привез и отвезет, когда стадо налюбуется видом.
И опять Корнетов помянул свой петербургский зарок после экскурсияльной поездки на Иматру – не связываться ни с какими общественными организациями, которые никогда к добру не приводят:
– Изволь дураком ждать два часа, да еще заставят обедать.
* * *
От крабов, что ли, хотя для русских рак привычное блюдо, во всех московских пивных с сухариками давали приложением не бесплатным к пиву, или от кофею – набухают «шикоре» (цикорию) ни на какую стать, а скорее всего от несвойственной человеку прогулки на четвереньках, только после часового «дежене», вышли мы из отеля с такой тяжестью, словно уху молоком залили. Корнетов решительно отказался лазить с веревкой над еще другими, неосмотренными «адами», да и у меня и Балдахала в таком переполненном состоянии не было никакой охоты.








