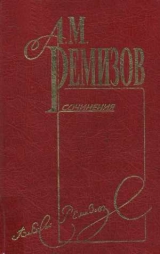
Текст книги "Том 9. Учитель музыки"
Автор книги: Алексей Ремизов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 36 страниц)
– Спасибо, – сказал Корнетов, – вы читали Крестовского «Петербургские трущобы?»
– Нет.
– Жаль.
– А разве есть что про нас?
– Отчасти. А кто этот Михаил Андреевич?
Я ничего не ответил: неловко же в самом деле было признаться, что у «аптекаря» я не спросил, – ведь я только самому себе сказал, что я «болван».
– В этих самых «Трущобах», – сказал Корнетов, и как-то из-за своего мокрого полотенца странно улыбнулся, или это от головной боли? – говорит там одна нищенка: «подаянная копейка мимо ладошек пропорхнула».
– А я в Россию собираюсь, – сказал я, вспомнив «аптекарскую» науку, – в СССР! – и посмотрел: какой эффект?
Корнетов лежал с закрытыми глазами.
– Или пойду в монастырь.
Но Корнетов не подал голоса.
Глава четвертая. Слепая1. Не все понимаю
В вагон вошла слепая. Ей помогала барышня, а багаж нес господин. И купе наполнилось. Я подумал, что и господин – слепой, но это он закрыл глаза от натуги, обессиленный чемоданами: своим и слепой. Слепая поместилась против. Жеманно поправила она у себя на груди искусственные цветы – розовый букетик и осторожно прислонила к выступу высокую белую палку – свой посох. И брезгливое чувство невольно поднялось во мне: около губ было нечисто – у слепых бывает: воспаление кожи, расчесано и чешется, а не посмотреться. Через черные очки чувствовались глаза, но какие – гноящиеся или изъеденные бельмами? И я стал укорять себя: мне она была отвратительна, и хорошо, что не рядом, – а ведь это такое несчастье, слепая! Я представил себе ее беспомощность, ее покинутость и сознание, что всем в тягость, – и разве кто может полюбить такую?
В купе было душно, еще душнее стало. На каждой станции подсаживались. Заняли весь коридор: ни пройти, ни выйти.
Слепая нервно шевелила пальцами. И барышня – моя соседка повела ее в уборную. И ясно я почувствовал, что моя неприязнь одинока, и мне стало совсем неловко: в проходе сжимались, влипали в вагон, уступая слепой.
Вот тут-то я и разглядел и барышню, помогавшую слепой, – незаметная провинциальная барышня, и господина, как ослепшего от тяжести, – какое-то обваренное лицо, бритый. И я подумал о них, как и о тех, уступавших дорогу, что вот все они просто пожалели человека и смотрят на него, как на несчастного, и в чувстве их нет и тени моего отвращения. «И как это все неверно, – думал я, – будто только простой русский народ способен на такое беззаветное к несчастью первого попавшегося, незнакомого!» – И еще и еще раз я упрекнул свое черное сердце.
И снова, пройдя через тесноту, для нее нетесную, слепая вернулась в купе и, шевеля пальцами, стала примащиваться поудобнее: на лице у нее играло полное удовлетворение. И, усевшись и оправившись, разговорилась со своими спутниками: серенькой барышней и обваренным господином.
Она возвращается с «пелеринажа», а была она где-то около Гренобля – не в Ля-Салет ли? – не все понимаю – и эта белая палка – посох оттуда, и цветы. Она шевелила пальцами по розовому букетику.
«Если бы она видела эти цветы, – подумал я, – никогда бы не прицепила!» Но потом подумал, что слепота. ни при чем, эти цветы нравятся и зрячей серенькой барышне и этому неслепому обваренному господину. Но какая это безвкусица, церковные сувениры!
«И у нас тоже щеголяли крестиками и образками на розовых и зеленых ленточках, – вспоминал я, – и гуртом на ларьке, и в подвешенных над ларьком было что-то цветное и серебряное, какое-то трудное богомолье с чудесным легким концом, правда, привозили в Россию монахи с Афона всякое «неблаголепие», но такого глазированного, как здесь, я нигде не видал».
Слепая рассказывала о чудесах. Рассказ ее в рекламных выражениях из путеводителей по святым местам: что-то общее с рекламными письмами к патентованным лекарствам.
«Или это совсем другой народ, – думал я, – может, чувство и общее и глубокое, не сомневаюсь, вижу пример, но форма? Какая чужая форма! И святые-то здешние – причесаны и чудеса творят с реверансами…»
Слепая той же самой рекламой продолжала рассказывать, слушатели сочувственно кивали. И, что странно, не было никакой несообразности и в таком самом несообразном – чудеса! – а все смерено, взвешено и оценено.
И я почувствовал, что между мной и ими пропасть, – забыл, что и наши описания «исцелений» не менее слащавы, и, как часто, на дурака, забыл «метания» – поклоны без сгиба колен, – по виртуозности ничуть не уступающие «реверансам», забыл, наконец, что «знаменный» распев не отличишь от «грегорианского». А пропасть шла глубже и дальше: я уж не видел никакой связи между «пелеринажем» и живой жизнью: с «пелеринажем» и без «пелеринажа» – ложь, надувательство и мошенничество – воля и закон: «Великий Маз».
И больше не укорял себя, но и неприязнь забыл, надоело мне. И я схватился за свое, что меня глубоко беспокоило, и лишь отвлекла слепая.
Вот уже с час, а может, и больше, ехал я вслепую – я и представить себе не мог, куда еду: станции все были незнакомые, и сначала я следил по карте около уборной, но пришлось бросить – толкучка, да и зря – таких станций на карте не было. Когда туда ехал, мне виделся берег высохшей реки в песчаных плешах – нынешнее лето засуха – а теперь, если и попадалась река, то никакого песку, а невозможно, чтобы за месяц произошла такая перемена.
У моей соседки в руках листок и на нем колонкой станции: должно быть, в первый раз едет! Я заглянул и обрадовался: последняя – Paris, Но это только сослепу я прочитал «Париж», это был Сане. А спросить, куда едет поезд, мне было неловко – ведь уж очень глупо: едет человек, а не знай, куда едет. И я решил потревожить мой чемодан, и это совсем не легко, когда так тесно, и все-таки решился, вытащил карту и ищу. И нашел-таки станцию. Но и это меня не успокоило: я ехал не то, что в противоположную сторону, но и не в Париж, а куда-то в Нанси. Ясно было, что я попал не в тот поезд.
Есть всякие автокары. Есть автокар Ситроен – бросает во все стороны, но какая-то все-таки закономерность, а главное есть определенное «complet»; автокар P.L.M. немилосердно подкидывает, и очень это надоедливо, но понимаешь, что такой механизм, во внутреннем же распорядке – одно безобразие. Взял я билет на «терминюсе», а, когда подали автокар, места оказались все заняты – или еще в гараже понасели? – и пришлось стоять. А только что отъехали, на первой же остановке – хоть и говорилось – прямое сообщение, всех нас выгнали, а подъехал другой автокар, и кто как успел вскочить, того такое и счастье: сидячие оказались стоячими, а я сел. И потом на каждой остановке, а всех остановок и счет потеряешь, и как стали влезать – ну, некуда, а лезут – и лезет народ с вализами, с кофрами, с картонками и с собаками, а один даже с ружьем и держит над головой, того и гляди, выпалит, да и от собак тоже не очень весело: не то грызутся, не то играют, а руки прячешь, вот тяпнет. Автокар подгоняется к поезду. А приехали на станцию, дай Бог за полминуты. И все разом на платформу. Два поезда – не все понимаю, да и по близорукости – на одном вагоне вижу «Paris», но вскочил-то я в соседний, не посмотрев. Так вот и еду вслепую.
Слепая перестала рассказывать, и соседям больше нечего было слушать. Господин ковырял в носу, барышня следила по листку станции. Слепая дремала, а, может быть, и заснула, и не было в лице ее никакого жеманства и ничего деланного. И мне ее жалко стало.
«Пока спит, – думал я, – ничего, а проснется – и это очень страшно: ночь и безнадежно. И сколько несчастья в мире! – мне всех стало жалко, – и какая беспомощность и какое глубокое равнодушие!» – и опять я стал о своем думать, – «куда я ехал и куда заеду? И если бы деньги… и что я буду без денег?»
И эта мысль сверлила меня: «что я буду без денег?» А между тем промелькнула станция, я скорее на карту, и по карте вижу: поезд повернул на Париж.
– Теперь рапид! – сказала соседка.
И отлегло от сердца: я ехал, хоть и колеся, в Париж.
И я приладился, отложив мою карту, как слепая свой белый посох. Но я не дремал, мне спать не хотелось. На опроставшемся месте, до того занятом беспокойным «куда?» пошли мысли, – те узлы памяти, которые в каждой жизни называются «мое прошлое». Эти «узлы» были из моего недавнего. А началось оно месяц назад, когда я сидел в Париже на Лионском вокзале, дожидаясь поезда, чтобы ехать в то зачарованное ущелье, откуда сейчас возвращался в Париж, – и, действительно, к моему счастью, ехал в Париж.
2. Дорожные узлы
Я сидел в ресторане, четвертый час – дожидаясь поезда. Поезд отходит в полдень. Я забрался спозаранку, – я не из дому, а с другого вокзала: с тех пор, как я вышел на волю в жаркое июльское утро, у меня нет дома, и я перекочевываю с места на место.
На моих глазах подметали, посыпая, и чистили; завтрак гарсонов; я прочитал газету – и мысли мои шли так тихо, так тикали, как во сне. За час стали появляться «вояжеры», одни наскоро пили, их сменяли другие, и из всех задержалось три столика; я сидел у стены – против.
Против за столиком высокий, плотный господин с приставной головой – лицо Гинденбурга, под левым глазом синяк, правая рука на перевязке. С ним дама – она казалась еще меньше рядом, и бледней от своих черных волос. Бурча, он налил себе пива, потом ей. И, отхлебнув, продолжал бурчать: подбитый глаз, не мигая, смотрел куда-то в сторону, здоровый подмигивал. Губы ее опустились, она поспешно отпила глоток и горько заговорила. Но он перебил. И вдруг она заплакала. И хотелось подняться, взять его же стакан и плеснуть ему в лицо. Больше нельзя было выдержать, она встала и быстро пошла, – и за ней, я узнал эту тень, черное горе. А он остался – приставная голова, подпиравшаяся тугим воротничком, отхлебывала – и разве он был когда-нибудь не прав? И с правом он будет еще и еще выговаривать. Наконец, она вернулась, отпила глоток и посмотрела на него, – мне показалось, виновато. И я понял, что она в большой зависимости и боится его. И опять заговорила, и что-то уж не горькое, а жалкое было в ее словах. А он прихлебывал – он ее не слушал и не смотрел, ослепший в своем праве и чванливой правоте.
Слева за столиком моряк с красным помпоном на шапке и барышня в коричневом. Наклонившись к столу, она что-то старательно выписывала и потом передала ему – свой условный адрес? А если бы она видела, с каким нетерпением следил за ней ее спутник – и как свободно вздохнет он, когда, наконец, простившись, он очутится в поезде один, и потом среди товарищей будет хвастать – мало ли мерзавцев! Но ее глаза неотводно – или она не видит? – но я узнал ее: это сама любовь неотводно глядела на него.
Справа – господин и дама. Пожилой уж, да и она не та. Ему принесли сифон и налили что-то зеленое, а ей кофе. И я заметил, как выпив, он сразу покраснел и заговорил, и эта краска окрасила его слова. А она, слушавшая его с таким интересом, вдруг поморщилась – «действие, кафе-олэ!» – подумал я. Да, я не ошибся: она, пошарив у себя в мешочке, вдруг поднялась и, кивнув, а на лице у нее опять появилась судорожная морщинка! – пошла в уборную. И за время, как она оправлялась в уборной, да ждала – на вокзалах всегда очередь, случилось превращение: то самое зеленое, подкрасившее господина и его слова, исчерпало свою силу, а он вдруг съежился. И вот она вернулась помолодевшая и весело заговорила – да, он достиг цели! – «достиг цели?» – но он сидел опустившийся, и куда девалась краска! – он явно досадовал на свою затею, но уж было поздно. Чудеса природы!
Чудеса природы, любовь – какая это жалкая любовь! – и унижение – «бедность рабства и рабство бедности!» остались в моей памяти, с ними я и вошел в вагон.
И, как всегда, начались недоразумения. Хотя я наверно знал по «справочному бюро» номер прямого поезда, проводник стал уверять меня, что я сел не в тот поезд. И я взялся за чемодан вылезать, но к счастью моряк с красным помпоном остановил меня: ему не в первый раз – никакой пересадки. Не знай, кому и верить! Я остался, но всю дорогу сидел, как на иголках, пока не проехали пересадку. А это называется – «неразбериха». Но остался в памяти и еще «узел» – «культура».
У окна расположились муж с женой, люди почтенные, и все у них в таком порядке и предусмотрено: и как ели и пили и у каждого была книга и иллюстрированные журналы, и как потом немножко заснули. Удивлялся я, глядя: «это и есть культура, – думал я, – и такому век не научишься!» Так и осталось: «культура». Но под самый конец, как вылезать моим случайным и таким непохожим спутникам, случился грех – всего не предусмотришь! Он нагнулся чемодан застегнуть – все в чехлах! – а она полезла чемоданчик снимать; и когда чемоданчик, и довольно-таки увесистый, был у нее в руках, он, застегнув свой, приподнял голову, по голове его этим чемоданчиком и трахнуло. И куда все девалось? Она уж его и рукой трогала: ведь она нечаянно. И ведь ясно, что нечаянно, а было чувство, как нарочно, он грубо отмахивался и огрызался. Так и вышли – трудно поверить, что это были они, мои примерные спутники. Срывая сердце, он грубо, не нес, а тащил, зацепляя за стенку вагона, свой чемодан, а за ним с чемоданчиком она тащилась.
И этот злополучный чемоданчик, разрушивший вернее всякой бомбы ту самую культуру, которой никак не научишься, закрутился узлом в моей памяти, как те ресторанные столики: любовь, природа и рабство.
3. Борода крючком
Мадемуазель Габриель – моя хозяйка, с нее и начинается мой месяц в зачарованном ущелье. Сухая, длинная, усы и борода да не какая-нибудь – пёнушки, а густая крючком, в первый раз вижу. В моей комнате книжный шкап, книги тесно – неприкосновенные. Но я тронул – все награды мадемуазель Габриель, когда она училась в лицее – за прилежание, поведение и хорошие успехи. Кроме нравоучительных, в которых мадемуазель Габриель не нуждается, города Франции, а про них читать не к чему – дальше соседнего мадемуазель Габриель не выезжала. Когда я с ней поздоровался, я не почувствовал разницы между ручкой чемодана и ее рукой, нет, ручка была теплее – ведь я нес чемодан! И, ощутив неприятный холод человеческого тела, я пожалел ее.
Но эта жалость была не сострадательная: «никто не польстится, да и невозможно» – «и ноги-то у нее холодные!» – сказал бы Розанов.
И вот, думая о безрадостной жизни таких, всем обездоленных да еще наделенных бородой-крючком, я проходил двориком и вижу: молодой человек вяжет джемпер, а около, склонившись волосатым крючком, мадемуазель Габриель. И я подумал: «племянник». И посочувствовал: одинокие люди, в ее положении, да рад будешь и киселю на вчерашней воде: молодой человек, этот племянник, имел вид замухрыстский, или сморчок.
Мою комнату с наградным неприкосновенным шкапом прибирают не утром, как это полагается, а после обеда: весь дом сдан жильцам, и всем надо, а Клотильда одна. Клотильда немолодая женщина, но по быстроте и молодой не угнаться, а на язык, как заговорит, не унять, и не уймется. Я спросил о молодом человеке – о племяннике, вяжет джемпер.
– Мосье Жак? – ами! – не сказала, а как пролаяла Клотильда, а чтобы рассеять всякие сомнения, а она и сама долго не могла поверить: – спят на одной кровати.
Мадемуазель Габриель занимает самую маленькую комнату, такую никому не сдашь, и в ней только кровать, и даже столик не помещается. Клотильда нарочно спозаранку пришла и прямо к хозяйке и застала…
– Спят на одной кровати! – с удовольствием повторила Клотильда.
А взялся этот Жак очень просто: приехал на ваканс и устроился: – Макро.
Лето нынче жаркое, не запомнят. Я себе представил тесную кровать – с усами и бородой крючком длинная мадемуазель Габриель и Жак, и какое надо терпение в такую жару вязать джемпер – и как этот Жак ждет-недождется осени, когда, наконец, кончится его ваканс: еще остался месяц.
4. Во сне
Этот месяц мои дни неотличимы от ночей. Я рисовал сны. И если бы не Клотильда, со своими рассказами да еще то, что я все-таки должен был всякий день купить и приготовить себе что-нибудь на обед, я не заметил бы перехода яви в сон и сна в явь.
Во сне со мной совершались такие диковинные вещи – на яву и представить себе не могу. И я схватился: «почему не караются преступления, совершаемые во сне? – разве что-нибудь меняется, если проснулся?» Потом подумал: «карается кровь и боль, а все, что не связано с кровью и болью – вся область духа»… и где же и какая ответственность? Но если «кровь» и есть «дух», то, стало быть, где-то да карается!
Не стоит много рассказывать о приключениях, а бывал я и не раз и смельчаком и храбрецом, тем Гоголевским «высоким» из «Сорочинской ярмарки», который со страху влез в печку и, несмотря на узкое отверстие, сам задвинул себя заслонкой; я без всякого страха переходил самые запутанные автомобилями улицы, и не было ничего от моей мучительной растерянности и бестолковой ненаходчивости, и однажды я проглотил два стаканчика из-под хрену, а другой раз шесть франков в три приема, стоимость автобусного карнэ; я, как ни в чем не бывало, сидел на пеньке в лесу по соседству с медведем, и что-то по-своему мы говорили, понимая друг друга, и сам каменный Бельфорский лев подал мне лапу; я ходил по потолку – я как-то возле своих ног видел этот потолок и раздумывал, что бы такое нарисовать, а безобидные люди, какие-то актеры, желая добра мне, прокалывали шпильками мои пальцы, а сколько раз я, бескрылый, подымался с земли и летал над Парижем, низко над домами, летал я и в комнатах, и не-в-зуб-толкнуть, толокся у экзаменационного зеленого стола, был и в Москве – без документов.
Как беден мой мир, как все мелко и бесцветно и хоть бы одно пустяшное видение, но чтобы в блеске!
О своей бедности и ограниченности я заявлял не раз и теперь повторяю только к сведению. Меня всегда очень смущает «как вы думаете или что вы заметили?» Ведь если бы знали обо мне хотя бы столько, сколько говорят мои сны, никогда бы не спросили: слепота моя засвидетельствована моим «синим с белой наклейкой билетом». Любому хвастуну и обманщику я поверю – или это отчаяние слепит меня и я хватаюсь не то, что за соломинку, а за обнаженный электрический провод. И еще скажу, все эти напасти, обрушивающиеся на меня, все эти наши каторжные годы, как мало заострили мои чувства, и чутье мое – если не бетон, то уж наверно – чертова кожа.
Каждое утро я рисую приснившийся сон. Когда соберется тысяча, у меня будет возможность сделать какие-нибудь выводы, а кроме того – я вычитал в «Похвале глупости» у Эразма Роттердамского ободряющие меня слова – не воспользоваться ли советом Эразма:
«Счастлив сочинитель, послушный моим внушениям, он не станет корпеть по ночам, он записывает все, что ему взбредет на ум, хотя бы даже собственные свои сны, зная заранее, что чем больше будет вздорной чепухи в его писаниях, тем вернее угодит он большинству, т. е. всем дуракам и невеждам».
Или все это хорошо и верно для того легендарного бунтующего века? А наш – с его полетом в запредельность и отчаянием обездоленных – бесприютных, бездомных, беззащитных – свободных лишь умирать, этот исторический век, по вздорности превышающий самые подлые века: тупоумие, мстительность, кровожадность – и «великий Маз», Бестия – дух современности – эта единственная живая сила, воля и закон, а герой нашего времени – «мазурик»…. мудрый Эразм! как наивна для нас ваша «Глупость», но вы первый положили начало самой человечной горчайшей книги: ключ жизни – «Воровской самоучитель». Очнувшись в бестиарии, я со стиснутыми зубами твержу ваши стабилизованные слова, гарантирующие прямой беспечный путь жизни, вашу «экзистенциальную» заповедь, надежнее грозных Синайских Скрижалей и вернее Нагорних слов невечернего света:
– мешайся в чужие дела!
– натирай себе лоб, чтобы он никогда не краснел!
– давай лишь то, что надеешься вернуть!
– не люби и не ненавидь никого, но суди каждого по своей выгоде!
– толкай локтем всякого, кто попадется тебе по дороге!
5. Приключение
Я нарисовал Соню и Катю: Соня и Катя ловят рыбу, и поймали, а оказалась не рыба, а Тереза. Тереза совсем маленькая, тоненькая и есть в ней что-то серебристое – рыбье, и я ей при первом нашем знакомстве сделал «сороку», и теперь она к всем пристает: «дай руку», а дашь, поплюет и что-то шепчет – «et personne n’y comprend rien», да и как догадаться и кто это знает из здешних: «сорока-сорока, где была – далеко!» У этой Терезы выпадает пупок, несчастная девочка, и носит она резиновый пояс – за этот вот пояс крючком ее и поймали Соня и Катя.
Скажу по правде, ничего подобного я во сне не видел, а нарисовал я детям рыбную ловлю, потому что они узнали, что я сны рисую, и им очень хотелось, и всякий раз меня спрашивают: «не видел я их во сне?»
Соня и Катя – единственные русские в этом зачарованном латинском ущелье. Какие-то богатые алжирцы-французы привезли с собой на лето из Марселя портниху – домашняя портниха. Жила она не в грандотеле, в котором остановились хозяева, а на краю всякого привилегированного жилья снимала комнату, и с ней Соня и Катя. Соня – ее дочь, а Катя – чужая. И это очень меня тронуло: мать Сони, научившаяся мастерству за эти годы в эмиграции – а таких портных полон Париж – и самая грошовая работа для нее большая удача, а вот приютила девочку, у которой никого нет и о своем происхождении только и знает, что «родилась в Африке». И мне как-то стыдно стало, когда узнал и даже сам не знаю – но, должно быть, не то называется жертвой, когда много, а когда нет ничего! – у меня ничего нет, но разве я что-нибудь подобное могу сделать? Скажут, что взяла чужую, чтобы своей не скучать? Да, почему не так, но – «когда ничего нет», вы понимаете? И отношение к детям – я сначала думал, что это сестры.
С матерью я не сказал ни слова, только раскланивался, да и редко ее увидишь, все за работой, а детей редкий день не встречал. И не знаю почему дети пугали меня: «ам!» – и я всякий раз делаю вид, что мне страшно, и они верили, и, должно быть, мой страх доставлял им удовольствие. Да и то: я единственный был русский, который понимал «ам».
Катю я называю «лопаткой», так она худа, и все ее косточки и особенно лопатки, как отдельно, только что кофточкой держатся. Что выйдет из этой Кати, не знаю, а как она смотрит – такие, если переводить на книгу, не для большой публики, но у кого есть глаз, тот заметит. Что она думает? Очень она озабочена, а наверно, что-нибудь да думает; одно она знает про себя, что судьба к ней немилостива: она, например, никогда не выигрывала ни в каких лотереях, всегда впустую.
Соня – ей тоже двенадцать – но про нее никак не скажешь «лопатка», и что ровесница Кати: Соня – маленькая женщина. А между тем, по судьбе своей Катя гораздо старше Сони – в глазах у Сони такая безоблачность, и не думаю, чтобы мысль ее проснулась. Соня добрая, в мать, а про Катю не знаю. Быть добрым – или это большой дар или привилегия, и это мое больное: ну, чем я могу помочь людям? И мне остается одно, и только это дано мне: думать – думать до белой ослепительной искры.
Всякий день я хожу на прогулку, смотрю на деревья. Никогда я не чувствовал их жизнь, как теперь, а почувствовал я в ней кротость – и кротость и милость. Такое было в Филарете и Иоанне, названных милостивыми. И от этой кротости и милости необычайное спокойствие. Я видел однажды, как содрогались кусты: один мальчик, желая показать удаль, вздумал хлестать их палкой – какая это была молчаливая боль в этом содрогании, и какая кротость и милость, когда я остановил: я видел эти простертые зеленые руки – и об этом никак не могу забыть.
Я вышел на свою прогулку к деревьям. И вижу, навстречу – я заметил, Соня так руки на груди держит, не то ей холодно, а ведь жара, не то прячется, а Катя корзинкой помахивает – огурцы. Я ждал, что, как увидят меня и сейчас же пугать, и приготовился, чтобы на внезапное «ам» и в самом деле не вздрогнуть. Но вот что меня удивило: дети, завидя меня, опрометью бросились бежать.
То, что случилось с детьми утром в тот день, когда они бросились от меня без оглядки – не они меня, а я, стало быть, их напугал, но чем? – об этом узнаю я на другой день, когда все только и говорили о приключении.
В то утро дети ждали в садике около почтового бюро, к ним подошел какой-то… да они его и раньше встречали: носильщик Марсель…
– «Соня и Катя пошли на почту, – рассказывала мать, – и вижу, бегут и обе взволнованные. Соня плачет. И не хотят говорить. Соня говорит, что ей стыдно, и руками закрывает грудь.
В садике к ним подошел носильщик, взял Соню за грудь: «…Je veux coucher avec toi – tu as un trou entre tes cuis-ses, je vais te boucher ton trou, ça va saigner et çava te faire mal, mais ça ne fait rien…»259 «пойдет кровь и будет больно, но это ничего!» – повторил он и еще что-то, но они не поняли, они только почувствовали и бросились бежать.
Мать была в исступлении, и первое, что она сказала детям, и это запомнилось, что, если они завидят мужчину, чтобы бежали. Так вот почему со мной так вышло в ту встречу, и почему Соня закрывала грудь, точно пряталась.
– Да он живет против вас – Марсель, ему семьдесят пять лет, – Клотильда только об этом и говорила, – quel bel homme, здоровый как «шваль»!
В этом зачарованном ущелье с римскими памятниками, о которых никто ничего не знает, все знают друг друга.
– Кроткая и милостивая, – говорила Клотильда про жену Марселя, – и самая религиозная во всей деревне. Вышла она замуж, когда ей было сорок лет, и все, что скопила – прислугой раньше была – все ему, и все терпит. А он, и про это все знают, как вечер – караулит, да взрослые с ним не соглашаются, он детей караулит: приманил одну дурочку за фунт слив. Фунт слив… Quel bel homme260; здоровый, как «шваль»!
Да ему и не дашь семидесяти пяти лет. Я его однажды потом уже встретил поздним лунным вечером. Надвигалась лунная ночь, улица была пустынна, окна закрыты, ни огонька, и только в отеле одно окно освещено – накануне умерла девочка, приехавшая с родителями из Парижа, не выдержала этого чудесного воздуха и чудодейственной воды. Я стоял у калитки и мимо меня, таясь, провезли на тачке гроб к отелю – приехавшая из Парижа девочка, которую никто не замечал, теперь превратилась в «кадавр» и все боялись. Я думал об этом странном превращении и страхе, который безотчетно охватывает всех, и, провожая глазами гроб, увидел Марселя. Это был сухой, крепкий, и все в нем как подобрано, никаких мешков и действительно стройный, как выточенный – bel homme, – но только очень все грубо – самый материал грубый, и лицо обветренное. Но откуда эта сила – от чудесного ли воздуха и чудодейственной воды, которая может и погубить, как эту приехавшую из Парижа девочку, или разожженный в крови уголек действовал – Свидригайлов? Неужто оттого, что взрослые не соглашаются, как объясняет Клотильда, т. е. боятся огласки, вот он вышел караулить даже несмотря на «кадавр», который всех разогнал по домам и погасил все огни? Меня поразило, что он говорил детям и что именно и запомнилось: «кровь и боль» – и я чувствую, что не тут ли разгадка, что не в этом ли сокровенном, и оттого-то и преступном, в этой жизни самой жизни: «кровь и боль»?
А жену Марселя я не видел – но «кроткая и милостивая», мне и видеть не надо, я ее, как живую, вижу и понимаю по этим деревьям, на которые хожу смотреть всякий день. И, подумав об этой кроткой и милостивой, я как спохватился: «и самая религиозная во всей деревне» – а это значит, что все-таки есть какая-то связь пелеринажей с их чудесами и жизнью с ее обманом и ложью, и, может быть, «пелеринажи» и открыли глаза, погруженные в ложь и обман, на эти простертые зеленые руки, какие я чувствую, глядя на деревья, и их кротость и милость.
* * *
История с Марселем произвела впечатление не столько на детей, сколько на мать. Правда, Соня с этих пор все как-то закрывается, словно стыдится. А мать готова была задушить этого «негодяя». Она пошла к нему в дом и при его кроткой жене все рассказала, и та заплакала, а он ломался: ничего подобного, все дети сами сочинили! – и «тру» и «кушэ», и «кровь» и «боль». Его вызвали в жандармерию. И кто же это не знает, не первый случай: припомнили фунт слив, которыми обольстил он дурочку да и раньше, когда он служил в больнице, он не пропускал ни одной сиделки, за что и выгнали его.
Теперь его арестуют, начнут дело и будет суд. Но мать не согласилась: ей было бы еще тяжелее таскать детей по судам. И ему оставалось только извиниться.
– Извинился, – рассказывала Клотильда, – Марсель извинился, точно это трудное дело: извиниться, – уже негодовала Клотильда, но вся ее ожесточенность заключалась неизменным: – «quel bel homme», здоровый, как «шваль!»
Я от Клотильды слышал и другой рассказ с не меньшим ожесточением, но конец переходил совсем не в восхищение: какой-то приезжий богатый англичанин предложил очень бедной, в бюро служит в грандотеле, сделаться его ами и посулил воспитывать ее мальчика, но та отказалась… она сказала, что она «не продается».
– Упустила такой случай! – говорила Клотильда, как говорила и той несчастной, и в голосе ее звучало явное презрение.
Вскоре после извинения Марселя и произошел случай с приехавшей из Парижа девочкой, которую в лунную ночь задушил чудесный воздух зачарованного ущелья. Я знал все подробности от Клотильды. В ее рассказе поминался «кадавр», произносимый приглушенно и с явным страхом. Но как только в ту лунную ночь – в мою встречу с Марселем – этот «кадавр», внушавший необозримый страх не только Клотильде, я уверен, и самому Марселю, положили в гроб, закрыли крышку и вынесли в церковь, и там на крышку положили цветы, страх кончился – страшное имя «кадавр» больше не произносилось, а разговор пошел о венках: какие дорогие красивые цветы!
Я заметил, что слово «кадавр» – это совсем не русское безразличное «труп» и не древнее «стервь», но я нигде не встречал, и только здесь, такое обоготворение умершего – «покойника» и непременно скрытого под крышкой гроба. Родители умершей девочки люди не какие-нибудь, отец чиновник, и, конечно, расчетливые, и в хозяйстве «серебос» заменяют обыкновенной солью «de cuisine», но посмотрите, на похоронах: венки выписали из соседнего большого города, и вся церемония обошлась не в тысячу, а в несколько тысяч.
И по крайней мере с неделю Клотильда поминала венки, а если бы она видела нашу Эглиз д-Отэй – эту известную выставку у черного с серебром церковного входа! И только своя беда вытеснила цветы.
У Клотильды была кошка Мими: белая кошка – черное пятнышко на голове, черное пятнышко на хвосте и черное пятнышко на животе. Кошка ученая, сама просилась на двор и ей Клотильда отпирала дверь и, сделав по надобности, кошка возвращалась в комнаты. Клотильда забыла на ночь запереть дверь, кошка туркнулась самостоятельно и вышла, и больше не возвращалась.








