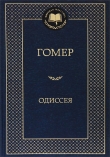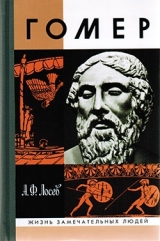
Текст книги "Гомер"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 32 страниц)
заострении гомеровской идеологии, чтобы их считать только механическими
интерполяциями. [55]
г)Невозможность грубого понимания аттических интерполяций. То, что это не
есть просто интерполяции, во всяком случае, не интерполяции с такими грубыми
политическими целями, о которых говорят и античные и новые исследователи, достаточно
доказывается тем неоспоримым фактом, что изображаемые у Гомера афиняне вовсе не
всегда являются победителями и вовсе не всегда способны обойтись без посторонней
помощи.
Стихия и Иасона убивают, и Менесфей не приходит им на помощь (Ил., XV.330-333).
Сам Менесфей (Ил., XII.331-363) зовет себе на помощь саламинца Аякса; и тот вместе с
Тевкром его спасает (364-377), и тут дело вовсе не в трусости, мало приятной для афинян
(как думает Скотт), потому что те же самые выражения употребляются в подобных
ситуациях и в отношении Диомеда (Ил., V.596, XI.345), и в отношении самого Аякса
(XV.436, XVI.119). Дело тут в том, что гомеровский эпос завершал свое развитие еще в
эпоху подъема Афин или по крайней мере в период перехода Афин из безвестности к
более или менее заметному положению в греческом мире.
Гомер вовсе не выдвигает афинян на первое место. Афинянин Менесфей (вся песнь
XII «Илиады») пользуется все время помощью саламинца Аякса. Он не участвует в играх
в честь Патрокла [а по Еврипиду (Ифиг. Авл. 247), он даже и вовсе не является
предводителем афинян под Троей].
Скотт2) совершенно правильно утверждает, что об Афинах в «Одиссее» вообще
упоминания редки и путанны. Согласно рассказу Одиссея (Од., XI.321-325) Артемида
убила Ариадну во время переезда ее с Тесеем с Крита в Афины; Орест прибывает в Аргос
мстить за отца из Афин (III.306-308), в то время как у всех трагиков, он прибывает для
этого из Фокеи. Афина с острова феаков (VII.78-81) прибыла в Афины через Марафон –
тоже вопреки здравому географическому смыслу. Из этого можно, пожалуй, сделать даже
тот вывод, что автор «Одиссеи» вообще слабо знает Балканский полуостров. Ведь говорит
же Нестор (III.321 сл.), что птицы не могут перелететь Средиземное море за год, а
Менелай, что египетский остров Фарос (IV.354-357) находится на расстоянии дня пути от
устья Нила. В «Илиаде» Афины упоминаются тоже только один раз, да и то только в
каталоге кораблей (Ил., II.546), где вообще перечисляются все греческие города,
пославшие свои войска под Трою.
Говорили о том, что Писистрат, сын Нестора, введен в «Одиссею», чтобы польстить
знаменитому афинскому тирану Писистрату. Но так грубо нельзя понимать гомеровские
[56] интерполяции. Ведь почему-то Телемах не говорит ни о каком Писистрате в своем
рассказе матери о посещении Нестора (Од., XVII.109-117). Можно ли считать этого
Писистрата сколько-нибудь важным лицом в «Одиссее»?
Если бы афиняне хотели во что бы то ни стало самым грубым способом всюду
напоминать о себе, то Эдип (Ил., XXIII.679 сл.) не умирал бы в Фивах, а умер бы в Колоне
около Афин, как об этом твердила мифологическая традиция; и Тидей (XIV.114) тоже не
был бы похоронен в Фивах вопреки общему мнению, по которому он похоронен в
Элевсине; и Филомела была бы не дочерью милетца Пандарея (Од., XIX.518), но
афинского царя Пандиона; Гекуба была бы не дочерью Диманта (Ил., XVI.718), но Киссея,
как об этом думали в Аттике, а Минос, знаменитый враг Афин, у Гомера не был бы
мудрым судьей и другом Зевса (Од., XIX.178 сл.). Когда Еврипид в «Ифигении в Авлиде»
из-за патриотических целей хотел возвеличить Афины, то он сделал предводителем войск
афинянина сына самого Тесея, увеличил число афинских кораблей до 60, а Аргосу вместо
80 дал 50. Скотт напрасно упражняется в остроумии, опровергая аттического Гомера и
предполагая, что может идти речь только о грубых вставках, откровенной политической
корысти и нелепом искажении общегреческого Гомера. Действительно о вставках у Гомера
говорят упомянутые выше два мегарских писателя; и Скотт опровергает их мнение на
основании того, что мегарцы были враждебны к афинянам. Однако ясно, что античные
сообщения о Герее и Диэвхиде можно толковать в самом разнообразном смысле.
Аристотель в своей «Афинской Политии» среди заслуг Писистрата (XVI) ничего не
говорит о его литературных предприятиях. Но ценность этого «аргумента на основании
молчания» в логике расценивается очень низко. При Писистрате, говорит Скотт, афиняне
еще не могли диктовать свой вкус всей Греции. Но речь, конечно, идет не об афинском
вкусе, а об общегреческом деле с аттическим заострением. До расцвета драмы Афины
были далеки от литературы. Но Гомер это не литература, а прежде всего устное
творчество. Музы жили на Геликоне, в Олимпии и Пиэрии, т. е. не в Аттике. Но Аттика
никогда и не думала опровергать общегреческих муз или делать их специально
аттическими. Лин, Фамирид и Мусей не были жителями Аттики. Скотт думает, что
гомеровское творчество только в том единственном случае могло бы получить завершение
в Аттике, если бы все греческие певцы происходили из Аттики. Такой аргумент даже не
заслуживает опровержения. Ни одна поэма эпического цикла не приписывается поэтам
Аттики. Но ни один из 9 классических лириков также не жил в Аттике. Этот аргумент тоже
не имеет никакого значения. Скотт напоминает нам о литературной консервативности
греков, изгнавших Ономакрита в эпоху Писистрата за внесение одного стиха в поэму
Мусея и наложивших штраф на [57] Ликона, друга Александра, за внесение в комедию
лишней строки. Мы не знаем, применим ли этот аргумент к Гомеру. Но если он и
применим, то это только говорит об органическом завершении эпоса в Аттике против
механических и грубо политических интерполяций. Мы вовсе и не стоим за механические
и грубо политические интерполяции. Александрийцы, по Скотту, не знали ни одной
афинской рукописи Гомера. Это неправда: Аристарх самого Гомера считал афинянином.
Точно так же едва ли заслуживают опровержения такие аргументы Скотта против
афинского завершения Гомера, что ни один исследователь Гомера не родился в Аттике (как
будто бы завершителями поэтического творчества Гомера могли быть только его научные
исследователи) и что из Афин не происходило ни одного рапсода (как будто бы о каждом
рапсоде известно, откуда он происходил).
Сам же Скотт утверждает, что, кроме эпоса, все роды поэзии, возникавшие вне
Аттики, получили завершение в Аттике. Но почему же кроме эпоса? И сам Скотт весьма
правильно изображает возникновение того, что он называет легендой о комиссии
Писистрата. Он исходит из того, что именно в Афинах Гомер систематически исполнялся
на праздниках и что именно там возникла потребность объединить в единое целое
отдельные произведения Гомера. Так оно и было, пусть хотя даже и не существовало
самой комиссии Писистрата. Ведь та самая схолия, которая говорит о внесении при
Писистрате в состав «Илиады» X песни, одновременно утверждает, что эта X песнь была
тоже произведением Гомера.
Таким образом, остроумные аргументы Скотта или ничего не опровергают или
направлены против признания у Гомера наличия слишком уж грубых интерполяций. Они
совершенно ничего не опровергают в вопросе об органически-творческом завершении
гомеровских поэм в Аттике.
д) В чем заключается подлинное аттическое завершение Гомера?
Однако нет нужды гоняться за отдельными вставками и выражениями, чтобы
говорить об аттической стадии эпоса. О ней гораздо больше говорит едва уловимое у
Гомера веяние аттического духа, хорошо известного нам из истории классических Афин,
т. е. духа разумной энергии и воли, волевой целенаправленности, отважной
предприимчивости, больших прогрессивно-новаторских и организационных
способностей, подкрепляемых острым, проницательным и критическим взглядом на вещи,
но сдерживаемых чувством меры, внутренней собранности и гуманизма. Нет ничего
невероятного в указании Мюльдера о том, что поэмы Гомера отражают на себе уже борьбу
Греции с Азией; и хотя в этом утверждении совершенно неприемлемы его
исключительность и злободневно-политическая заостренность, тем не менее невозможно
отрицать у Гомера самого веяния [58] отважного греческого антиазиатского духа,
приведшего в дальнейшем к гегемонии Афин и греко-персидским войнам. Речь может
идти, конечно, только о веянии, хотя это веяние все же настолько тут заметно, что из
древних Аристарх, а из новых Кобет прямо считали Гомера афинянином (взгляд, который
для нас, конечно, совсем не обязателен).
е) Аттические языковые элементы. Наконец, для аттического заострения
гомеровского эпоса существует такой аргумент, который должен заставить молчать самых
крайних скептиков и который базируется не на сомнительных соображениях относительно
интерполяции и не на наблюдениях за едва уловимыми авторскими настроениями, но на
твердых данных гомеровского языка. Как известно, гомеровскому языку с его эолийско-
ионийской основой свойственна еще вполне определенная аттическая окраска. В этом
нет ничего невероятного уже по одному тому, что ионийский и аттический диалекты
являются, как известно, только двумя ветвями одного и того же цельного ионийско-
аттического диалекта. Об этом имеется специальное исследование Ваккернагеля.
Аттические языковые элементы, рассыпанные там и сям по всему Гомеру, – это, во всяком
случае, уже такая органическая особенность творчества Гомера, которую невозможно
объяснить никакими интерполяциями и которая требует признания аттического Гомера
независимо ни от каких его идеологических или стилистических особенностей.
9. Народность Гомера. Если подвести итог всем предыдущим высказываниям о
личности Гомера и утверждению, что Гомер есть народный поэт, то должен возникнуть
вопрос о том, как же нужно в конце концов понимать его народность.
1) Здесь, как и везде, мы должны остерегаться отвлеченных и ничего не говорящих
выражений, подобно таким, как «придворная», «аристократическая» поэзия. Марксистско-
ленинская теория не знает никакой отвлеченной народности, никакой «народности
вообще», никакой народности в виде некоей неподвижной абстрактной фикции. Типов
народности по крайней мере столько же, сколько и основных общественных формаций, в
которых народ себя выражает, т. е. их по крайней мере пять, не считая еще промежуточных
звеньев.
2) С этой точки зрения народность Гомера, согласно всему вышесказанному, должна
быть охарактеризована примерно при помощи следующего ряда определений, в котором
каждый последующий член есть осуществление, уточнение и конкретизация предыдущего
члена: народность общинно-родовая, народность эолийская, народность эолийско-
ионийская, народность эпохи перехода общинно-родовой формации в рабовладельческую,
народность ионийско-аттическая, народность ионийско-аттическая периода зарождения (а
может быть и восхождения) демократии. [59]
3) В гомеровской народности, следовательно, основная роль принадлежит именно
границе между обеими основными античными формациями. Это заставляет, однако, точно
формулировать, в чем состоит сходство и различие народностей Гомера с народностью
обеих соприкасающихся здесь формаций.
4) С общинно-родовой формацией народность Гомера совпадает в признании
общенародных героических идеалов, на основе коллективизма родственных связей, когда
все люди являются друг другу родными и когда они готовы постоять все за одного и один
за всех. Это непререкаемое богатство общенародного героического единства есть то, что
навсегда связалось с именем Гомера и что составляет его величие не только для всей
Греции, но и для всего культурного человечества. Но тут же надо формулировать и
отличие. Народность Гомера отличается от общинно-родовой формации тем, что она не
ориентирует эти общинно-родовые идеалы в их абсолютной нетронутости и
непосредственной примитивной данности, но является уже некоторого рода рефлексией
над этими идеалами, нисколько, правда, не мешающей признанию их всенародной
значимости.
5) Рефлексия эта, как мы отчасти уже видели выше и как подробно будем об этом
рассуждать в главах о мировоззрении и стиле Гомера, является, во-первых, эстетической,
в силу которой старинная героическая жизнь делается предметом красивого любования,
во-вторых, иронически-юмористической, делающей старый и суровый героический мир
доступным и более подвижному, цивилизованному сознанию, и, в-третьих,
моралистической, доходящей до прямой критики старых варварских божеств.
6) С рабовладельческой формацией, при помощи которой греки переходили от
варварства к цивилизации, Гомер сходен именно этой своей рефлексией, невозможной в
старое и наивное общинно-родовое время. Рабовладельческая формация возникла в
результате нового и для своего времени прогрессивного разделения труда, а именно
умственного и физического труда, что в свою очередь открывало широкий простор для
рефлексии над всем тем, что раньше переживалось как простое, очевидное и даже родное.
Появились большие возможности для развития отдельной личности и для их
демократического объединения. Но Гомер резко отличается от этой новой формации тем,
что он не признает и не рисует этих новых прогрессивных демократических идеалов в их
положительном раскрытии; он только улавливает их легкое веяние и рисует их главным
образом отрицательно, не в виде их прямого признания, но в виде рефлексии над
устаревшими формами, и частичной их критики.
7) Этот замечательный тип народности тем самым достигает у Гомера необычайной
обобщительной силы. Если бы эта народность была народностью только общинно-
родовой, она в [60] глазах позднейшего грека оказывалась бы чем-то грубым и
примитивным, чем-то варварским и устаревшим; если бы она была только народностью
нового восходящего класса демократии, то Гомер тем самым связал бы себя одним, правда,
великим, но все же узким и кратковременным периодом в истории Греции и не стал бы
непререкаемым авторитетом для всей Греции в целом. Он взял наилучшее, что было в
обеих формациях, именно, всенародный героизм без варварства и цивилизацию без
крайностей индивидуализма. В этом-то и заключается секрет его тысячелетнего обаяния.
8) При таком конкретном понимании народности Гомера должны отпасть разного
рода односторонние о ней утверждения и разного рода нелепые споры, которые велись и
ведутся в буржуазном гомероведении. Так, для нас нелеп вопрос о том, является ли поэзия
Гомера наивной, как это думали в Европе в старину, или же она продукт цивилизации,
как это думает большинство теперешних ученых. Она есть, конечно, и то, и другое или не
то и не другое; и предыдущее нам показывает, в каком смысле и как объединяются и
разъединяются у Гомера наивность и цивилизация.
Бете ставит вопрос, является ли эпос Гомера народным или книжным, и доказывает,
что это эпос книжный. Для нас же является нелепой самая эта антитеза народности и
книжности у Гомера, ибо мы теперь хорошо знаем, как именно объединяются и
разъединяются у Гомера эти абстрактные противоположности; и если Бете высказывается
здесь за книжность, то это определяется только его реакционной идеологией,
недооценивающей все народное.
Далее, есть ли гомеровская народность некая архаизация или модернизация? Для нас
лишена смысла самая постановка вопроса, хотя ничто нам не мешает абстрактно выделять
черты того и другого у Гомера; и если Дреруп решительно высказывается за архаизацию,
то эта абстрактная односторонность оказалась возможной у него только потому, что он
формалист и эстет и лишен чувства живой народной стихии у Гомера.
Далее, многие никак не могут понять религии Гомера и спорят о том, есть ли это
живая вера или это издевательство над верой. Если бы Гомер не верил в богов, то он не
был бы греком ни общинно-родовой, ни рабовладельческой формации (по крайней мере,
ее классического периода). Но, с другой стороны, если бы его вера была варварским
примитивом общинно-родовой формации и только этим, он был бы непонятен
цивилизованным грекам последующих времен. Весь секрет обаяния гомеровской
мифологии как раз и заключается в этом объединении старой живой веры с ее
эстетической рефлексией; и если кто-нибудь видит в гомеровском изображении богов
атеизм и религиозность, тот, очевидно, подходит к этим богам с чисто христианской
меркой. Он не понимает языческого преклонения перед [61] красотой живого тела и чисто
материального земного человека, обожествлением которого и являются, в конечном итоге,
языческие и, в частности, гомеровские боги. Только умение синтезировать две основные
античные формации и способно дать нам понимание того, что непосредственно народного
и что цивилизованного было в гомеровской религии и в гомеровской мифологии.
Наконец, многие спорили о том, находим мы у Гомера архаизацию или
модернизацию поэтических материалов. Архаического у Гомера, действительно, очень
много, включая всяких мифологических чудовищ и остатков дикой первобытной истории.
Элементов, связанных с цивилизацией, у Гомера тоже более чем достаточно, включая
замечательную по своей твердости, традиционности и постоянству выработанной
закономерности его художественной и стихотворной формы. И тем не менее явилось бы
недопустимым формализмом и рассудочной метафизикой указание и перечисление у него
отдельных и бесчисленных элементов архаизации и модернизации без сведения их в
единое и нераздельное идейно-художественное творчество. Находясь на границе двух
античных формаций, Гомер как бы с некоей вершины рассматривает ту и другую, так что в
конце концов невозможно и определить, какие моменты являются у него в результате
модернизации и какие в результате архаизации. Губительное пение сирен – замечательный
хтонический и, следовательно, архаический образ. Но это пение сирен у Гомера настолько
эстетически увлекательно и рассказ о нем настолько художественно занимателен, что
образ этот уже перестает быть и только архаизацией и только модернизацией. Это именно
та неуловимая граница между тем и другим, как неуловим момент перехода от ночной
тьмы к дневному свету и от дневного света к вечерним сумеркам. Просветительская
рационалистическая метафизика в течение двух веков достаточно упражнялась над
рассечением живого Гомера на мертвые куски. Сейчас этому просветительству должен
быть положен конец.
9) Уже было сказано, что никакая народность, ни гомеровская, ни какая-нибудь
другая, не может существовать вне стихии социально-политической жизни. Даже и самая
древняя мифология, отражающая первобытное развитие народов, только в представлении
буржуазного индивидуализма оказывается чем-то необщественным и неполитическим. На
самом деле даже и там общенародные мифы насквозь пронизаны общественно-
политической жизнью; только, правда, эти социально-политические мотивы древней
народной мифологии бывают часто весьма трудными для анализа. Что касается Гомера, то
его народность достигла такой степени дифференциации, что можно уже прямо и в
буквальном смысле слова говорить о его общественно-политической тенденции.
У Гомера изображается война, и войну эту ведет весь греческий народ. Война эта
народная и с точки зрения греков [62] справедливая, поскольку она имеет своей целью
восстановить попранные греческие права. Но в этой справедливой народной войне Гомер
удивительным образом сочувствует не греческим царям и героям, но троянским. Он
уничижает Агамемнона и Ахилла, вождей греческого войска, и дает их в остро-
сатирическом изображении. Несомненно, в вопросах колониальной политики и
колониального соперничества Гомер занимает весьма определенную политическую
позицию и безусловно находится в оппозиции к заправилам тогдашней политики,
сочувствуя одним греческим городам и отрицательно относясь к другим. В приведенной
выше работе Э. Миро (во II томе, особенно стр. 418-432) показаны афинские
колониальные симпатии Гомера, противоположные по отношению к политике других
городов, например Сикиона. Аттика заигрывала с Троадой, откуда и положительное
изображение у Гомера троянских царей и героев.
Но общественно-политическая тенденция у Гомера идет гораздо дальше. Как мы
увидим ниже, можно прямо говорить об антивоенной тенденции у Гомера, хотя тут не
должно быть никакой модернизации: как ни трагична война для Гомера, но он в
буквальном смысле слова упивается изображением военных объектов и самой войны; и
если основная масса войска иной раз не хочет воевать (и тут все учебники прославляют
Ферсита), то, с другой стороны, войска Ахилла прямо-таки жаждут сражаться. Это видно
из такой речи самого Ахилла (Ил., XVI.200-214):
Не забывайте никто у меня тех угроз, мирмидонцы.
Как при судах наших быстрых, в то время, как гневом пылал я,
Вы угрожали троянцам и горько меня обвиняли:
«Желчью, свирепый Пелид, ты матерью вскормлен своею!
Близ кораблей ты насильно товарищей держишь, жестокий.
Лучше в судах мореходных домой мы назад возвратимся.
Раз уж тобой овладела такая безмерная злоба!»
Так вы мне часто, сходясь, говорили. Великое дело
Битвы теперь наступило: ее вы так долго желали!
В бой теперь каждый иди, в ком сердце отважное бьется!
Так говоря, возбудил он и силу, и мужество в каждом.
Слово царя услыхавши, тесней мирмидонцы сомкнулись.
Так же, как каменщик, камни смыкая с камнями, выводит
Стену высокого дома в защиту от дующих ветров, –
Так же сомкнулись ряды щитов меднобляшных и шлемов.
Характерно и то воодушевление, и то небывалое единодушие, которое охватило
войска при вести о предстоящем сражении с троянцами в связи с примирением
Агамемнона и Ахилла (XIX.41-53, 74 сл.). Следовательно, изображая трагедию войны,
Гомер все же стоит за ту войну, которую он считает справедливой. Другими словами,
гомеровские поэмы создавались в атмосфере клокочущих общественных, политических
и военных страстей; и поэтому здесь меньше всего можно [63] говорить о какой-нибудь
абстрактной народности. Здесь показан греческий народ в острейший момент своей
истории, в период напряженнейшей борьбы аристократических и демократических
элементов возникающего классового общества, в период напряженнейшей колониальной
экспансии.
10) В заключение этого раздела о народности заметим, что никогда не было
недостатка в исследователях, отрицавших эту народность у Гомера. Выше мы уже
встретились с классическим в этом отношении трудом Низе. Из новейших представителей
такого взгляда укажем все на того же Э. Миро. Э. Миро целиком отрицает народное
происхождение гомеровских поэм. С точки зрения языка, по его мнению, здесь мы
находим такую искусственность, к которой не был способен ни народ, ни его певцы.
Дактилический гекзаметр – это слишком акробатический стих, чтобы народные певцы
могли им легко владеть. Скорее он происхождения ритуального, и сама поэзия
гомеровская исходит из религиозных сфер. Археологически-древняя народность Гомера
тоже не выдерживает критики. Иначе пришлось бы всякий исторический роман
признавать написанным в те времена, которые в нем изображаются (стр. 336-346). Едва ли
подобная теория заслуживает критики с нашей стороны. Дактилический гекзаметр
нисколько не сложнее других стихотворных размеров у других народов, а относительно
религии сам же Миро доказывает, что у Гомера ее осталось очень мало. Миро также
отвергает и исторический факт существования Троянской войны, признанный всеми
историками и археологами (I, стр. 357-376). Мы не будем здесь опровергать Миро, а
укажем хотя бы на недавнюю работу Дж. Форсдайка «Греция до Гомера» ( J. Forsdyke,
Greece before Homer. Ancient chronology and mythology. Lond., 1956), где на основании
археологических, хронографических и исторических источников подробно освещается
вопрос о хронологии троянской войны и достаточно убедительно устанавливается ее
отнесение к самому рубежу XIII–XII вв. (ср. перечень исторических источников о
Троянской войне у Форсдайка, стр. 62). В соответствии с такой хронологией Троянской
войны Форсдайк принципиально совершенно правильно (а фактически этот вопрос
требует специального рассмотрения) ориентирует главные фигуры греческой героической
мифологии в связи с Троянской войной и пытается находить также и здесь исторические
корни (стр. 87-110). Отметим, что еще в 1930 г. Дж. Майрс (в своей книге «Кто были
греки», стоя на неоевгемеристических3) позициях (вообще говоря, неправильных), дал
целый ряд весьма интересных и заслуживающих всякого внимания хронологических
реконструкций в области греческой мифологии, которые, если не говорят с полной
очевидностью о [64] буквальной их реальности, то, во всяком случае, о ясной
исторической последовательности героев в сознании позднейших греков ( J. Myres, Who
were the Greeks. Berkeley. California, 1930, стр. 291-366).
Таким образом, в самой же буржуазной науке имеется достаточно опровержений того
мнения, что поэмы Гомера ненародны, что никакой Троянской войны не было, что все
гомеровские герои начисто выдуманы и что вся греческая героическая мифология есть
сплошной хронологический сумбур и беспредметная выдумка досужего поэта-
индивидуалиста.
Заметим, что сообщаемые нами здесь сведения исторического характера могут
считаться только предварительными. В окончательном виде вся эта историческая и
идеологическая сторона Гомера может выступить в конкретном виде только в связи с
изучением художественного стиля Гомера.
10. Время и место жизни Гомера. Только теперь, после уяснения всех реальных
отличий имманентного автора «Илиады» и «Одиссеи», можно поставить вопрос о месте и
времени жизни этого автора. На основании критического рассмотрения всей истории
гомеровского вопроса в настоящее время необходимо утверждать, что время жизни
Гомера очень позднее. Однако этот вывод о позднем времени надо понимать не буквально
и не абсолютно, но критически.
1) Как мы видели, поэмы Гомера, отражая в основном общинно-родовой быт многих
столетий, овеяны также еще критическим и эстетическим духом зрелой Ионии и даже
заходят в область аттической культуры. А т. к. этот дух оставил свои заметные следы
только в VII и VI вв. до н. э., то необходимо утверждать, что Гомер жил на рубеже VII и VI
вв.
2) Однако поскольку мы имеем право говорить только об имманентном авторе
гомеровских поэм, то никакая абсолютизация указанной даты не может считаться научно
обоснованной. Поэты очень часто являются пророками и предтечами, опережающими
своих современников не только на десятилетия, но и на столетия.
В абсолютном смысле Гомер мог жить и в VI, VII, и даже в VIII в. до нашей эры.
Отнесение Гомера в еще более глубокую старину едва ли возможно, т. к. отражаемая им
микенская эпоха, хотя и относится к середине II тысячелетия, но она дана у него, как мы
видели, в переплетении с культурными результатами передвижения племен и завоевания
Малой Азии, происходившими в XIII–XII столетиях до н. э., а еще должно было пройти 2-
3 века, чтобы все эти многовековые события отстоялись в памяти греческого народа и
нашли для своего выражения традиционные и стандартные формы.
3) Весьма возможно, что приведенные выше такие факты, как комиссии Писистрата
и реформы гомеровских рецитации при Солоне, и являются внешним и общественным
оформлением [65] того, что незадолго до этого создавал Гомер как единоличный автор,
хотя никаких абсолютных хронологических утверждений мы здесь не имеем права делать.
4) Не могут быть абсолютными также и наши суждения о месте жительства Гомера
уже по одному тому, что конструируемый нами на основании самих же поэм их
имманентный автор мог существовать и в виде множества авторов (правда, при условии их
полного художественного и идеологического единства). Весьма возможно, что некий
выдающийся рапсод, сочинивший ряд песен, вошедших в гомеровские поэмы, а может
быть, и все их целиком, по имени Гомер, жил где-нибудь в Ионии, на островах или в
Малой Азии. Некоторым свидетельством для этого, помимо твердых аттических традиций
об ионийстве Гомера, могли бы быть слова (Ил., II.234) о локрах «по ту сторону
священной Эвбеи», потому что здесь как будто бы автор мыслит себя живущим на восток
от Эвбеи, т. е. именно на островах или на малоазиатском побережье. Абсолютного
значения, однако, эти слова не могут иметь потому, что весьма опасно вообще переносить
на самого поэта то, что он говорит в своих произведениях. Ввиду указанных выше
аттических элементов у Гомера не исключена возможность, что он жил и работал в сфере
аттических влияний и даже был афинянином. Но абсолютных данных для этого, конечно,
нет.
5) Весьма соблазнительными являются доводы Скотта о Смирце как о родине Гомера
( J. A. Scott, The Unity of Homer, Berkley, гл. 1, 1921), хотя его критика аттического Гомера,
как мы видели выше, во многом требует больших исправлений. Кроме приведенного выше
текста из «Илиады» о локрах «по ту сторону Эвбеи», т. е. о том, что поэт мыслит себя
находящимся на восток от Балкан, Скотт приводит еще некоторые интересные
соображения. В «Илиаде» (II.145-148) поэт сравнивает ахейское собрание с Икарийским
морем, которое волнуется от Эвра и Нота, и с нивой, волнуемой Зефиром; а в стихе 395 сл.
тоже говорится об ударах волн, волнуемых Нотом. В песни IV.422-426 Зефир тоже гонит с
громом волны, которые точно обрушиваются на утесы. В стихах 275-277 опять Зефир
гонит тучу с моря на берег. Все эти юго-западные ветры именно в области Смирны и
вообще на малоазиатском побережье являются вихревыми и губительными, в то время как
в Греции и Риме Зефир вообще считается наиболее легким и нежным ветерком. Далее,
восход солнца (VII.422), осенней звезды (V.5) и Зари (XIX.1) изображается в «Илиаде»
так, как будто бы поэт наблюдал это на островах Эгейского моря. Гомер обнаруживает
слишком близкое знакомство с долиной Каистра, сравнивая передвижение аргоссцев с
полетом диких птиц около реки Каистра (II.459-465), а Каистр находится в нескольких
километрах от Смирны. Материковые греки придавали большое значение рыбной пище, а
в «Одиссее» (XII.332) говорится, что греки ловили [66] рыбу из-за крайнего голода. По
свидетельствам путешественников как раз в Смирне рыба плоха и редка и едят ее только
бедняки. Самого Гомера в древности называли Мелесигеном, т. с. рожденным на реке
Мелете. Но Мелет опять протекает около Смирны. Подобного рода аргументы производят
известное впечатление. Но им, конечно, далеко до абсолютной значимости, поскольку
каждому из них можно противопоставить и разные другие соображения. Поэтому мы
настаивали бы не на Смирне, не на Хиосе, не на других местностях Эгейского бассейна, а
только указали бы на связь Гомера с Ионией вообще, отказываясь от возможной здесь и
всегда условной детализации.4)
11. Современное положение вопроса о комиссии Писистрата и гомеровской