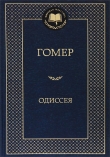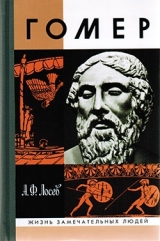
Текст книги "Гомер"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 32 страниц)
этого можно возразить. Процесс потускнения первоначального эпического языка,
нарастание в нем стандартов и стереотипного формализма, действительно, не могли не
иметь места в связи с зарождением новых эстетических потребностей и в связи с уходом
героического эпоса в отдаленное прошлое. Тем не менее это же самое нарастание новых
эстетических потребностей также и обновляло, оживляло другие стороны эпоса, старалось
сделать их понятными для нового более тонкого художественного сознания и наделяло
старый эпос теми живыми и психологически утонченными красками, которых он, конечно,
не знал в ту глубокую старину, когда он оперировал только с очень обобщенными и
малодифференцированными художественными образами. Сам Кауэр должен признать
диалектику развития эпоса в этих двух направлениях, а именно он не без основания
утверждает, что чем больше тускнел древний эпический язык, тем более нарастало живое
использование его для более новой психологии, несравненно более яркой и
характеристичной, чем древний эпос. [262]
Гомер страшно подвижен, небывало красочен, ужасно разнообразен, крайне
живописен и скульптурен. В нем нет ничего мертвого или неподвижного, но, конечно,
чтобы вникнуть во всю эту жизненную подвижность гомеровских изображений, надо его
читать внимательно и вдумчиво.
9. Быт. Также и в этой области мы не можем ставить целей изображения предмета в
его полном непосредственном содержании, не говоря уже о развитии этого содержания
систематически. Кроме того, героический быт, как и гомеровские характеры, чаще всего
излагается в лекциях по Гомеру. Это освобождает от большой детализации в этом вопросе.
Нас будет интересовать исключительно художественное миропонимание Гомера и то,
как оно отразилось на картинах бытовой жизни. С этой точки зрения не важно, брать ли,
например картины мирного быта или войны. Различные в своем непосредственном
содержании, они выражают вполне одинаковое художественное миропонимание.
a) Военный быт. Как это и следует из социальных предпосылок эпохи Гомера,
героический и патриотический пафос войны у него на первом месте. Когда Эрида кличет
воинов на сражение, то (Ил., XI, 11-15):
И каждому в грудь заложила ахейцу
Силу упорно, не зная усталости, биться с врагами.
В это мгновение всем им война показалася слаще,
Чем возвращение в полых судах в дорогую отчизну.
Боги то и дело внушают воинственный дух людям, и от этого последние получают
беззаветную преданность народной войне за отечество и любовь к исполнению своих
воинских обязанностей. Гомер безусловно отрицательно относится к войне ради войны.
Зевс прямо ругает Ареса за то, что ему приятны только «распри, кровавые войны и битвы»
(Ил., V, 891), хотя и сам Зевс только и знает, что натравливает одних людей на других.
В «Илиаде» даны самые разнообразные картины войны. Вот мы видим войско,
которое только еще идет на бой, и завязывается первая схватка; тут – густая пыль, целый
лес копий, сияние меди и настоящая гроза в воздухе (XIII, 333-344). Вот и самый бой,
который свирепствует как бурное развевающееся пламя в безводном месте, в темном
горном ущелье (XX, 490-503 или XVI, 633-644). Вот красота и сила гибнут на войне от
мучительных ран. И сколько изображено у Гомера этих ранений! Вероятно, не менее
полсотни.
Для характеристики военного быта остановимся хотя бы на поединках, дающих
особенно интересный материал с точки зрения эпически понимаемой художественной
действительности.
Очень интересен поединок Париса и Менелая, изображенный в III песни «Илиады».
Здесь среди подготовки к бою вдруг встречаются Парис и Менелай. Бой уже начинается.
Но Агамемнон [263] заметил, что Гектор что-то хочет сказать, и с умилительной простотой
командует своим солдатам прекратить бой, потому что-де Гектор что-то хочет сказать. И
когда все замолчали, то Гектор предложил вместо войны сразиться Менелаю и Парису
вдвоем на поединке, поскольку вопрос об Елене касается главным образом их двоих. То и
другое воинство складывает оружие на землю, успокаивается и начинается совершенно
мирный и дружеский разговор о клятве по поводу прекращения войны после того, как
победитель в этом состязании получит себе Елену в законные жены (1-120).
С подлинно эпической подробностью и медлительностью изображается далее, как
едут в Трою за самим Приамом, чтобы тот присутствовал при клятве, как тот приезжает на
поле сражения, как моет руки Агамемнон перед жертвоприношением, как он срезает
шерсть с головы жертвенных ягнят и раздает ее лучшим мужам, как после возношения
молитвы он перерезывает, горло ягнятам и раздает всем вино для возлияния в честь богов,
и как, наконец, Приам со своей свитой забирает зарезанных ягнят и торжественно
отбывает в Трою (245-313).
После этого Гектор и Одиссей тоже весьма неспешно отмеряют место для поединка,
бросают жребий в шлем и трясут этим шлемом, чтобы противники узнали, кому первому
следует выступать. А воины в это время с обеих сторон молились Зевсу, воздевая руки, о
победе того или другого противника и о водворении после этого мирной жизни. Первому
нападать вышло Парису. После этого Парис начинает облекаться в военные доспехи,
причем доспехи эти тут же весьма подробно описываются – поножи с серебряной
пряжкой, панцирь его брата Ликаона, среброгвоздый меч с медным клинком, щит, шлем с
конской гривой и копье. Снаряжается также и Менелай, хотя подробностей этого
снаряжения не указывается (314-339).
Вот они выходят и становятся посредине, между ахейцами и троянцами. Они вдруг
начинают яриться и потрясать копьями, глаза, их злобно сверкают, а присутствующих
охватывает ужас. Парис мечет копье в Менелая, но попадает в щит, так что наконечник
копья сгибается и щита не пробивает. После этого Менелай бросает копье в щит Париса,
которое пробивает щит и панцирь и даже рассекает его хитон. Однако Парис вовремя
увертывается и остается целым. После этого Менелай разит мечом по шлему Париса, но и
здесь он ничего не достигает, потому что меч этот разбивается у него вдребезги. Тут
Менелай начинает бранить Зевса за отсутствие от него помощи и хватает Париса за шлем,
чтобы утащить его на ахейскую сторону, затягивая у него на шее ремень. Однако, откуда
ни возьмись, является постоянная покровительница Париса Афродита, которая
развязывает упомянутый ремень, так что в руках Менелая остается пустой шлем, и он со
злостью бросает его к ахейцам, а те [264] поднимают его с земли. Менелай бросается
вновь на Париса, желая поразить его своим медным копьем.
Но тут случается чудо. Афродита напускает целое облако на место поединка, и под
прикрытием этого облака она очень легко уносит Париса в Трою (340-381). А Менелай
начинает бесплодно рыскать по полю, как разъяренный зверь, в поисках побежденного им
Париса. И когда ничего из этого не выходит, то Агамемнон объявляет Менелая
победителем, и ахейцы соглашаются требовать у троянцев выдачи Елены и выкупа за
похищенное некогда Парисом богатство Менелая (449-461).
Вот наилучший образец тех картин военного быта, которые мы находим у Гомера.
Все принципы эпического стиля воплощены здесь с наибольшей силой: и зависимость
человека от богов, т. е. примат общего над индивидуальным, и отсутствие изображения
душевных переживаний, и замена этих последних пластикой вещей, и подробнейшая
обстоятельность, рассказа, и монументальность поединка героев. Здесь дана и столь
частая у Гомера юмористика: победитель Менелай остается ни с чем, а побежденный
Парис переносится богиней в Трою, да и притом не только в Трою, но прямо в спальню к
Елене (что специально и весьма выразительно подчеркивается в стихах 382-448). К этому
надо прибавить и откровенное религиозное свободомыслие, которое проявляет Менелай
по адресу Зевса и которое возможно было только в период разложения общинно-родовых
отношений, накануне светской цивилизации.
Нет надобности говорить о других поединках, которые находим в «Илиаде». В
поединках Диомеда и Главка (VI, 119-236) или Аякса и Гектора (VII, 54-312) тоже много
торжественности, много наивности и много юмористики, потому что начинаются они из-
за больших целей, но кончаются опять-таки ничем. Точно так же и анализ больших боев у
Гомера свидетельствует об его неизменном эпическом стиле и эпическом мировоззрении.
б) Мирный быт. Быт этот знают обыкновенно больше всего другого из Гомера. Но
все же следует подчеркнуть, что и здесь эпический стиль Гомера вполне налицо и дает
себя чувствовать буквально в каждой строке. Несомненно, Гомер и здесь эпически
любуется насвою художественную действительность – в таких, например, сценах, как
встреча Ахилла и Приама (Ил., XXIV, 469-694), в знаменитом прощании Гектора с
Андромахой (VI, 390-502), в отношениях Одиссея с свинопасом Евмеем и ключницей
Евриклеей (Од., XIX, 467-475). Вспомним отношение его к старой собаке (XVII, 290-305),
стремление Одиссея на родину, например, у Калипсо (VII, 255-260).
С большим вниманием всегда отмечает Гомер и супружеские и вообще любовные
отношения – Зевса и Геры (Ил., XIV, 153-353), Афродиты и Ареса (Од., VIII, 266-369),
Париса и Елены (Ил., III, 428-448), Одиссея и Пенелопы (например, сцена в кладовой, Од.,
XXI, 42-58). [265]
Гомер очень любит подчеркивать супружеские отношения после примирения – Зевс
(Ил., I, 611) «почил, и при нем златотронная Гера». Когда Афродита перенесла Париса,
после его неудачного поединка с Менелаем, в спальню Елены (III, 448), «рядом друг с
другом они улеглись на кровати сверленой». Алкиной (Од., VII, 347) с наступлением ночи
«в покоях высокого дома улегся, где с госпожою супругой делил и постель он»; Одиссей и
Пенелопа, после долгой разлуки (XXIII, 296), «с радостью воспользовались своей старой
кроватью»; о Кирке Одиссей говорит (X, 347): «Я немедля взошел на прекрасное ложе
Цирцеи» (да, впрочем, это было придумано самим Гермесом, X, 297); даже Ахиллу среди
его боев и скорбей по умершем Патрокле не мешает его (Ил., XXIV, 676)
«румяноланитная» Брисеида. У нимфы Калипсо Одиссей прожил, хотя и против своей
воли, целых семь лет в ее глубокой и таинственной пещере; и даже когда он собирается
домой к верной супруге, о которой он плакал, он еще раз проводит ночь с своей
обворожительной хозяйкой-нимфой (Од., V, 225-227):
А солнце зашло, и сумрак спустился.
Оба в пещеру вошли, в уголок удалились укромный
И насладились любовью, всю ночь провели неразлучно.
Во всех этих сценах нет какого-либо более глубокого содержания. Тем не менее эта
физическая и любовная стихия дана тут как-то возвышенно, наивно-серьезно,
невозмутимо, иной раз чуть-чуть юмористически, иной раз игриво. Эпическое здесь
представлено у Гомера как предмет художественного любования. Общаться с женщиной,
думает Гомер, и усладительно и божественно, не только «правильно» /благо/ (agathon)
(Ил., XXIV, 130), но именно божественно. Парис, у которого «нежная шея» (III, 371),
«пышные волосы» (55) и «образ красивый» (44), так поучает слишком строгого Гектора
(64-66):
...не порочь мне прелестных даров золотой Афродиты;
Нет меж божественных славных даров не достойных почтенья.
Гомер и самые интимные человеческие отношения умудряется представить
красивыми, нисколько не углубляясь в их внутреннее содержание. Почивание Зевса и Геры
на Иде (Ил., XIV) – верх такой красоты, возведения элементарной жизненной стихии в
перл возвышенной и торжественной красоты. Вокруг ложа Зевса и Геры вырастают
чудные цветы, само оно прикрыто золотым облаком. Брачный союз делает красивее и тех,
кто вступает в этот брак. После встречи с Анхизом у Афродиты «ярко сияли ланиты той
красотою нетленной, какою славна Киферея» (Гимн. IV, 174). Да и сочетание Анхиза и
Афродиты происходит не иначе, как (166) «по божеской мысли и воле». Тут самое важное
то, что любовь у Гомера нисколько не романтическая и даже вообще не психологическая
(наилучший пример – это связь между Одиссеем и Пенелопой, раскрытая со стороны
экономической, хозяйственной, патриотической. – какой угодно, но только не
романтической и даже вообще не психологической). И все-таки этот простой факт любви и
связи дается возвышенно, наивно-мудро, убедительно, т. е., говоря кратко, эпически.
Тут и торжественность и даже какая-то удивительная серьезность, и наивность, и
детская простота. Дается бесконечно [266] подробный рассказ и в то же время эпические
штампы и стандарты. Тут и невероятное глубокомыслие, и резвые восторги раннего
детства, все мудро и все легкомысленно, и божественно, и человечно.
10. Рудименты прежнего общественного развития. В заключение обзора
общественной картины героического века у Гомера следует сказать, что и эта картина и
весь этот век мыслятся им отнюдь не в каком-нибудь изолированном виде; но, несомненно,
все это мыслится в окружении огромного количества различных народов и племен,
социальная характеристика которых часто остается неясной, но зато иной раз обладает
весьма яркими и своеобразными чертами, указывающими на седую старину.
а) Народы (кроме феаков). Если взять одну Азию, то из азиатских племен у Гомера
фигурируют эфиопы, эрембы, солимы, финикийцы, ликийцы, карийцы, фригийцы,
меонийцы, земля амазонок и ализонов, пафлагонцы, мизийцы, лелеги, киликийцы, аримы,
пеласги. В Африке находим опять-таки эфиопов, тех «безупречных эфиопов», которых
боги так часто посещают ради пиршества; карликов-пигмеев, которые сражаются с
прилетающими к ним каждую зиму журавлями (Ил., III, 17); лотофагов, которые питаются
только сладким лотосом, а лотос этот дает забвение всей жизни (Од., IX, 83-105).
В Европе первый народец, с которым столкнулся Одиссей после отплытия из Трои, –
свирепые киконы (IX, 39-61). Более красочно представлены лестригоны, дикий народ
людоедов, «похожих на гигантов»; а жена лестригонского царя даже прямо представляла
собою гору (X, 81-132). Эти лестригоны жили на острове Сикания, который также носил
имя и Тринакрии. Тут же жило и племя каких-то «буйных гигантов» (VII, 58) и, главное,
киклопы. Этим последним, как известно, посвящен значительный эпизод в «Одиссее» (IX,
106-566). Это дикое племя людоедов, живущих скотоводством и не знающих земледелия,
поскольку сама земля родит все необходимые для их жизни растения. Киклопы – гордые и
злые, не знают никаких законов, самовластно распоряжаются своими женами и детьми и
вообще не знают никакого права и суда. Гомер явно дает здесь карикатуру на старинное
дикое общество и явно иронизирует над ним с точки зрения человека цивилизации.
На острове Эолии царь Эол, «милый бессмертным богам», имеет
кровнородственную семью, потому что его сыновья женаты на всех его дочерях, так что
самый дикий матриархат объединяется здесь с очень зрелым патриархатом (Од., X, 1-75).
Упомянем еще таинственный народ – каких-то киммерийцев, живущих по ту сторону
Океана и погруженных в вечную тьму, куда не проникает ни один луч солнца (Од., XI, 13-
19). Что это за народ, у Гомера ничего не сказано. Но ясно, что это нечто сказочное, весьма
далекое от того, что мы обычно именуем гомеровским героическим обществом. [267]
Таким образом, блестящее героическое общество, утонченно и углубленно
изображаемое у Гомера, в эпическом стиле зрелой общинно-родовой героики, окружено у
него огромным количеством разных других обществ, несущих в себе рудименты прежнего
социально-исторического развития, вплоть до кровнородственной семьи. Единственный
народ, который мыслится у Гомера, по-видимому, даже выше общего уровня героического
общества и в значительной мере является как бы некоего рода идеалом, это – феаки,
населяющие остров Схерию.
б) Феаки. Прежде всего любопытно то, что в изображении феаков содержатся
действительно древние рудименты человеческого общества, а именно матриархата.
Фактическим правителем: феаков является не царь Алкиной, но его жена Арета, которая
является к тому же его родной племянницей и которую народ почитает «как бога» (Од.,
VII, 63-77). С просьбой о приюте Одиссей обращается не к Алкиною, а к Арете (141-152),
и об этом предупреждает Одиссея сама Навсикая (VI, 310-315) и даже Афина (VII, 53-55).
Будучи умной и ласковой, она разрешает споры даже и мужей (73 сл.). Ей передают все
подарки, собранные для Одиссея (VIII, 419 сл.). Она считает Одиссея лично своим гостем
(XI, 338). Ей ни в чем нельзя возражать, и в сравнении с ней Алкиной является
исполнительной властью (344-350). Во время прощания с феаками Одиссей подает кубок с
вином не Алкиною, но опять-таки Арете и желает ей быть счастливой своим народом,
детьми и, что наиболее странно, царем Алкиноем (XIII, 56-62). Заметим, что и самое имя
Ареты указывает на «мужество» и «доблесть». Формально управителем страны является,
конечно, царь Алкиной, и его тоже почитают «как бога» (VII, 10 сл.), однако и в
формальном отношении власть Алкиноя чрезвычайно ограничена, т. к. при нем состоит
целый большой совет старейшин (186-189), которые даже распоряжаются и им самим
(155-169). Эти старейшины все время называются «вождями» и «советниками» (VIII, 11,
26, 387) и даже «царями-скиптроносцами» (41). В одном месте (390 сл.) Алкиной прямо
говорит, что его остров управляется двенадцатью царями, а он сам – тринадцатый.
Наконец, на большую древность образа феаков указывает и то, что они находятся в
прямом и непосредственном общении с богами и что боги являются к ним в своем
собственном виде. Это рудимент тех времен, которые еще совершенно не были затронуты
никакой рефлексией и когда самые обыкновенные факты человеческой жизни
трактовались буквально как божественные. Вот эти интересные слова Алкиноя о богах
(VII, 201-206):
... они нам обычно являются в собственном виде
Каждый раз, как мы славные им гекатомбы приносим,
Там же пируют, где мы, и с нами совместно садятся.
Даже когда и отдельно идущий им встретится путник,
Вида они своего не скрывают пред ним, ибо очень
Близки мы им, как киклопы, как дикое племя гигантов. [268]
Вместе с тем, однако в том сложном социально-историческом комплексе, который
представляют собою феаки, содержатся весьма интенсивные черты и более позднего
развития. То, что они оказываются отличными мореплавателями, это черта, хотя и более
поздняя, но она сама по себе еще ничего не говорит о разложении общинно-родового
строя. Однако, двигая свои корабли при помощи весел, они все же дают направление им
исключительно только своими мыслями; они мысленно приказывают своим кораблям
двигаться в том или ином направлении, и те двигаются. Кроме того, на очень большую
изнеженность, избалованность и постоянное роскошество указывает сам Алкиной (VIII,
248 сл.):
Любим всем сердцем пиры, хороводные пляски, кифару,
Ванны горячие, смену одежды и мягкое ложе.
На более поздний характер образа феаков указывает и намек, на нечто вроде податей с
населения в пользу царя (XIII, 13-15). Когда Алкиной собирается щедро наградить
Одиссея, он предполагает сделать это при помощи сбора даров с народа. Сюда же
относится и намек Ареты на вороватость феаков, когда она советует Одиссею на корабле
покрепче завязать сундук с дарами, что он и не преминул тотчас же сделать (VIII, 442-
448). Воров не может быть в родовой общине, в которой все свои.
В заключение приведем рассказ Гомера о превращении Посейдоном в скалу того
корабля, на котором феаки отвозили Одиссея на его родной остров (XIII, 125-187). Тут
тоже прекрасный образец эпического стиля Гомера и притом позднего эпического стиля,
когда неимоверная торжественность объединяется с поразительной детской наивностью и
когда старая строгая религия превращается почти в шутейный рассказ, в какой-то своего
рода эпический бурлеск, в котором не поймешь, что всерьез, а что в шутку. Передадим
этот рассказ своими словами, чтобы лучше сохранить этот поздний эпический стиль.
Итак, феаки отвезли на своем корабле Одиссея домой. Но Одиссея ненавидит
Посейдон за ослепление им его сына киклопа Полифема. Он уже не раз досаждал
Одиссею и теперь он обращается к нему с такими приблизительно словами: «Что же это, в
самом деле, получается? Я бог или не бог? Какие-то там смертные людишки, да еще от
меня происходящие, вдруг затевают какую-то фронду, не признают меня совсем и везут
Одиссея на Итаку. Да я вовсе не против возвращения Одиссея на Итаку. Я только хотел его
малость помучить. А они вдруг взяли да и перевезли. Зевс, ведь это безобразие, как по-
твоему? Скоро и совсем меня почитать не будут, если дело пойдет так дальше». На это
«собиратель туч» Зевс сказал так: «Что ты, помилуй, Посейдонушка дорогой? Да ведь тебя
и так все почитают. [269] Что ты испугался каких-то людишек? Ведь если ты захочешь, ты
и сам сдачи дашь сколько угодно. Такой важный и старый бог и вдруг кипятишься! Делай,
как хочешь, и все будет хорошо». Посейдон, «сотрясающий землю», сказал на это так:
«Куда там! Ведь кабы не ты, я давно тут порядки навел. Я вот, например, взял бы да и
разбил бы этот противный феакийский корабль в щепы, а город феаков окружил бы
непроходимой стеной, чтобы неповадно было феакам развозить своих гостей по домам и
не почитать меня. Ведь я бог или не бог? И Зевс, наконец, промолвил: «Давай вот на чем
согласимся: разбивать корабль в щепы не стоит, а чтобы оно было виднее, ты лучше
возьми да преврати-ка его в скалу. Вот тогда-то все и узнают, что ты не кто-нибудь, а
действительно Посейдон. А горой окружать их город, пожалуй, и не стоит. Ну их!»
После этого Посейдон действительно превратил корабль феаков в скалу, окружил ли
он город феаков горой – у Гомера ничего не сказано. Наверное, все-таки окружил, если
верить позднейшим источником, например Аполлодору.
Этот разговор Зевса и Посейдона передан здесь в том стиле, в каком он
действительно дан у Гомера и который игнорируется нашими слишком академическими
переводами. Все это изображение феаков у Гомера является интереснейшим социально-
историческим комплексом, в котором героический век периода расцвета дан и вместе с
рудиментами седой старины и вместе с мотивами позднейшей изнеженности и
цивилизации.
II. Боги и судьба.
О гомеровских богах написано очень многое. Только, к сожалению, очень редко
писавшие на эту тему осознавали до конца всю оригинальность и всю
внехристианственность этих богов. Мало констатировать то, что гомеровские боги
обладают всеми человеческими недостатками, ссорятся, бранятся, даже дерутся,
злопамятны, мстительны и пр.; многие стараются видеть в этом какую-то аллегорию,
басню или мораль. Необходимо не только по содержанию противопоставить греческий
Олимп средневековому христианству, необходимо уметь видеть и самый стиль этой
художественной религии и при этом такой, конечно, стиль, который тождествен с
мировоззрением Гомера.
1. Религия у Гомера и ее эволюция. Ретроспективно-резюмирующий характер
гомеровского эпоса особенно ярко сказался на демонстрации религиозных представлений.
У Гомера можно найти бесконечно разнообразные оттенки религиозного сознания,
начиная от грубой магии и фетишизма и кончая тонкими и красивыми формами
художественной мифологии. Но, конечно, все древнее и стародавнее изображается у него
на втором и на третьем плане, не играет существенной роли в повествовании, а если и
играет, то уже в виде развлекательного рассказа, далекого от примитивной и буквальной
веры первобытного человека, а иной раз находит для себя даже критику и является
предметом скептических настроений. [270]
Вопрос о наличии у Гомера разнородных религиозных представлений, восходящих к
весьма отдаленным ступеням культурного развития, много раз освещался в науке, причем
даже среди некоторых буржуазных ученых была достигнута известного рода историческая
позиция, хотя и далекая от научных социально-исторических методов, но довольно
эффективная в смысле опознания соответствующих материалов. Почти каждый из
крупных историков греческой религии уже стоит на этой исторической точке зрения. К
нашим концепциям в этой области ближе всего работа ряда шведских ученых, из которых
укажем на Э. Хедена,9) который еще в 1912 г. в своей специальной работе о гомеровских
богах собрал весьма убедительный материал на эту тему у Гомера.
В дальнейшем воспользуемся этим материалом, присоединяя сюда также и
собственные наблюдения и наблюдения других, а главное, нашу социально-историческую
интерпретацию, которая у Э. Хедена целиком отсутствует.
а) Древнейший историко-религиозный слой. Намеки на древнюю магию. Если
начать с остатков у Гомера наиболее древних религиозных представлений, то, во-первых,
их здесь очень мало, а во-вторых, цивилизованный Гомер относится к ним мало
внимательно, если не прямо с пренебрежением.
Одиссей упрекает Агамемнона за пустые слова на ветер, и Агамемнон согласен, что
боги превратят это в пустяки, тщету (metamōnia). Это место (Ил., IV, 355-363) есть отзвук
каких-то давнишних верований в магическое воздействие демонов на человеческие дела.
Евриал (Од., IV, 408 сл.) говорит, что если он сказал дерзкие слова, то пусть боги развеют
это слово по ветру. Аякс (Ил., VII, 193-198) сначала просит ахейцев молиться молча, [271]
чтобы троянны не услышали этой молитвы, а потом разрешает молиться как угодно,
дерзко заявляя, что он никого не боится и что его воле перечить нельзя. Пока Киклоп не
знает настоящего имени Одиссея, он ничего не может сделать с ним особенно плохого; но
когда (Од., IX, 502-505) Одиссей открывает ему свое имя, тот через молитву к Посейдону
обрушивает на его голову все несчастья.
Во всех этих текстах чувствуется едва заметный отзвук первобытных представлений
о магической силе слова и имени, отзвук, едва ли понятный даже самому Гомеру. Точно
так же Гомер едва ли понимает, что такое подражательная магия, когда (Ил., III, 300 сл.) о
возможных нарушителях клятвы говорится, чтобы их мозг так же разлился по земле, как
сейчас вино-во время возлияния.
б) Молитвы и жертвы. Гомеровские поэмы наполнены разного рода молитвами,
жертвами и возлияниями в честь богов; и с первого взгляда это производит впечатление
полной наивности, искренности и отсутствия всякого критицизма в отношении религии.
Тем не менее было бы весьма легкомысленно принимать у Гомера все эти обряды
первобытной религии за чистую монету. Цивилизованный поэт чувствуется на каждом
шагу. Конечно, тут нет никакого атеизма. В «Илиаде» (IX, 497 сл.) выставляется тезис, что
боги всегда умолимы, хотя они и выше нас добродетелью, а в «Одиссее» (III, 47), что все
смертные люди нуждаются в богах. Антилох (Ил. XXIII, 547 сл.) уверен, что если бы
Евмел молился богам, то он не был бы последним в состязании. Тевкр (XXIII, 862)
уступает в стрельбе из лука Мермону только потому, что этот последний пообещал жертву
Аполлону, а Тевкр не пообещал. По мнению Приама (XXIV, 425-428), мертвый Гектор
потому не поддается тлению, что он всегда приносил жертвы богам.
Молитвы смертных иной раз даже меняют планы бессмертных богов. В «Илиаде»
(XV, 870-378) Нестор горячо молится Зевсу о победе ахейцев, и Зевс вопреки
собственному же плану исполняет просьбу Нестора и в знак этого даже гремит громом. В
XVII песни (645-650) Аякс умоляет Зевса не губить ахейцев, а если губить, то при свете
солнца; и Зевс исполняет его просьбу, хотя во всей этой песни Зевс помогает именно
троянцам, а не ахейцам. В XXIV песни (287-321) Гекуба просит Приама помолиться Зевсу
о благополучной поездке к Ахиллу и о послании птицы в знак исполнения просьбы. И это
все приводится в исполнение.
Тем не менее мольбы смертных у Гомера далеко не всегда исполняются богами, так
что Гомер ко всем этим мольбам относится достаточно трезво. В «Илиаде» (III, 297-302)
ахейцы и троянцы просят Зевса об исполнении приносимых ими клятв перед поединком
Менелая и Париса, но тут же говорится, что Зевс не исполнил этой мольбы. В VI песни
(301-311) троянки умоляют Афину даровать победу троянцам и приносят ей в дар [272]
роскошный пеплос; но тут же Гомер весьма выразительно замечает, что богиня отвергла
молитву этих троянок. В XVI песни (233-252) Ахилл просит Зевса отогнать троянцев от
кораблей и остаться невредимым Патроклу, но Зевс первую просьбу выполнил, а вторую
не выполнил. В «Одиссее» (III, 141-147) Агамемнон хочет принести Афине гекатомбы для
ее умилостивления, но он не знал, что ее нельзя будет склонить, и опять характерное
замечание Гомера – «вечные боги не так-то легко изменяют решенья». В XIX песни (363-
369) Евриклея выражает свое недоумение по поводу того, как много жертв Одиссей
приносил Зевсу и насколько жестоко тот отнимает у него день возвращения домой.
Правда, все эти тексты о неисполнении молитв можно понимать и более сложно в
том смысле, что боги-де сами знают, что делают, и не людского ума дело распоряжаться
волей богов. Так, например, хотя Зевс в течение долгого времени и не исполнял мольбы
Одиссея о возвращении, тем не менее в конце концов мольбу эту он услышал. Или в
«Илиаде» (XX, 104-109) Аполлон натравливает Энея на Ахилла, но Гера, например,
против этого, а Посейдон считает нужным придерживаться в этом деле нейтралитета, хотя
(290-300) сам Посейдон во внимание к жертвам Энея предлагает богам спасти его. Таким
образом, здесь еще можно не видеть скептицизма Гомера и приписывать неисполнение
человеческих просьб богами усложненному религиозному чувству Гомера.
в) Знаменья и оракулы.
Скептицизм и критицизм Гомера в религиозной области заметно проявляется и в
отношении знамений и оракулов. В поэмах Гомера отражается иной раз еще и та ранняя
ступень религиозного развития, когда вера в разные знамения еще ничем не поколеблена.
В «Илиаде» (IV, 379-381), когда эпигоны просили помощи у микенцев во время своей
войны с фиванцами, Зевс грозным знаменьем воздержал микенцев от этого. В «Одиссее»
(XVI, 400-405) ставится вопрос об убийстве Телемаха в зависимость от ответа Зевса; а в
XX песни (241-246) пролетевший слева орел с голубкой в когтях свидетельствует женихам
о невозможности этого убийства.
Имеются указания также и на словесные прорицания, т. е. на т. н. мантику или
оракулы. В «Илиаде» (VI, 438 сл.) Андромаха предполагает в разговоре с Гектором, что
ахейцы наступают по чьему-то предсказанию. В «Одиссее» (III, 214 сл.) Нестор тоже
предполагает о прорицании богов для преследования Телемаха женихами; то же самое
Одиссей говорит Телемаху в XVI песни (95 сл.); Евмей говорит Одиссею (XIV, 89 сл.), что
какой-то божественный голос сообщил женихам о гибели Одиссея. Преследователям
Телемаха (XVI, 356 сл.), возможно, боги внушили вернуться обратно. [273]
Однако уже и в некоторых из приведенных текстов мысль поэта двоится: Андромаха
считает не только возможным божественное внушение в наступлении ахейцев, но и их