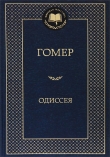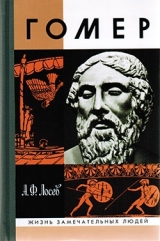
Текст книги "Гомер"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 32 страниц)
выше всей античности. Эту сторону Гомера прекрасно [209] понимал Белинский (Полн.
собр. соч., 1954, V, 37), который писал: «...„Илиада» и „Одиссея», будучи национально-
греческими созданиями, в то же время принадлежат всему человечеству, равна доступны
всем векам и народам, более или менее удобно переводимы на все языки и наречия в
мире».
8. Общая формула свободного эпического стиля Гомера. Все бесчисленные
оттенки свободного эпического стиля, содержащиеся у Гомера, даже и невозможно
формулировать. Современное литературоведение далеко еще не обладает таким тонким и
развитым аппаратом категорий и терминов, чтобы в них можно было уложить все это
бесконечное разнообразие стилистических методов и намеков у Гомера. То, что приведено
выше, несомненно, является только слишком общей картиной свободного эпического
стиля у Гомера.
В настоящее время следует установить основную тенденцию этого свободного
эпического стиля, а что касается деталей, а тем более исчерпывающих деталей, то
изучение стиля Гомера находится пока еще на ступени первоначальных интуиции,
превратить которые в научную систему строгих и точных понятий – дело будущего и
притом весьма неблизкого будущего.
Свободный эпический стиль у Гомера – это такое оформление художественного
творчества, которое рассматривает всю общинно-родовую формацию ретроспективно и
резюмирующе, часто смешивая в одном образе самые разнообразные ее эпохи и давая
изображение этих эпох в добродушном иронически-юмористическом и снисходительном,
но в то же время и в наивно-серьезном и часто даже трагическом плане. Изображаемые
здесь герои, натуры, умеющие сильно любить и сильно ненавидеть, чувствуют себя
свободно и независимо, страстно любя жизнь во всех ее проявлениях и никогда не унывая,
не утомляясь, несмотря на постоянные страдания и катастрофы. Короче говоря, это есть
поведение и самочувствие сильного человека в его бодром и неутомимом жизнеустроении,
когда его глубокий критицизм в отношении детства человечества объединяется с наивной
и нежной к нему любовью, даже с влюбленностью в него.
Такая характеристика свободного эпического стиля у Гомера предполагает
переходную эпоху между двумя общественно-историческими формациями, в течение
которой и развивалось творчество Гомера. Противоречивость в гомеровском стиле как раз
и говорит о переходности эпохи или о движении и становлении эпохи, об ее бурном
развитии, о борьбе ее движущих сил, словом, обо всем том, что мы и считаем жизненным
характером и эпохи и литературы.
Необходимо отметить, что предлагаемая здесь характеристика стиля Гомера,
основанная на борьбе со старым метафизическим формализмом в филологии, не является
чем-то абсолютно новым и неожиданным в науке. Медленно, но все же достаточно
заметно передовая зарубежная филология переходит на [210] новые позиции, пытаясь
создавать более органическую оценку поэм Гомера. Из недавней гомеровской литературы
можно указать хотя бы на В. Шадевальдта, который в своей книге под названием
«Гомеровский мир и произведение Гомера»33) пытается дать именно такую живую и
органическую характеристику Гомера. Но Шадевальдту чужд социально-исторический
подход к предмету и четкие формулировки второстепенных стилей Гомера на фоне его
общего и единого стиля.
Этот автор прекрасно отдает себе отчет в том, что творец гомеровских поэм есть
одно лицо, но что в то же самое время это и не одно лицо, поскольку в Гомере слились в
одно целое вековые достижения народного творчества. Технику Гомера этот автор
понимает не просто как технику, но как его глубокий стиль и такое же мировоззрение.
Развитие действия у Гомера – вовсе, не мертвенное и мало подвижное, как обычно
представляют себе эпическое творчество. Все действия, наступающие у Гомера, можно
характеризовать одним принципом: еще – нет, но – вот-вот. Отсюда глубина гомеровского
повествования, его постоянная напряженность и драматизм, постоянное стремление выйти
за пределы настоящего и острое предчувствие будущего. Вся сила Гомера заключается в
изображении того, как из основы бытия возникают противоречия, как они борются, как их
гибель подтверждает вечность основы, как все это непреложно и не зависит от
человеческой воли, но как в то же самое время человек с этим борется и часто успешно.
Мир для человека вовсе не есть предмет созерцания или переживания, но арена борьбы. И
это божественно. Это трагично, и подобная трагедия есть картина самой жизни без всяких
догматических схем, а так, как она есть. Это монументальная картина мира, его познание
и толкование, и в этом – видение божественных начал. Для этого Гомер сохраняет
старинные образы, но в то же самое время он делает их новыми и современными.
Старинное возвышенное сливается здесь с реальностью современной эпохи.
Подобного рода характеристика Гомера, конечно, не содержит в себе четкого анализа
его стиля и далека от всякого социально-исторического анализа.
Автор такой характеристики глубоко чувствует наличие у Гомера различных эпох, от
седой старины до современности, и все эти эпохи представлены у него как бурление
человеческой жизни на фоне мировой истории.
V. Единство художественного стиля Гомера и связь его с изобразительным
искусством.
1. Принципиальное единство художественного стиля Гомера.
Гомеровские поэмы не представляют механического соединения стилей, имеющих
мало общего между собою.
Выше как раз отмечалось именно художественное единство поэм Гомера. Это
единство надо понимать как исторически, так и теоретически. [211]
а) Историческое единство. Исторически мы нашли у Гомера строгий стиль и свободный
стиль, из которых первый соответствует более раннему развитию эпоса и второй более
позднему. Оба этих стиля представлены у него не в виде каких-то взаимно изолированных
отрывков или кусков его обеих поэм. Уже давно устарел тот подход к Гомеру, когда у него
находили только нечто неподвижное, мертвенное и скучное и когда в этом виде
представляли вообще всякий старинный героический эпос. Но является также
недопустимой модернизацией игнорировать у Гомера все объективное, надличное и
внеличное, все неподвижное и традиционное, все антипсихологическое и общее. У Гомера
так много субъективных тонкостей и развитых эстетических категорий, так много
субъективных оценок, драматических приемов и лирических излияний, что весьма легко
впасть в иллюзию полной неэпичности Гомера и растворить его в позднейшем
литературном развитии. На самом деле Гомер – это подлинный и настоящий эпос. Правда,
эпос этот поздний и полон субъективных оценок и настроений. Но в глубине этого
субъективизма отчетливо видятся контуры старого и строгого эпического стиля с его
надличным объективизмом и традиционной монументальностью. Вот почему с этих
старых черт строгого эпоса у Гомера и надо начинать изложение принципов гомеровского
стиля. Стоит только хотя бы немного забыть о строгом или о более позднем свободном
стиле у Гомера, как мы уже теряем всякую почву под ногами, и вся замечательная
неповторимость гомеровской поэзии целиком ускользает от нашего внимания и
понимания.
Изобразить это историческое единство художественного стиля Гомера – дело весьма
трудное; и тут весьма легко сбиться с пути и не дать желаемого синтеза. Тем не менее
историческое единство художественного стиля Гомера – факт совершенно
непреложный, как бы ни было трудно его логически описать и объяснить.
б) Систематическое единство. Очень важно также не упускать из виду и
систематического единства художественного стиля Гомера. Для научного овладения
стилем Гомера здесь требуется большая работа мысли, и надо признаться, что ясное и
отчетливое овладение этим предметом требует от читателя Гомера большого времени и
больших усилий. Не будем здесь вдаваться в диалектику художественного стиля Гомера во
всей ее широте и глубине. Для этого потребовалось бы слишком много времени и места.
Однако одно очень важное диалектическое противоречие в поэтике Гомера необходимо
здесь затронуть в качестве примера для диалектики и многих других его художественных
противоречий.
Творчество Гомера трагично. Но оно полно также и юмора, иронии и даже сатиры.
Тем не менее здесь один, и единственный [213] художественный стиль. И в чем же состоит
принцип единства этого стиля?
Ирония и трагизм имеют между собой то общее, что они являются результатом
противоречия между идейным смыслом образа и фактическим содержанием этого
последнего. Трагический герой хотел сделать одно, а получилось у него другое и притом
противоположное. Пользуясь иронией, мы тоже мыслим одно, а говорим другое и притом
опять-таки противоположное. Тем не менее между этими обеими эстетическими
категориями существует и огромное различие: в трагедии взаимно-отрицающие начала
гибнут и гибнут всерьез, субстанциально; в иронии же они отрицают друг друга только
теоретически, только мысленно, идейно или словесно. И чем дальше друг от друга
взаимно-отрицающие начала, тем трагическое дальше от простой иронии; и чем они друг
другу ближе, тем ближе одно к другому и трагическое с ироническим. Тут залегает
огромное различие между средневековым христианством и античным язычеством. В
христианстве духовное начало бесконечно далеко от телесного, в то время как в язычестве
боги и демоны являются только обожествлением природных и общественных сил.
Поэтому в средневековом христианстве гибель отдельного индивидуума мыслится в
окончательном и невозвратном виде, так что погибшего ожидают только вечные адские
муки, и здесь не до юмора и не до иронии. В античном язычестве духовное начало вовсе
не так далеко от телесного; оно есть только известное обобщение этого последнего.
Поэтому гибель телесной личности и вообще всего телесного здесь вовсе не так уж
трагична. Погибшее может вернуться, и душа может сколько угодно раз воплощаться в
земной жизни. Когда здесь наступает гибель телесная, то, собственно говоря, ничего
особенного здесь не происходит. Гибель телесного здесь как бы вовсе не есть гибель,
потому что оно еще может вернуться и даже еще в лучшем виде. Наоборот, общие начала
тут как раз и утверждают себя путем самораздробления в инобытии, чтобы потом опять
восстановиться и притом в более совершенном виде. В такой трагедии есть нечто
нормальное и безболезненное, нечто как бы вполне естественное.
Вот почему всякая гибель здесь в основе своей есть нечто наивное и даже смешное.
И вот почему люди здесь гибнут, а боги хохочут. Вот возникла гроза, которая принесла
огромный вред посевам и, может быть, убила много людей, что, несомненно, трагично.
Однако о такой грозе читаем у поэта:
Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий клубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.
Если мы теперь спросим, трагична ли эта гроза или [214] юмористична, то древний
человек просто нас не понял бы. Это – и то и другое вместе. Для Гомера – это вообще
норма. Но это является нормой также и для трагиков, которых в этом смысле напрасно
противопоставляют Гомеру. Как Гомеру приписывались многочисленные юмористические
поэмы, и это имело свой великий исторический и эстетический смысл, точно так же и
каждый греческий трагик, кроме трагедии, писал еще и т. н. сатировские драмы, которые,
с точки зрения европейского вкуса, представляют собой сплошную нелепость: как-де это
так – после потрясающей трагической трилогии Эсхила тут же непосредственно
исполнялась в театре сатировская драма, комичная, юмористичная и ироничная, и притом
на те же темы, что и трилогия? Трагедия, юмор, ирония и сатира в последней своей
глубине являли здесь собою один и тот же, единый и нераздельный эстетический феномен.
Для античного сознания понимать смерть трагически, наивно, юмористически,
иронически и сатирически есть одно и то же.
Само собою разумеется, что это существенное единство эстетических категорий в
античной мифологии и в античной литературе было в разные времена разным, и в разные
времена оно имело разный художественный и социальный смысл. Поэтому и у Гомера оно
было не то, чем оно было в первобытном искусстве; у трагиков – не тем, чем оно было у
Гомера; и у комиков – не тем, чем у трагиков. Все же в основном оно характерно для всей
языческой мифологии, хотя оно и имело свою историю. В глубине тысячелетий оно было
реальной верой народных масс. На ступени Гомера оно уже настолько приняло
эмансипированный вид, что свидетельствовало о начале научного и мыслительного
подхода к действительности и свидетельствовало о шатании всей мифологии. На ступени
Аристофана оно было свидетельством гибели старинной мифологии, а у Лукиана это уже
не гибель, а просто издевательство или литературный прием.
Таким образом, единство художественного стиля Гомера ощущается как
исторически, так и логически, или диалектически. Множество разных побочных стилей
только лишает художественное единство гомеровских поэм мертвенности и
неподвижности и демонстрирует эстетическое бурление в нем многочисленных неизменно
живых и остро борющихся тенденций.
2. Аналогия с изобразительным искусством. Лучшим доказательством
необходимости рассматривать стиль Гомера с точки зрения социально-исторических
напластований является та картина, которую дает нам греческое изобразительное
искусство. Это искусство имело длинную историю своего стиля, и стили эти вполне
сопоставимы с Гомером. Гомер уже давно освещается в науке с точки зрения памятников
изобразительного искусства тех веков, когда складывался гомеровский эпос. Еще в 1884 г.
В. Гельбиг в своей работе «Гомеровский эпос, [215]
объясненный с помощью памятников искусства»,34) удачно сопоставил наиденные
Шлиманом изображения с тем, что дает нам Гомер. В 1933 г. появилась большая книга М.
П. Нильсона «Гомер и Микены»,35) а в 1950 г. работа Лоример «Гомер и памятники»,36) где
[216] мы находим уже огромное количество такого рода сопоставлений. Отметим самую
последнюю работу из этой области, ставящую перед собою не просто проблему
сравнения, но проблему сравнения в отношении стиля. Это работа К. Шефольда
«Археологические данные к стилю Гомера».37)
Шефольд исходит из тех исследований Гомера, которые намечали в нем
напластования многочисленных предыдущих эпох, ближайшим же образом из работ
Шадевальдта и Мюлля.38)
С этой точки зрения уже оказывается невозможным относить Гомера к VIII–VII вв.
до н. э. Если исходить из того, что Гомер вообще соответствует геометрическому стилю в
изобразительном искусстве, то ранний геометрический стиль, несомненно, предшествует
Гомеру, потому что этот стиль исключает изображение тех или других цельных сказаний, а
ограничивается только изображением разных предметов, имеющих самостоятельное
значение вроде колесниц, состязаний, культовых плачей и хороводов, процессий и пр.
Чтобы устанавливать параллелизм между Гомером и геометрическим стилем, нужно
говорить только о позднем геометрическом стиле, где действительно появляется
небольшое число индивидуализированных фигур, занятых тем или другим, но всегда
определенным действием. Это в изобразительном искусстве VII в. до н. э. Но и это не
подходит для Гомера.
Если вообще сопоставить Гомера с изобразительным искусством, то нужно уже
выходить за пределы геометрического стиля и пользоваться уже стилем архаики, т. е.
вращаться в области искусства VI в. Здесь, в десятилетия, окружающие знаменательную
дату 566 г., когда были установлены Панафинейские празднества, мы действительно
имеем четко индивидуализированные фигуры, примером чего являются 260 изображений
на знаменитой вазе Клития во Флоренции. Эта ваза, иллюстрирующая циклические
поэмы, свидетельствует о том, что поэмы Гомера никак нельзя отрывать от эпического
цикла и что окончательное оформление «Илиады» и «Одиссеи» относится ко времени
Солона и Писистрата, т. е. к VI в. до н. э.
Сначала в Коринфе, а с 590 г. и в Аттике мы находим проникновение эпических
сюжетов в вазопись с их вполне четким индивидуальным оформлением. Шефольд и
использованные им исследователи Гомера исходят из того, что именно здесь, именно в VI
в. прежние общенародные сказания стали изображаться с точки зрения того или другого
самостоятельного индивидуума. [217] «Илиада» изображает гнев Ахилла, т. е. всего только
один из мелких эпизодов десятого года Троянской войны. Тем не менее изображение этого
гнева дается так, как будто бы война только началась или находится в самом разгаре.
Война дана здесь не сама по себе, как это было раньше, но с точки зрения одного
индивидуума, именно с точки зрения Ахилла и его гнева. Точно так же старая Телемахида
и прочие сказания о возвращении героев даны в «Одиссее» только с точки зрения одного
героического индивидуума, т. е. Одиссея. В этой индивидуализации и заключается
небывалое новаторство Гомера, а в изобразительном искусстве этому соответствует не
геометрический стиль VIII–VII вв., но архаический стиль VI в.
Гомеровские сцены совета богов или битвы богов появляются в изобразительном
искусстве не раньше 570 г. Раньше их здесь совсем не было. Теперь же можно много раз
наблюдать, как сражается какое-нибудь божество с чудовищем или как группа божеств
сражается с группой гигантов. Можно наблюдать даже большее. В изобразительном
искусстве VI в. видно, как постепенно чудовища превращаются в нечто сказочное, являясь
даже украшением сосудов. Они постепенно теряют свою силу, но зато приобретают ту или
иную привлекательность и носят печать различных человеческих настроений, точь-в-точь
как мифология в позднейших слоях гомеровского эпоса (такова, например, Артемида в
XXI песни, 470 или Афина с Ахиллом в «Илиаде», XVIII в противоположность ее
появлению в «Илиаде», I).
В связи с этим необычайно возвышается и представление о самом божестве, так что
одной из центральных идей сказания является вина человека как результат его гордости и
наказание его за это богами. В эпосе такие мотивы всегда считались позднейшими. Но вот
оказывается, и в изобразительном искусстве эти мотивы учащаются с 570 года.
Действовавший в это время Солон тоже впервые заговаривает о том, что гордость
человека является причиной его страданий. Таковы в живописи на вазах мотивы убийства
Ахиллом сына Приама Троила и наказание Ахилла за это Аполлоном. Таковы мотивы
Тития, Ниобы, гигантомахии, судьба кентавра Несса, фракийца Диомеда, Синиса,
Скирона, Прокруста, Керкиона, отплывающих из-под Трои греков. Известный суд Париса
на одной недавно найденной вазе из Базеля изображен так, что при появлении богинь
Парис просто от них убегает. Появляется изображение разных возрастов человеческой
жизни, что можно поставить в параллель, например, с изображением у Гомера отца
Одиссея. Появляется изображение ландшафтов с тем или другим настроением, как,
например, та местность, где Эос оплакивает своего сына. У Гомера тоже масса
изображений природы, причем более простые и общие надо относить к древнейшим слоям
эпоса, а более сложные, драматизированные, – к позднейшим. [218]
Приводя также и многие другие сопоставления Гомера с вазописью VI в., Шефольд
приходит как раз к тому самому выводу, который не раз формулировался выше. А именно,
Шефольд прямо так и говорит, что ранний, монументальный стиль гомеровского эпоса во
второй четверти VI в. пережил своего рода ренессанс и в поэзии, и в изобразительном
искусстве, но ренессанс уже в связи с новым развитием человеческого индивидуума. Здесь
мы находим уже ту пестроту, беспокойство и драматизм, которые несвойственны древним,
абстрактно-неподвижным и аскетически-оформленным мифам, восходящим еще к
микенской культуре.
Около 600 г. в вазописи наблюдаются элементы перспективы, т. е. третьего
измерения, что делает фигуры еще более живыми и что вместе с развивающейся в это
время лирикой, несомненно, влияет на аттическое завершение гомеровского эпоса. Это,
таким образом, конец архаики, из которого в дальнейшем рождается уже и более
спокойный, классический стиль.
Таким образом, переход у Гомера от старого монументального стиля к новому, более
пестрому и более смешанному подтверждается в настоящее время точнейшим образом и
доказывается аналогичным переходом в области изобразительного искусства.
Рассматривая Гомера в целом, мы можем найти в его стиле напластования, начиная с
древних абстрактно-неподвижных и аскетически-геометрических приемов и кончая
беспокойством и пестротой солоно-писистратовского времени.
Напомним о древнейших периодах греческой и догреческой религии и мифологии,
которые нашли свое отражение у Гомера или по крайней мере в эпосе его времени и
которые связываются по преимуществу с археологией. Известный историк греческой
религии шведский ученый М. П. Нильссон, работающий как раз при помощи
археологических данных, устанавливает в своей последней сводке греческой религии39)
основные элементы т. н. минойской религии на Крите: почитание гротов и пещер,
домашние алтари, священные сосуды, сакральные одеяния, священные рога, двойной
топор, культ деревьев, идолы, среди которых подавляющее множество женских фигур, и
обращает на себя внимание богиня со змеями, явление богов в виде птиц и людей. Все это,
конечно, более или менее доходит до гомеровских времен, так, например, пещера Илифии
(Од., XIX, 188) заставляет вспомнить грот в Амнисе на Крите. Нильссон утверждает, что
была непрерывная связь между древнейшими и позднейшими местами культа на Крите
(Кносс, Фест, Палекастро, Амнис, Приниа, Айа Триада, 281-285). Безусловно, критского
происхождения греческая «владычица зверей», а также многие элементы, вошедщие в
греческую Артемиду (Бритомартис, Диктинна), [219] Ариадна, Елена (285-293);
представление о божественном младенце (Гесиод) и об островах блаженных, т. н. Элисий
(293-306). Нильссон в своих выводах чрезвычайно осторожен и доходит до крайнего
скептицизма. Но тем надежнее выводы, к которым он приходит.
Исконная греческая религия рисуется им в очень скудных тонах, поскольку
достоверным он считает только наличие здесь какого-то неярко выраженного Зевса как
бога погоды и Гестии как богини домашнего очага, хотя сам же исследователь говорит о
возможности и необходимости различных суждений об исконной греческой религии на
основании обратных заключений от позднейших и нам хорошо известных фактов (313-
320). В середине II тысячелетия начинается микенская религия, возникшая из смешения
эолоахейских переселенцев с минойской культурой. К этой минойской религии даже
скептически настроенный Нильссон возводит, например, такие места позднейшего культа,
как Дельфы или Элевсин, где найдено большое количество микенских остатков.
Любопытно отметить, что в дельфийских раскопках найдено изображение обнаженной
женщины, сидящей на трехножном основании. Здесь не может не прийти в голову
классическая дельфийская пифия, тоже сидевшая на треножнике. Остатки микенского
изобразительного искусства найдены также в храме Геры на Самосе, в Амиклах (в связи с
Иакинфом), в Менелайоне на левом берегу Эврота в связи с Менелаем и Еленой, в
Калаврии, в Тегее (Афина Алея), Элатее (Афина Кранайя), на Эгине (богиня Афайя), в
Ферме (Аполлон). Таким образом, главнейшие классические места культа непрерывно
восходят к микенским, если базироваться на археологии.
К микенскому периоду Нильссон возводит Зевса и как вождя патриархального
общества и как покровителя всякого порядка гостеприимства и морали (320-322). На
развалинах микенских царских дворцов в дальнейшем часто воздвигались храмы богини
покровительницы города. Таков был храм Афины в Микенах. Нильссон доказывает, что
Афина Паллада минойско-микенского происхождения: в Микенах она была
покровительницей царского дворца и самого царя, сопровождая его, конечно, на войне и
будучи вообще покровительницей героев. Это подтверждается археологией Афин, Микен,
Тиринфа. Ее древний атрибут, тоже еще минойско-микенский, это змея, к которой в
дальнейшем присоединилась сова; она превращается в разных птиц (ср. Од., I, 320, IV,
372, XXII, 240; Ил., V, 778, VII, 59). Если Гомер (Од., II, 120) говорит о какой-то забытой
героине Микене, то возникает вопрос, не была ли в свое время Микена богиней Микен,
как в последующие времена Афина – покровительницей Афин (322-326). Гера (имя
которой есть женский р. от мужского «герой»), вероятно, тоже является богиней царского
дворца. Такова она в Тиринфе, Аргосе, Коринфе (326). Микенского происхождения, по
Нильссону, также и концепция верховной власти Зевса, которому подчинены все прочие
боги подобно тому, как микенскому царю были подчинены соседние цари со своими
племенами (227-331).
Гомер хранит еще традиции микенского времени, воспевая славу микенских царей,
их геройские подвиги и их богатую, роскошную жизнь. Все главнейшие гомеровские
герои восходят к микенской старине, да и все сказания о героях в более или менее
развитом виде – микенского происхождения. Но, конечно, гомеровские поэмы