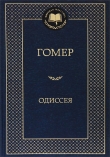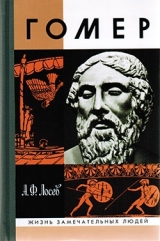
Текст книги "Гомер"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 32 страниц)
образовались уже на ионийской почве, уже после дорийского переселения и после гибели
микенской культуры, т. е. по крайней мере спустя 500 лет после Микен. Поэтому неплохо
характеризовал Гомера Роде, называя его побочным детищем греческой религии,
поскольку гомеровские поэмы [220] образовались в ионийских колониях и несут на себе
новые небывалые черты, в то время как микенская религия продолжала развиваться на
материке своим чередом. Невозможно перекинуть четко построенный мост через эти 500
лет ввиду крайней скудости наших сведений из этой эпохи. Но микенскую традицию
Гомера, какие бы этапы она ни проходила и каким бы изменениям она ни подвергалась, не
отвергает в настоящее время ни один ученый (331-338). К Микенам Нильссон возводит
даже гомеровское представление о судьбе (338-344), хотя почтенный исследователь не
рассуждает здесь так расчлененно, как надо. Нильссон возводит к Микенам даже и
гомеровское очеловечивание богов (349), и с некоторыми поправками такое суждение тоже
можно считать правильным. Помимо Нильссона, можно привести еще много других
исследователей, которые ставят своей основною целью вскрытие разновременных
напластований у Гомера в тех или иных областях. Упомянем еще об одном исследователе,
А. Северине, который тоже находит у Гомера переплетение старых и грубых «ахейских»
обычаев с более поздними, хотя все еще далекими от классической Греции, критскими
обычаями, несравненно более тонкими и часто даже изощренными.
Поэтому гомеровский литературный стиль надо обязательно понимать не
неподвижно-метафизически, а находить в нем разновременные напластования и
переплетения.
А. Северин в своей книге «Гомер. Историческая обстановка»40) находит в
исторической основе гомеровских поэм отражение древнейшей жизни Крита, владычества
ахейцев и нашествия дорян. Северин приводит богатый материал из «Илиады» и
«Одиссеи», свидетельствующий (стр. 8-25) о типичных чертах быта критян. Это любовь к
удобствам, комфорту, ваннам, песням, пляскам, играм, изящным одеждам, ничего не
имеющим общего с классической греческой одеждой. Телемах, например, трижды
принимает ванну: у Нестора (Од., III, 464-468), у Менелая (IV, 48-51) и дома (XVII, 85-90).
Диомед и Одиссей после убийства Долона смывают грязь в море, а потом тоже
погружаются в теплую ванну (Ил., X, 576). Феаки, в которых автор видит прообраз критян,
управляются царицей Аретой, что соответствует исторической действительности Крита,
где женщины имели право власти и где были очевидны пережитки матриархата. Это
сказывается и в самостоятельной, умной, независимой Навсикае, дочери феакийских
царей.
Ахейцы, постепенно овладевшие Критом и утвердившие микенскую державу,
усвоили многое из критских обычаев, даже пытались приспособить критское письмо для
выражения своего индоевропейского языка. Северин красочно рисует ахейский
«феодальный» (по его собственному выражению) мир Гомера с его грубыми нравами, с
суровой жизнью, разбоем и угоном скота, междоусобицами. Автор считает, что
гомеровский мир это мир преимущественно ахейский (стр. 45). Об этом свидетельствуют
дома с мегароном, микенское оружие (маленький круглый щит, поножи, копья, кожаные
шлемы), украшения, богатые погребения, сопровождаемые иной раз человеческими
жертвами (например, погребение Патрокла, Ил., XXIII, 166-176, ср. с Нильсоном, Гомер и
Микены, стр. 155-156), страсть к охоте (Од., XIX, 429-454). Гомеровские женщины носят,
однако, одеяние, которое ахейцы заимствовали у критян: платья с воланами, на плотных
корсажах, на кринолинах, [221] поднимающие грудь и утончавшие талии. С этой точки
зрения Северин оценивает гомеровские эпитеты, прилагаемые к нарядным женщинам.
Эпитет callisphyros «прекраснолодыжная» свидетельствует о том, что платья носили
недлинные, так что видна была лодыжка, в то время как троянки именуются helcesipeploi
«длинноодетые». Эпитеты eydzōnos и callidzōnos «прекрасноподпоясанный» говорят о
типичном для крито-микенского костюма поясе. Эпитет bathydzōnos
«глубокоподпоясанный» указывает на любовь затягивать туго пояс для утоньшения талии,
как это видно на древних изображениях. Эпитет bathycolpos «с глубокой грудью»
характерен для женщин, носивших высокий корсет, как на изображениях второго дворца в
Тиринфе. Эпитет tanypeplos нельзя переводить как «длинноодетый». Его корень tany-
указывает на глагол «натягивать», т. е. платье, хорошо обтягивающее фигуру. Эпитеты
eyplocamos, calliplocamos «с прекрасными косами» напоминают характерные крито-
микенские прически с завивкой локонами, буклями. Костюм Геры (Ил., XIV, 169-188)
живо напоминает кносскую фреску «Женщины в голубом», но никак не одеяния
классических греков.
Северин, распределяя в хронологической последовательности гомеровских героев
(стр. 51-62), определяет их историческое место и географическое расположение их
владений в микенском мире. Поход под Трою рассматривается автором как экспансия
ахейцев в Малую Азию в погоне за железом, основным богатством хеттитов, за которым
охотились и египтяне и ассирийцы. Интересно, что союзники хеттитов, упоминаемые в
походе царя Хаттусила III против Рамзеса II в 1289 г., это Лука, Пидаса, Маза, Дардануи,
Каликиша Илиунна является не кем иным, как союзниками троянцев у Гомера, ликийцами,
педасийцами из Педаса, мизийцами, дарданцами, киликийцами, причем племя Илиунна,
возможно, означает жителей Илиона, (стр. 70 сл.). В царствовании Мернептаха в 1225 г.
акайваша (ахейцы) выступили против египтян. У Гомера, таким образом, можно найти
следы попыток ахейцев прорваться на север и юг Малой Азии (стр. 71).
Пережитки дорийского переселения также можно найти у Гомера. Дорийцы
принесли с собой еще более дикие нравы, чем ахейцы. Они прекрасно знали железо и его
обработку. Геометрический стиль и сожжение умерших также характерны для дорийцев,
не усвоивших крито-микенской цивилизации. Под давлением дорийцев часть ахейцев
ушла за море, в Ионию. Ионийцы (Iaones в Ил., XIII, 686), таким образом, имя которых в
форме Иауна и Иаван станет синонимом эллинов на Востоке, были в глазах этого Востока
наследниками ахейцев (стр. 83). Отзвуком нашествия дорийцев у Гомера явилось
изображение борьбы Геракла с пилосцами (Ил., XI, 690-693) и упоминание его сына
Тлеполема (Ил., II, 653-670).
Таким образом, и поздняя переработка эпоса и его ранние истоки прекрасно
свидетельствуются археологическими памятниками и памятниками изобразительного
искусства, не говоря уже о длительной военной и бытовой истории. И можно только
удивляться, почему исследования древнего строгого и, с другой стороны, позднего, т. е.
свободного и смешанного стилей у Гомера, так мало у нас популярны, и почему сама
проблема переплетения разных стилей у Гомера часто считается неясной и даже
ненужной. Изучение этих стилей в изобразительном искусстве уже давно стало обычным
и не нуждается ни в каком оправдании. Ученые исследуют по Гомеру и ахейцев, и критян,
и дорийцев,. и ионийцев, исследуют целую историю племенных переселений, исследуют
разные тонкие оттенки быта в течение целого тысячелетия. И только один литературный
стиль Гомера остается [222] вне всякого становления, остается вне всякого разделения на
более древние и на более новые пласты и остается в виде какой-то единой и неподвижной
статуи, прошедшей без всякого изменения через целое тысячелетие. То различие стилей,
которое мы наметили выше, имеет своей целью хотя бы до некоторой степени заполнить
этот пробел и начать работу исторического и историко-художественного исследования
гомеровского стиля и гомеровского мастерства в связи с мировоззрением поэта.
VI. Из современной литературы по мировоззрению и стилю Гомера
Прежде чем перейти от принципов стиля Гомера к анализу самого стиля Гомера,
будет целесообразно бросить взгляд на некоторые исследования, разрабатывающие Гомера
приблизительно в тех же направлениях, что и данная работа.
Гомеровское мировоззрение настолько выразительно и глубоко, что многие
исследователи включали Гомера в историю античной мысли, а некоторые даже и просто
говорили о философии Гомера. Такова, например, популярная и живо написанная книга Т.
Шеффера «Гомеровская философия».41)
Этот автор (стр. 22-26) правильно считает, что западная философия слишком
высокомерно относится к поэзии, не находя в ней никаких философских элементов.
Всякая поэзия обязательно есть некоторое мировоззрение; и потому у Гомера, пусть не в
научной форме, но все же имеется своя философия. У него есть определенное отношение к
природе и миру, к богам, к человеку. В области природы и мира он впервые на греческой
почве проповедует принцип порядка и гармонии и в этом смысле является первым
эпическим поэтом. В своем отношении к богам он часто допускает то, что с европейской
точки зрения считается бурлеском, насмешкой или скептицизмом. На самом же деле он
относится к богам совершенно серьезно, и вера его ничем не нарушается. В религии
Гомера, правда, нет ничего восторженного или экстатического. Здесь больше созерцания и
пластики, почему Гомер и вошел во всю греческую культуру в качестве ее основного
содержания.
Гомер, по Шефферу (133-139), есть открытие человеческого интеллекта и тем самым
открытие новой картины жизни. В этой картине знание оказывается на первом плане. Оно
и в религии, где оно дает такие четкие образы богов; оно и в этике, завершаясь у Сократа
прямым учением о том, что добродетель есть знание; оно и во всей гомеровской
психологии. Но этот проницательный взгляд интеллекта сразу открывает в жизни две ее
неотъемлемые стороны, – светлое, ликующее жизнеутверждение и сознание ничтожества
человека, что и зафиксировано в знаменитых словах Ахилла к Приаму (Ил., XXIV, 522-
533). Это бесстрашное видение жизни в разуме и было, по мнению Шеффера, утром или
рождением всей европейской цивилизации.
В. Нестле (W. Nestle) в своей книге «Греческая история духа от Гомера до Лукиана»42)
приводит разные примеры из области религии (20 стр.). У Гомера – «религия света и
посюстороннего» мира (21). У Гомера нет единства среди богов и у него – недостаточное
уважение к ним со стороны [223] людей. Таким образом, по Нестле, Гомер тоже есть
начало рационализма и цивилизации.
Б. Снелль в своей работе «Открытие духа»43) делает ряд весьма интересных
наблюдений относительно концепции человека у Гомера. Подобно Аристарху этот автор
стремится восстановить подлинного Гомера, снимая с него те напластования, которые
фиксировались в нем многочисленными исследователями в стиле зрелой классики. Так, у
Гомера еще нет цельного представления о человеческом теле, но только о теле как о сумме
составляющих его членов. Точно так же нет у Гомера и субстанциального представления о
душе, которая мыслится либо только в момент выхода из тела через рот или рану, либо в
виде бессильной тени. Весьма характерно выражение об Ахилле (Ил., XXI, 569): «В нем
одна лишь душа, и смертным зовут его люди». Это указывает на то, что душа трактуется
здесь не в своих функциях, как оживляющая тело, но как душа умершего или смертного.
Когда же имеется в виду одушевление тела, то говорится не о «душе», но о «дыхании» (X,
89) (стр. 15-23).
Кроме психеи, аналогом души у Гомера являются thymos (дух, душа) и noos (ум,
мысль). Первое представляет собою жизненное возбуждение организма; и покидает оно
животных так же, как человека покидает психея. У человека это тоже отнюдь не какая-
нибудь субстанция души, но лишь свойство физического организма. Второе относится к
сфере представлений и является как бы интеллектуальным органом души, но тоже отнюдь
еще не есть личность. И психея и тюмос и ноос отнюдь не являются у Гомера теми
способностями души, о которых говорил Платон, потому что у Гомера нет самого понятия
души. Это либо определенные органы тела, либо их функция, либо результат подобных
функций (29 сл.).
Представление о душе, по Снеллю, появляется только у лириков и философски
формулируется впервые только у Гераклита. Впервые у этого философа (В 45) говорится о
бесконечной глубине души и ее «логоса», в те время как у Гомера прилагательное
«глубокий» нигде не употребляется в таком метафорическом смысле; но ему соответствует
в составе сложного слова «polys» «многий» (многознающий, многострадальный и. т. д.),
который означает экстенсивное множество, а не духовную глубину. Гомер вследствие
этого не может также говорить и о раздвоении души. Это только Сафо могла говорить о
«сладостно-горьком Эросе». Самое большое, Гомер может говорить в этих случаях о том,
что человек хочет одного, а его тюмос требует другого, т. е. всякая душевная борьба
изображается у него по типу борьбы одного физического органа с другим (32 сл.). Другое
свойство души, о котором говорит Гераклит, т. е. всеобщность логоса, тоже целиком
отсутствует у Гомера. Что несколько человек объяты одним и тем же духом, говорить об
этом для Гомера так же противоестественно, как и то, что несколько человек имеют один
глаз или одну руку.
Душа, или дух, не только способна все пронизывать и охватывать, но у Гераклита (В
115) ей свойствен еще и «логос», сам себя умножающий». Такое представление тоже
чуждо Гомеру, у которого всякое «умножение» духа или души происходит не из самого
духа и не из самой души, но только от богов, вкладывающих в человека все их чувства,
решения, поступки и пр. Поэтому душа у Гомера есть именно только орган каких-то
других сил; и это понятие силы Гомер обозначает самыми разнообразными терминами
(menos, sthenos, biē, cicys, is, cratos, alcē, dynamis), совершенно не имеющими никакого
абстрактного значения, какое впоследствии получил, например, термин dynamis, а только
указывающими на беспомощное стремление найти подходящий термин для
отсутствующего пока понятия души. Возможно, что это разнообразие терминов,
обозначающих силу, часто диктуется у Гомера просто метрическими соображениями, хотя
в свое время (но, конечно, задолго до Гомера) все эти термины имели магическое значение
(34-36). [224]
Изложенные взгляды Снелля, независимо от теоретических предпосылок этого
автора, рисуют весьма сложную картину гомеровского отношения к самому понятию
человека. Автор этот, несомненно, увлекается и преувеличивает непонимание Гомером
человеческой личности и человеческого тела. Автор не учитывает того, что гомеровские
поэмы во многих отношениях являются стилизацией под древний эпос и что формальное
отсутствие тех или иных терминов или образов еще не говорит об отсутствии у него и
соответствующих понятий. Психея у Гомера действительно еще не есть личность. Тем не
менее Ахилл у него – уже личность. Гектор у него – тоже личность и т. д. У Гомера очень
глубокая психология. Однако эта психология стилизована под древний эпос, и поэтому
психология и антипсихологизм перемешаны у него в трудно анализируемые образы. Если
учесть это преувеличение Снелля, то в основном его характеристику гомеровского
человека необходимо считать весьма глубокой и проницательной. Кроме того, и сам автор
считает Гомера началом европейской цивилизации, чего нельзя было бы признавать, если
бы мы отказали Гомеру решительно во всяких элементах представления о личности и ее
судьбе.
В. Иенс в своей работе «Понимание истины в ранней Греции»44) правильно
указывает на то, что в «Илиаде» существует только одна истина, в которой ни у кого нет
никакого сомнения. Но уже в «Одиссее» – не одна, но две истины, и начинается борьба
между реальностью и тем, что только кажемся реальностью (Одиссей подлинный и
Одиссей, превращенный в нищего). Эта раздвоенность истины еще больше растет у
Гесиода, у которого сами музы объявляются источником как истины, так и лжи. Лирика и
философия еще больше углубляют этот конфликт, так что Парменид уже не воспевает
истину, но стремится ее познать; а у Гераклита вообще только один философ знает истину,
неведомую толпе. Таким образом, по Иенсу, уже у Гомера заметен сдвиг от наивной и
дорефлективной истины к истине рассуждающего разума.
Археолог Г. Шраде 45) дает весьма широкую художественную картину гомеровских
богов, стремясь по преимуществу фиксировать их внешние черты, в таком обилии
рассыпанные по гомеровским поэмам. Этот автор совершенно правильно
противопоставляет древнеизраильское отрицание божественных изображений, которые
считались в Израиле идолами и кощунством, с одной стороны, и, с другой стороны,
совершенно отчетливо античное очеловечение богов, которое в самой яркой форме
проявилось именно у Гомера. Однако, согласно автору, это вовсе не значит, что у Гомера
уже не было религии, как это думали многие, сводившие аппарат богов у Гомера только к
эпической технике. У Гомера была весьма мощная религия, поскольку у него не может
идти и речи о противоположении религии и поэзии. Такое противоположение в Греции
начинается не раньше VI в. до н. э. По Страбону (VIII, 3, 30), когда у Фидия спросили,
откуда он взял образец для своего Зевса, он указал на I песнь «Илиады». Олимпийские
сцены у Гомера на первый взгляд противоречат религии, будучи несовместимыми с
серьезным отношением к богам. Но это вовсе не значит, что боги весьма доступны, весьма
близки к человеку и что с ними можно обращаться как с людьми. В специальном [225]
разделе о молитвах у Гомера доказывается религиозность Гомера на основании наличия у
него огромного количества обращений к богам; и если многое обходится у Гомера без
упоминаний о богах, то два главных героя, Ахилл и Гектор, во всяком случае то и дело
обращаются к богам.
Жилища богов на Олимпе или на небе, – их Шраде подробно изображает во втором
разделе, извлекая из Гомера все малейшие упоминания об их устройстве, – совершенно
недоступны людям; и такие случаи, как похищение Ганимеда, ярко свидетельствуют о том,
что всякое общение богов и людей у Гомера зависит исключительно только от самих богов
и определяется исключительно ими.
Автор подробно анализирует изображения у Гомера священных мест, храмов и
домов, богов в их святилищах, главнейших богов (Зевса, Афины, Гефеста, Ареса,
Диониса), формы появления богов среди людей и противоположность жизни богов и
людей, Аид и состояние умерших, гомеровское представление о славе и чести, образ
Одиссея и изображенное у Гомера художественное творчество мастеров.
Однако в настоящем изложении нет никакой возможности подробно анализировать
все материалы, приводимые у Шраде из Гомера на эти темы. Поэтому остановимся только
на последнем разделе книги, посвященном специально гомеровским представлениям о
красоте.
В разделе «Прекрасное» Шраде в очень выпуклой форме дает очерк эстетики Гомера.
Он прежде всего отмечает как старинный и давно преодоленный этап изображение у него
всякого рода ужасов, примером чего может явиться перевязь Геракла (Од., XI, 610-615) с
огненноочими львами, медведями, дикими кабанами и картинами жестокой войны.
Изобразивши блеск оружия и грозное движение войска, сам Гомер (Ил., XIII, 338-347)
говорит, что был бы воистину бесстрашен тот, кому подобное зрелище доставляло бы
радость, а не печаль. Эта страшная эстетика вообще является первой в истории. Гомер
далеко вышел за ее пределы. У него постоянно говорится о красоте женщин, мужчин и
всяких предметов, так что среди этого моря красоты уже забываются древние ужасы.
Тем не менее, по Шраде, в эстетике Гомера красота отнюдь не играет
самостоятельной роли. Красота Елены, например, хотя и выдвигается у Гомера, но не она
является причиной войны. Только в позднейших «Киприях» эта красота трактуется как
причина войны. И Парис хотя и прославляется за красоту, но эта красота есть скорее
сластолюбие. Для гомеровских героев гораздо больше имеет значение не красота, но
огромные размеры, огромный рост, сила, физическая мощь и пр. Маленький, но храбрый
Тидей (Ил., V, 801) является исключением. Ахилл, Агамемнон, Гектор, Аякс, Перифат, а
также Арес и Аид – не только большого роста, но прямо гиганты (pelōrioi), может быть,
даже «чудовища» (Од., IX, 187-190). Такая же характеристика дается и киклопу Полифему.
«Великими» являются не только Гектор или Аякс Теламонид, но даже и Приам. Эпитет
«прекрасный» часто соединяется у Гомера с эпитетом «великий» или «большой», и это не
только о мужчинах, но и о женщинах. Такой является, например, Афина Одиссею (Од.,
XIII, 289, XVI, 158). Города, дома, комнаты, башни, стены, камни, копья, мечи – все это у
Гомера тоже постоянно огромное, тяжелое, иной раз даже не под силу обыкновенному
человеку. Сердце, душа, отвага, мужество, слава – тоже всегда у Гомера огромных
размеров или огромного значения. Неправилен перевод megathymos как «великодушный»
или megaletōr как «мужественный», потому что мы с такими переводами соединяем разное
моральное представление, в то время как здесь везде имеется в виду физическая мощь.
Киклоп Полифем, например, тоже megaletōr (X, 200), хотя он и людоед. По мнению
Нестора, Агамемнон отнял добычу у Ахилла тоже в силу того, что он megaletōr (Ил., IX,
109). Выражение mega phroneōn вовсе не значит «замышляющий великое» в духовном
смысле, но всегда указывает [226] на крупное практическое мероприятие. О красоте богов
у Гомера говорится редко; но зато они всегда рисуются великанами и гигантами, включая
Аполлона и Посейдона и прежде всего Зевса. Посейдон четырьмя шагами проскакивает
почти все Эгейское море; его движения вызывают сотрясение всей природы. Устранить
огромные размеры в гомеровских представлениях о богах так же невозможно, как
невозможно представить себе жилище богов вне мощных вершин Олимпа.
Нам кажется, что эти выводы Шраде (стр. 263-266) с большой яркостью рисуют
специфику гомеровской эстетики. Может быть, этот исследователь и несколько увлекается,
думая, что красота Елены только у Исократа понимается как причина Троянской войны.
Всем известно знаменитое место из «Илиады», где троянские старцы признают
необходимость войны из-за Елены. Тем не менее красота, как ее понимает Гомер, едва ли
отделима от понятия величины, больших размеров, роста, а также силы и мощи и среди
людей и среди вещей. Едва ли у Гомера так уж резко отличается красота Афродиты от
красоты Афины Паллады. Когда эта последняя делает Одиссея красавцем, то делает она
это перед его встречей с Пенелопой, т. е. для женщины. Вероятно, отличие двух указанных
богинь друг от друга в этом отношении является уже послегомеровским.
В связи с этим представляются имеющими значение некоторые мысли Шраде об
отношении Гомера к геометрическому стилю (стр. 269-271). Поскольку у Гомера красота
стихии (в частности, больших объемов) занимает первое место, его стиль нельзя назвать
чисто геометрическим. Тем не менее геометризм здесь уже выявил себя как одна из
ранних ступеней греческого чувства формы вообще. Интересно, что о красоте богов у
Гомера почти ничего не говорится. А если говорится, то прекрасным оказывается не кто
иной, как Арес, бог стихийной и неупорядоченной войны (Од., VIII, 310, Ил., XVIII, 518).
Нечеловеческое оформляется у Гомера при помощи точных, ясных, раздельных
«геометрических» форм, как это можно видеть и где-нибудь на аттической амфоре X в. до
н. э. Весь этот геометризм поэтому пока еще мало отличается от прежней магии, хотя
последняя уже теряет здесь свою беспорядочность.
Такого же типа и употребление у Гомера некоторых чисел, в которых необходимо
видеть не столько математику, сколько древнюю магию, нашедшую здесь, однако, для себя
известное оформление. Таково число 3 в текстах: Ил., V, 136, 436, VIII, 169. Таково и
число 9: 9 лет осада Трои, 9 дней носится по морю Одиссей перед прибытием к Калипсо
(Од., XII, 447, XIV, 314), 9 ночей Феникса окружают его родственники (Ил., IX, 470), 9 лет
Гефест находится в пещере Фетиды (XVIII, 400), 9 дней пирует Беллерофонт с тестем
Прета и зарезывает с ним 9 быков (VI, 174), 9-летней мазью покрывают раны Патрокла
(XVIII, 351), 9 дней боги направляют потоки воды на стены Трои (XII, 25), 9 дней лежат
непогребенными дети Ниобы (XXIV, 610), 9 дней боги спорят о поругании Ахиллом трупа
Гектора (XXIV, 107), 9 дней – плача по Гектору и доставка дров для его костра (XXIV, 664,
784).
Все же Гомер далеко выходит за пределы геометрического стиля, т. к. даже амфора
VIII в. из Афинского Национального музея, которую Шраде подвергает подробному
анализу (стр. 272-274), далеко отстает от тех изображений, которые мы находим у Гомера.
Человеческие фигуры на этой амфоре являются достаточно реалистическими в нижних
своих частях: но начиная от талии они продолжают отличаться условным геометрическим
[227] построением. Гомер – это поздний геометрический стиль, в котором, однако,
изображение живых человеческих черт пошло значительно дальше. Отсюда мы можем
сделать из Шраде тот вывод, что образование поэм Гомера относится ко времени
значительно более позднему, чем VIII в. до н. э.
И все же геометрический стиль является тем, что наиболее ярко выражено у Гомера.
Изучая разнообразные примеры геометрического стиля, Шраде показывает, как сквозь
условный геометризм здесь пробиваются настоящие стихийные силы, когда, например,
зверь растерзывает человека или, наоборот, человек побеждает зверя. И в геометрическом
стиле и у Гомера человек совершенно смертен и несравним с богами, но и там и здесь он
очень силен и, не будучи в состоянии стать бессмертным по своей субстанции, он обладает
одним несомненным видом бессмертия, а именно славой в потомстве. В связи с этим культ
мертвых, который играет такую большую роль в аттическом геометрическом стиле, вовсе
не сводится только на плач и погребение, но, как и у Гомера, гораздо больше того состоит
в почитании великой силы умершего и в воздействии ее на последующее поколение. Само
же тело героев продолжает быть условным вроде тех геометрических щитов, в которых
намечены сверху элементы головы, а внизу элементы ног. А корпус героя представляется
как сплошной щит, т. е. вполне вещественно, но пока еще не человечески (стр. 274-276).
Большим шагом вперед является появление в геометрическом стиле ясно
выраженных геометрических черт, которые на первых порах все еще слишком стихийны и
чрезмерны. Шраде приводит бронзовую статуэтку Аполлона из Бостона середины VII в., у
которой туловище имеет вид трапеции, а голова вид конуса; и тем не менее уже по следам
на глазах здесь видно то страшное сверкание, о котором говорит Гомер в отношении
Афины (Ил., I, 200). Гомеровский воин не мог быть обнаженным и боялся наготы, но этот
Аполлон совершенно нагой, так что отчетливо можно видеть трактовку могучих плеч и
груди, не говоря уже о гордом и надменном лице. Здесь такое же соединение
демонической безмерности и человеческой соразмерности, как у гомеровского
Агамемнона. Здесь сквозь геометрическую условность уже пробивается воплощенность
божества в реальном и самом обыкновенном человеческом теле (стр. 276-279) (см. ниже,
стр. 318).
Наконец, Шраде приводит тоже бронзовую статуэтку дельфийского юноши из того
же VII в., где уже преодолен всякий геометризм, реалистически трактуются и отдельные
части тела и все тело целиком и где уже можно говорить о начале проявления духовной
мощи человека в органически цельном теле. Гомер только подходит к этой ступени
художественного развития; но он очень далек от ее полноценного художественного
воспроизведения. Он все еще подавлен слабостью и ничтожеством смертного
человеческого существа, жизнь которого он сравнивает с кратковременной листвой на
деревьях. Боги для него все еще слишком страшны и слишком демоничны, чтобы он мог
говорить об их полном очеловечении, так же как и страшная Горго из храма Артемиды на
Корфу, относящаяся к тому же времени, что и упомянутый дельфийский юноша. Боги
Гомера слишком стихийны и нечеловечны, хотя это и не мешает тому, что Гомеру уже
известна встреча бога с самим собою в человеке. Встреча эта пока еще страшная и пока
еще лишена спокойных и величавых пластических форм классического искусства. Лучше
всего свою основную мысль Шраде выражает при помощи одного стиха из Гомера,
который он избрал эпиграфом для своей книги (Ил., XX, 131): «Тяжко явление бога,
представшего в собственном виде!» (стр. 279-281) (статуэтку юноши, см. стр. 216).
Следует обратить внимание и на книгу С. Е. Бассетта «Поэзия Гомера»,46) в которой
имеется довольно подробное и часто [228] остроумное изложение поэтики Гомера как раз
на основе единства мировоззрения и стиля. Этот автор интересен тем, что вопреки
устаревшим традициям он хочет найти в Гомере живого человека с живыми и глубокими
чувствами, найти в нем полную всяких переживаний личность; и все то, что обычно
принимается в эпосе за скучное и монотонное, он старается понять как жизненное и даже
драматическое. Местами Бассетт, несомненно, увлекается. Однако его анализ настолько
глубок и оригинален, что мы позволим себе остановиться на нем несколько подробнее.
Понимая под иллюзией все художественное, что околдовывает и очаровывает
читателя в художественном произведении, Бассетт устанавливает три основных момента в
той эпической иллюзии, в которой Гомер является величайшим мастером. Первую
иллюзию автор называет исторической, или, как мы бы сказали, реально-исторической,
бытовой. Музы, вдохновлявшие Гомера, по Бассетту, не являются музами Пиндара,
которые вызывают восторг и субъективно лирическое вдохновение (это музы
геликонские). Музы Гомера – это олимпийские музы, дочери самого Зевса, задача которых
не столько вдохновлять певца, сколько сообщать ему реальные факты прошлого и
укреплять его на позициях былевой поэзии. Рапсоды вроде Иона могли и сами
вдохновляться Гомером до восторженного состояния и доводить до слез свою аудиторию
(Plat. Jon 535 В-Е). Но подлинная задача Гомера – вызывать в своих слушателях и
читателях совсем другого рода обаяние, делающее их более тонкими и благородными
вследствие величия деяний прошлого (Plat. Menex. 235 – А-С). Гомер не сочиняет истории,
но она через него как бы сама говорит о себе. Историческая правда – это основа всей
эпической иллюзии.
Второй основной эпической иллюзией у Гомера, по Бассетту, является то, что он
называет жизненностью (vitality). Под этим Бассетт понимает не просто живое или
жизненное изображение событий, но изображение жизни как таковой, жизни самой по
себе, которая проявляется в 1) прогрессивности, т. е. постоянном движении вперед, 2)
непрерывности и 3) движении. Первые два момента Бассетт относит ко времени, а третий
– к пространству. Бассетт весьма основательно доказывает, что у Гомера, как и вообще в
первобытном искусстве, не существует никакого однородного времени или пространства,