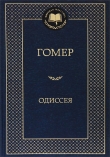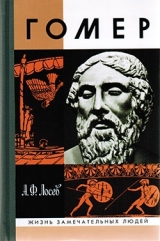
Текст книги "Гомер"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 32 страниц)
Другая олимпийская сцена (Ил., IV, 1-72) не столько комична, однако и здесь имеет
место ссора между Зевсом и Герой. Оба небожителя договариваются между собою
относительно нарушения троянцами перемирия только потому, что это оказывается
выгодно для обеих сторон. Благочестия здесь у Гомера не видно, а зато элементы комизма
налицо. Точно так же в сцене между Зевсом и Герой на Иде после его обольщения и в
дальнейшем в сцене на Олимпе (Ил., XV, 1-100) мы опять встречаемся все с той же
семейной ссорой между Зевсом и Герой и вообще с раздорами среди богов,
прекращающимися иной раз исключительно только вследствие физического
превосходства Зевса над прочими богами. Как хотите, но, если верховный небожитель все
время апеллирует только к собственному кулаку, это производит комичное впечатление.
Правда, в таких олимпийских сценах, как «Илиада», XX, 5-25, где Зевс разрешает [198]
богам вступать в бой по своему желанию, или как «Илиада», XXIV, 24-76, где Аполлон
критикует Ахилла за аморализм и где боги решают прекратить надругательство над
Гектором, никакого явно выраженного комизма не имеется. Но зато сцена с Аресом и
Афродитой, о которой поет Демодок у феаков (Од., VIII, 266-367), носит прямо-таки
опереточный характер. Это настоящая альковная юмористика. Комизм и бурлеск в сценах
с олимпийскими богами у Гомера давно уже обратили на себя внимание исследователей.
Некоторые немецкие исследователи, пораженные этим бурлеском Гомера, доходят даже до
крайних выводов, выдвигая стиль шванка во всем Гомере на первый план. Шванк – это
короткий комический рассказ, фигурировавший в немецкой средневековой городской
литературе. Современная немецкая исследовательница М. Римшнейдер в своей книге
«Гомер. Развитие и стиль» (1950) доказывает, что Гесиод предшествовал Гомеру и что у
них обоих на первом плане поэзия шванка.
Не только общеизвестные юмористические сцены на Олимпе Римшнейдер считает
шванками, но даже и такие эпизоды, как ранение Афродиты и Ареса Диомедом, как
поведение на Олимпе раненой Афродиты, как ранение Геры Гераклом, как служение
Аполлона и Посейдона у Адмета. У Гесиода более грубый шванк, у Гомера более тонкий.
Недаром традиция приписывала Гомеру также и комические произведения вроде
«Маргита», хотя в последнем шванк изображал уже не богов, а людей. Шванками,
оказывается, вообще переполнен весь Гомер. Так, например, изображение феаков, по
Римшнейдер, тоже есть шванк. «Илиада» и «Одиссея» должны быть рассматриваемы в
контексте гомеровских гимнов, Гиппонакта, Стесихора. Но такие гомеровские гимны, как
гимны к Аполлону, Гермесу или Афродите, особенно гимн Гермесу, носят самые яркие
черты шванка.
В теории Римшнейдер очень много и правильного, и много преувеличений. Все же,
однако, показательно для современной науки, что гомеровская юмористика отнюдь не
отодвигается на последнее место, но иной раз даже слишком сильно выдвигается вперед.
Это происходит потому, что эпический стиль Гомера, несмотря на его глубокие
трагические и лирические стороны, все же несомненно полон всякого рода юмористики.
Олимпийские сцены у Гомера представляют собою переход к тому виду комизма,
который иначе нельзя и назвать, как грубым комизмом.
в) Грубый комизм. Ярким примером такого типа комизма является у Гомера
приключения Одиссея у Полифема (Од., IX, 181-545). Этот Полифем – одноглазый
великан, людоед, не признающий никаких законов (189-192, 215), не признающий даже и
богов (273-276). Вместо приветствия гостям и вместо поднесения им подарка, он хватает
двоих из них и съедает, и это повторяется еще два раза. Одиссей решает выколоть ему
единственный глаз, что он и делает, напоивши Полифема вином. Потом Одиссей со
своими спутниками выбирается из пещеры Полифема, находясь под брюхом баранов и
держась за их [199] шерсть. Со своего корабля он издевается над Полифемом, тот бросает
в него кусок скалы, так что корабль Одиссея чуть не затонул. Однако Одиссей со своим
кораблем благополучно добирается до стоянки прочих своих кораблей. Здесь перед нами
образец грубого комизма и даже больше, чем комизма. Комизм, переходящий в ужасное,
называется гротеском. Все приключение Одиссея с Полифемом – наилучший пример
гомеровского гротеска.
Другой пример такого же грубого комизма на границе с гротеском – это драка
Одиссея-нищего с другим нищим, Иром, когда Одиссей впервые появляется в собственном
доме (Од., XVIII, 1-110). Ир – наглец, обжора, очень большого роста, но слабосильный. Он
с Одиссеем перебрасывается ругательными словами. Потом женихи натравливают их друг
на друга, обещая победителю вкусные яства. Ир трусит, видя богатырское телосложение
под лохмотьями у своего соперника, и даже начинает дрожать от испуга. Он ударяет
Одиссея в плечо, но тому это нипочем. После этого Одиссей ударяет Ира в место под
ухом, у того хлынула кровь и он свалился на землю в судорогах. Одиссей тащит его за
ногу из дворца к воротам и оставляет его там, присовокупив внушительное наставление. А
женихи гоготали от удовольствия и стали потом щедро угощать Одиссея. Вся эта сцена
гораздо больше подходит к кабацкой комедии, чем к героической поэме. Кроме того, здесь
не просто комизм, но и комедия, поскольку эпическое повествование почти уже переходит
в драматическое представление, правда, довольно низкого и уже никак не героического
типа.
Заметим, что в обоих приведенных отрывках из «Одиссеи» не отсутствуют и
обычные аксессуары «низкой комедии» и прежде всего быт в его резко
натуралистическом плане.
Когда Полифем хватает двух товарищей Одиссея, чтобы их съесть, он
предварительно разбивает их об землю, так что из них выскакивает мозг и забрызгивает
собою все помещение; а Полифем разрезает их на части и только уже потом съедает их
вместо ужина (Од., IX, 288-294). Об этом Полифем в дальнейшем вспоминает еще раз (458
сл.). Когда же этот Полифем съедает еще двоих товарищей Одиссея и напивается пьяным,
его начинает рвать кусками человеческого мяса и вином (373 сл.). Одиссей втыкает
горящий кол в единственный глаз Полифема, глазное яблоко у Полифема лопается, и
жидкость, наполняющая глаз, начинает шипеть наподобие того, как шипит вода, если в нее
окунуть раскаленный металл (388-394).
Одиссей собирается пустить кровь Иру (XVIII, 21 сл.), а тот грозится выбить зубы у
Одиссея (28). Антиной тоже грозит Иру отрезать ему нос и уши, вырвать половой орган и
отдать его на съедение собакам (85-88). Когда Одиссей ударил Ира под ухом, то он
раздробил ему кость, багровая кровь бьет у Ира изо рта, сам он падает в пыль и бьется
пятками оземь (95-99). [200] После этого победитель Одиссей уплетает козий желудок,
наполненный жиром и кровью (118-120).
Черты грубого натурализма и комизма имеются не только в более поздней
«Одиссее», но и в более ранней и в более строгой «Илиаде». Приведем один весьма яркий
пример такого рода сниженного эпического стиля – случай с Аяксом во время состязаний
в честь Патрокла. Аякс и Одиссей, как известно, ненавидящие друг друга конкуренты.
Афина Паллада, покровительница Одиссея, не хочет, чтобы награда досталась Аяксу. И
она заставляет этого последнего поскользнуться на куче бычачьего помета. Аякс не только
поскользнулся и упал, но этот помет попадает ему в ноздри и в рот. Он начинает
отплевываться вместо того, чтобы быть первым в беге, а окружающие его ахейцы весело
смеются (Ил., XXIII, 774-784). Перед нами здесь комическая сцена, причем комизм этот
достаточно грубый и натуралистический, если иметь в виду общий возвышенный стиль
«Илиады».
7. Реторика и сентенциозность. Наконец, весьма существенными чертами
гомеровского стиля является сильный реторический элемент и огромное количество
сентенций, которые попадаются решительно в каждом маленьком эпизоде. Обе эти черты
тоже свидетельствуют о высокой культуре слова, возможной только в тот поздний период
устного и письменного творчества, куда мы относим Гомера. И специально они
свидетельствуют об огромном интеллектуальном заострении, к которому постепенно
приходил старый, наивный и простодушный эпос.
а) Реторика. Последующие античные теоретики ораторского искусства с полным
правом ссылались на Гомера, как на первого учителя красноречия. Как легко заметить
даже с первого взгляда, обе гомеровские поэмы буквально переполнены, речами, а
некоторые песни, как например IX песнь «Илиады» целиком состоят только из одних
речей. У Гомера справедливо находили изображение и разных типов ораторов (Менелай,
Нестор, Одиссей), и искусное членение речей, и высокую народную и общественную
оценку оратора, и глубоко-жизненное, практически-эффективное значение речей в самые
критические моменты изображаемых событий. Правда, является большим искусством
придерживаться эпического стиля, который по самой своей сущности часто требует речей
там, где ввиду быстроты протекания событий речь практически была невозможна, а был
возможен только какой-нибудь выкрик или краткая фраза. И вообще речь как элемент
гомеровского стиля – это огромная проблема, указать на которую совершенно необходимо.
Некоторые интересные сведения об ораторском искусстве Гомера и об отношении к
нему последующей реторики можно найти в работе М. М. Покровского «Homerica».31)
[201]
б) Сентенции. В план настоящей работы не входит исследование одного из
важнейших вопросов гомеровского стиля, именно постоянного употребления сентенций.
Этими сентенциями пересыпан буквально весь Гомер. Они свидетельствуют о наличии у
Гомера огромного жизненного опыта, глубокомысленных и вековых размышлений и о
тенденции обобщать свои наблюдения, фиксируя их в виде кратких, острых и
содержательных афоризмов. Сентенции у Гомера характеризуют и психологию отдельного
человека, и общественные обычаи, отражают и военные наблюдения, и моральные
раздумья, и вопросы о человеческой жизни, ее происхождении и назначении, об
отношении между богами и людьми, и о самих богах, и вообще о высших силах.
Проблема сентенций у Гомера как проблема его стиля и мировоззрения, взятых в их
целостном единстве, еще далека от разрешения в современной науке, где до сих пор мы
имеем по преимуществу только те или иные выборки из этих сентенций или некоторые
слабые попытки их классифицировать. Укажем на работу Е. Stickney, Les sentences dans la
poésie grecque d'Homére à Euripide, Par., 1903.
IV. Принципы свободноэпического стиля
1. Единство новых стилей у Гомера. При характеристике зарождения новых стилей
у Гомера в сравнении со стилем строго-эпическим законен такой вопрос: неужели
зародыши всех этих новых стилей существуют каждый сам по себе и никак не связаны ни
между собою, ни с основным, строго-эпическим стилем? Безусловно все эти новые
стили связаны между собой и связаны с основным эпическим стилем. Объективно
существует только один и единственно художественный стиль Гомера, единый и
нераздельный, целостный и нерасчлененный, как едина и нераздельна всякая
художественная картина и всякое произведение красоты природы. Наука может и должна
сколько угодно расчленять и разделять элементы стиля. Но если взять эти новые стили у
Гомера, то, конечно, под ними лежит одна и единственная художественная установка, один
и единственный художественный стиль, который необходимо самым тщательным образом
учитывать, чтобы не получилось эклектизма. Как же характеризовать и резюмировать
самый этот свободный эпический стиль? Он возникает на основе того нового отношения
личности к общинно-родовому строю, которое стало возможным только в период
разложения этого последнего. Эта новая личность еще не порвала с общинным родовым
строем и продолжает жить ресурсами этого последнего. Но ее сознание уже далеко
выходит за пределы общинно-родового строя, оно уже имеет возможность [202]
рассматривать его как бы извне, рассматривать критически, эстетически, художественно,
далеко от слепой преданности ему и далеко от всякой наивности.
Эпический художник, создающий гомеровские поэмы, определенным образом
рефлектирует над всей общинно-родовой формацией. У него еще не найдем никакой
другой общественно-экономической формации, которую бы он признавал, изображал и
восхвалял. Вот эта рефлексия, рассмотрение всей общинно-родовой формации извне и
есть основа для всех тех новых социально-исторических тенденций, которые образуют
собою в своей общей совокупности свободный эпический стиль. Выше отмечалось, что
решительно все принципы строгого эпического стиля деформируются у Гомера в
направлении свободного эпического стиля.
2. Ретроспективный и резюмирующий взгляд. Начало историзма. Рассмотрение
всей общинно-родовой жизни со стороны приводит прежде всего к тому, что эпический
художник уже теряет связь с какими-нибудь отдельными ее периодами, а она предстоит
перед ним во всей своей целостности и завершенности, так что ему одинаково
интересными оказываются и самые древние и новые и новейшие ее периоды.
Все периоды общинно-родовой формации, начиная с кровнородственной семьи, с
одинаковым и вполне равным интересом представлены у Гомера так, как будто бы они
были его современностью. Это же касается и художественного стиля Гомера. Тут мы
находим и стародавние песни и гимны, вплоть до заговора, который, правда, хоть и
единственный раз, но все-таки упоминается у Гомера (Од., XIX, 457 сл.).
Все это назовем ретроспективным и резюмирующим отношением эпического
художника к тысячелетнему художественному наследию, которое было создано общинно-
родовой формацией ко времени ее разложения. Никак невозможно допустить, что в эпоху
такой разносторонней и тонкой цивилизации, в которой вырос Гомер, этот последний мог
всерьез думать, что кто-то в его время женит своих шестерых сыновей на своих же
собственных шестерых дочерях, как это делает Эол в «Одиссее» (X, 7). Конечно, эта
стародавняя и дикая кровно-родственная семья выступает в поэмах Гомера только в виде
материалов для его исторических обобщений, только в виде ретроспективного и
резюмирующего отношения его ко всей истории общинно-родового строя. Но ясно, что
такое отношение могло создаться у эпического художника только в результате того, что он
рассматривает весь общинно-родовой строй и всю его историю извне, со стороны, как
предмет высокоразвитой рефлексии.
В связи с этим возникает та великая особенность гомеровского творчества, которая
заставляет нас признать гомеровские поэмы первой ступенью греческого исторического
сознания. Б. Снелль (не берем на себя ответственность [203] за его общие взгляды)
правильно рассматривает Гомера именно как исток исторического сознания у греков.32)
Греческая историография и прежде всего Геродот возводят себя к эпосу и
используют его как источник. Глиняные и бронзовые изображения из области
героического мира известны нам только как возникшие под влиянием эпоса. Эпос впервые
мыслит себя изображением исторического прошлого и в этом смысле он особенно далек
от фантастического мифа или сказки. Изображенные в нем народы мыслятся реально
существующими.
Герои эпоса сами устанавливают свою генеалогию и заботятся о своей славе в
позднейшей истории. Этими генеалогиями пользуются и Геродот и Гекатей, объединяя
настоящее с прошлым и будущим в одну цельную и причинно обусловленную систему.
Эпос замечательным образом «расколдовывает» миф и сказку; и сверхъестественное
вмешательство богов начинает мыслиться здесь как бы вполне естественным образом, без
помехи для исторических мотивировок. К. Рейнгардт показал, что в «Илиаде» боги в
известной мере становятся великими за счет людей и отличаются от них только
бессмертием. Люди, завися от богов, прекрасно понимают все опасности своей жизни.
Боги у Гомера, по Снеллю, недостаточно серьезны для того, чтобы существенным
образом определять собою ход истории, который все больше и больше начинает
определяться своими внутренними закономерностями, в противоположность «кроваво-
серьезным» восточным или германским мифам, не исключая находящегося под восточным
влиянием Гесиода.
Мотивировка в «Киприях» Троянской войны как решение Зевса помочь Земле
усилила историзм, связывая всю троянскую мифологию в единое и последовательное
развитие событий; и эта мотивировка ослабила поэтическое достоинство эпоса, мешая
самостоятельности героических действий. Вместе с тем значительно усилилось
противопоставление греков и варваров, которое у Гомера едва заметно, но очень заметно в
истории эфиопа Мемнона и амазонки Пентесилеи, ставших на сторону троянцев.
У Геродота это противопоставление греков и варваров еще больше, но он связывает в
единое целое современную ему историю с мифическим прошлым, и современность у него
мотивируется этим последним. Боги у него уже не вмешиваются в историю, и он вместе с
Гесиодом (Theog. 31, 38) хочет давать в связанном виде прошлое, настоящее и будущее,
хотя его история является только весьма пестрой книгой с отдельными иллюстрациями.
Но это уже не точка зрения гомеровского жреца Калханта (Ил., I, 70), который тоже
должен видеть прошлое, настоящее и будущее, но, очевидно, не в их взаимной связи, но
скорее в их детальном [204] изображении. В то же самое время Геродот пытается
различать в мифах надежное от ненадежного и связывает свою историю с тем, что он
считает надежным, или с тем, что он сам реально видел в своих путешествиях. Так из
эпоса родилась в Греции историография. Если ритмическое чередование счастья и
несчастья имеет для Архилоха индивидуальный смысл и он утешает им самого себя, а
Пиндар во II Олимпийской оде то же самое относит к целым поколениям людей, внося в
эту концепцию тот же мотив утешения, то Геродот, отбросивши легкомысленных богов,
говорит о божественном начале тоже как о принципе чередования благополучия и
неблагополучия, но он уже не гонится за утешением и поступает как живописатель
объективного процесса истории.
Таким образом, гомеровское творчество, имея в виду его ретроспективно-
резюмирующий характер, впервые «расколдовывает» древний миф и сказку, впервые
пытается соединить в одном художественном обозрении прошлое, настоящее и будущее,
впервые рождает в Греции элементы вообще исторического сознания. От него рукой
подать до первых греческих историографов. Выражаясь словами В. Шадевальдта (в том
же сборнике К. Рейнгардта, стр. 4), Гомер зависит от прошлого гораздо больше, чем можно
себе представить, но он проявляет эту зависимость с необыкновенно тонкой простотой.
3. Социально-исторические комплексы. Из ретроспективно-резюмирующего
характера гомеровского эпоса вытекает еще и другая особенность свободного эпического
стиля у Гомера. Не зная законов истории в нашем смысле слова и относясь некритически к
самому разделению исторических периодов, Гомер вполне естественным образом
соединяет несоединимое и создает такие образы, в которых объединяются элементы
самых разнообразных эпох и исторического развития.
Сирены, например, это людоеды, тем не менее завлекают они к себе красивейшим и
художественнейшим пением, которое завораживает всякого путника и увлекает любого
слушателя. Но когда люди были людоедами, они не обладали столь совершенной
эстетикой, возможной только в периоды высокого развития цивилизации. А когда люди
артистически создают увлекательнейшую музыку, то в это время они уже не людоеды. А у
Гомера то и другое, людоедство и высочайший художественный артистизм, даются в
одном и том же образе.
Кирка у Гомера – красивая, разодетая женщина, знающая тонкость любовных чувств,
и к тому же прекрасная певица. Но вот оказывается, что она превратила спутников
Одиссея в свиней. Помирите одно с другим, женские туалеты и музыку высокой
цивилизации с колдовством и чародейством, – и вы получите образ гомеровской Кирки.
Подобного рода примеров у Гомера можно найти сколько угодно. Уж куда, казалось
бы, реальнее у Гомера Ахилл со [205] своим знаменитым гневом, со своими капризами, со
своей жестокостью, а он ни больше и ни меньше, как сын морской царевны. Его
психология есть уже, несомненно, продукт высокой цивилизации, когда людей уже не
производят от богов. Тем не менее в Ахилле то и другое вполне мирно уживается.
Души умерших в Аиде, согласно основному представлению Гомера, являются только
бессильными и даже бестелесными тенями, которые даже нельзя схватить рукой, как
нельзя схватить рукой, например, воздух или дым. Но вот оказывается, что эти тени пищат
наподобие птиц. Это уже совсем не воздух и не дым. Или эти тени, оказывается, могут
пить кровь. После вкушения крови они получают память, мышление, речь, что уже совсем
погружает нас в дебри самых извилистых путей развития фетишизма. В гомеровском Аиде
находятся такие, например, герои, как Тиресий, которые вовсе никогда и не теряли
мышления и речи и не нуждаются в крови для восстановления сил, а разговаривают и
даже пророчествуют так, как будто бы они и не умирали.
Все это представляет собою бесчисленные у Гомера мифологические, а, значит, и
социально-исторические комплексы, являющиеся результатом его ретроспективного и
резюмирующего отношения к мифологии, и входит как необходимое слагаемое в его
свободный эпический стиль.
4. Вольное, но в то же время эстетически-любовное, снисходительное отношение
к наивностям мифологии. То, что из этого рассмотрения мифологии со стороны
рождается чрезвычайна вольное к ней отношение, это ясно само собой, и подобных
примеров мы находили достаточно. Можно без всякого преувеличения сказать, что Гомер
попросту подсмеивается над своими богами, демонами, героями, допускает любую их
критику и даже, унижение и произвольно комбинирует любые мифы и мифологические
мотивы, откровенно приправляя их свободной, вполне субъективной, вполне
вымышленной поэзией. Это непреложный факт гомеровского способа изображения богов,
демонов и героев. Но вот что интересно.
Оказывается, при всех вольностях и при всем критицизме, эпический художник,
скрывающийся под именем Гомера, чрезвычайно любит всех этих своих богов, демонов и
героев. Он прямо-таки любуется на них. Он относится к ним с нежностью и с каким-то
даже покровительством или снисходительностью. Нигде не видно, чтобы Гомер
целиком отрицал всю эту мифологию. Наоборот, он ведет себя так, что читатель всерьез
верит в его наивность и всерьез думает о детской нетронутости его мировоззрения. Только
критический глаз современного исследователя способен заметить здесь шатание
мифологии, ее тонкую и едва заметную критику и снисходительное отношение взрослого
человека к наивным мифологическим воззрениям подрастающего ребенка. [206]
Невозможно поверить, чтобы эпический художник, способный изображать богов,
демонов и героев в таком смешном виде, действительно признавал мифологию во всем ее
буквальном реализме. Но отрицания мифологии здесь тоже нет.
Есть оценка мифологии как наивного мировоззрения и как наивного стиля, но в то
же самое время – нежная любовь к этим наивностям, снисходительное к ним отношение,
такое, какое бывает у взрослого в отношении ребенка или подростка.
Тут кроется у Гомера очень тонкое отношение ко всему общинно-родовому строю и к
его идеологии, т. е. мифологии. И тут невозможно никакое упрощение, никакое
формалистическое противопоставление стилей.
Критицизм и любовь, сниженная расценка и нежность, оценка жизни как детской и
возвышенное к ней отношение, разоблачение и покровительство, снисходительность – вот
та замечательная игра и борьба противоположностей у Гомера, единство которых и
образует у него собою характеризуемый нами свободный эпический стиль.
5. Тонкая юмористика, доходящая до благодушной иронии, и в то же время
наивная серьезность. Ту же самую борьбу и единство противоположностей в
художественном стиле Гомера необходимо характеризовать еще и с другой стороны. Дело
в том, что по обеим гомеровским поэмам разлита особого рода тонкая юмористика.
Эта юмористика не всегда невинна. Иной раз она вполне определенно дорастает до
самой настоящей иронии, хотя, правда, всегда благодушной. Никакого сарказма или
злопыхательства в художественном стиле Гомера мы не найдем. Но иронии можно найти у
Гомера сколько угодно. Русский исследователь середины прошлого века И. Пеховский
написал целую книгу на латинском языке под названием «Об иронии в «Илиаде».
Возьмите, например, такую благодушную личность, как Нестора. Он славится в
«Илиаде» своей мудростью и еще, больше того, постоянной любовью к разговорам, где
надо и где не надо. Пожалуй, в этой фигуре есть не только нечто юмористическое, но даже
и ироническое. Эта всегдашняя важность и почтенность Нестора, его разговорчивость, его
манера вмешиваться во все, правда, всегда корректно производит какое-то ироническое
впечатление.
Обольщение Зевса Герой на горе Гаргаре невозможно принять за что-либо серьезное.
В изображении этой мелкой зависимости Зевса от прелестей Геры есть что-то слегка
комическое, хотя и весьма добродушное; и в то же самое время здесь нельзя не заметить
со стороны поэта той легкой иронии, которая придает невинную прелесть всему этому
«обольщению».
Когда начинает разгораться ссора между Иром и Одиссеем, в той кабацкой
атмосфере, которую создали в доме Одиссея женихи, то вдруг говорится (Од., XVIII, 34),
что эта ссора не [207] укрылась от «Антиноевой силы священной». Эта «Антиноевая сила
священная», метонимически употребляемая вместо имени «Антиной», может быть, и
понимается у Гомера буквально в применении к какому-нибудь Алкиною, царю феаков
(Од., VIII, 385), но в применении к буйным женихам, грабителям и пьяницам, подобное
выражение можно понимать только иронически.
Юмор и ирония являются самыми необходимыми слагаемыми в той сложной сумме,
которую мы называем свободным эпическим стилем.
Но опять-таки здесь ни в коем случае нельзя впадать в какую-нибудь крайность:
принижать гомеровской серьезности никак нельзя. В том-то и заключается вся
удивительная сложность и в то же время так непосредственно воспринимаемая простота
художественного стиля Гомера, что ирония и юмор сплетаются и даже отождествляются с
весьма серьезным отношением к жизни. Ахилл гневается всерьез, и заваливает он все поле
сражения троянскими трупами. Да и Одиссей укладывает женихов и казнит неверных слуг
тоже всерьез, а не ради юмора. И вообще содержание обеих поэм в основном весьма
серьезное, даже трагическое, тут не до шуток и не до комедий. Но надо сказать, что вся эта
серьезность какая-то наивная. Все это есть то, что можно называть детством человечества.
Ирония и юмор, столь обильно представленные у Гомера, самым причудливым
образом переплетаются у него с этим серьезным отношением к жизни, как бы это
отношение ни было наивным.
6. Бодрая жизнерадостность и неутомимость, несмотря на постоянные
страдания и несчастья. Это здоровое и наивное сознание гомеровского грека, может
быть, определяет собою также и бросающуюся в глаза его жизнерадостность, его вечную
бодрость и неутомимость и какую-то безболезненность в перенесении страданий.
Страданий у Гомера изображено очень много. Можно сказать, что обе поэмы прямо
переполнены изображением человеческого страдания. Но в то же время у Гомера поражает
эта бесконечная выносливость и оптимизм, не покидающие его героев в самые
трагические минуты их жизни.
Вспомним «многострадального» Одиссея, ушедшего на войну тотчас же после
вступления в брак и рождения ребенка и терпевшего все невзгоды войны и послевоенного
скитальчества целые 20 лет. Одиссей – одно из самых последних созданий ионийского
гения, настолько же подвижного, предприимчивого, смелого, решительного и всегда
бодрого, насколько и чувствительного, многострадального и терпеливого во всех
несчастьях жизни. Одиссей – это одна из самых последних и завершительных идей
эпического творчества. А, следовательно, совмещение бодрости и нескончаемых
страданий – это есть последнее достижение гомеровского творчества, достижение яркое,
поражающее своей силой, и духовно прекрасное. [208]
Задаваясь вопросом о том, в каком стиле поднесены у Гомера герои и вся их жизнь,
невозможно пройти мимо столь разительного совмещения человеческих свойств, обычно
трудно совмещаемых и возникающих в жизни как неимоверная редкость и недостижимый
героизм.
7. Вольно-эстетическое свободомыслие. Наконец, следует указать еще одну черту
свободного эпического стиля у Гомера – это большое свободомыслие поэта, который
никогда и нигде не унывает, но везде находит предметы для своего рассмотрения и
интереса, а то и прямо любования. Перед нами здесь люди, которых необходимо считать
сильными натурами и независимыми деятелями. Они ровно ничего не боятся. Они
свободно странствуют, где им захочется или куда закинет их судьба; и для них все
решительно в жизни интересно. Такие эпитеты, как «прекрасный» или «божественный»,
применяются у Гомера ко всем предметам без всякого исключения, ко всем вещам и
лицам. Можно прямо сказать, что роскошь, обилие, полнота и цветущее состояние
жизни являются у него самыми настоящими принципами изображения действительности.
У него никогда нет будней. Для него жизнь вечно празднична, вечно торжественна, всегда
неистощима в своей стихийной красоте, в своей неисчерпаемости, в своей неутомимой
пульсации. Для Гомера нет ничего непрекрасного. Этот свободный и независимый дух
ионийского поэта веет у Гомера решительно с каждой страницы и с каждой строки.
Потому-то и остался Гомер таким нерушимым художественным авторитетом на всю
античность, да и не только на античность. Если бы Гомер отражал собой только одну
общинно-родовую формацию, он был бы забыт вместе с гибелью этой последней. Если бы
он отражал собою только одну рабовладельческую формацию, он тоже не остался бы
известен после ее разложения. Но все дело в том и заключается, что он отражает не то и не
другое. Он достаточно освободился от общинно-родовой формации, чтобы рассматривать
ее со стороны. А это уже ставит его выше родоплеменной общины, как бы он ни был с
нею связан фактически. С другой стороны, – и это мы тоже очень хорошо знаем, – у него
еще нет никакой рабовладельческой идеологии, а скорее есть ее предчувствие и, даже
больше того, ее осуждение. Промежуточное положение между двумя начальными
формациями, при всей его зависимости от них, в значительной мере освободило его от
них. Он взял от первой формации ее мифологию, но обезвредил, перенеся в
художественную область; и он взял от рабовладельческой формации ее свободомыслие, но
обезвредил его своей наивностью. Получилось то удивительное гомеровское
свободомыслие, гомеровское вольно-эстетическое свободомыслие, которого не было ни у
кого ни до него, ни после него и которое поставило его выше этих двух эпох, а заодно и