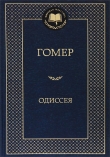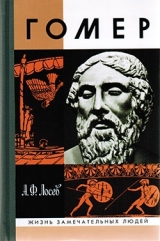
Текст книги "Гомер"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 32 страниц)
Такие термины, как cleos («слава»), cydos («слава»), amymōn («безупречный»), eys
(«хороший»), dios («божественный», «светлый»), theios («божественный»), agathos
(«хороший»), esthlos («благородный»), саcos («дурной»), ameinōn («лучший»), cheirōn
(«худший»), aretē («добродетель», «доблесть»), гораздо больше связаны с благородством
происхождения, физической силой и храбростью, чем с какими-нибудь нравственными
качествами. Например, за некоторым исключением cleos относится к области военных
подвигов и прямо отождествляется с ними (Ил., V, 172, VII, 91, Од., VIII, 147, IX, 264).
Arete тоже относится прежде всего к военным делам и состязаниям (Ил., VIII, 535, XI, 90,
XIII, 237, XX, 242, Од., VIII, 237, XXI, 187, XXII, 244, XXIV, 515), далее, к общим
качествам человека (Ил., IX, 498, XIV, 118, XXIII, 578; Од., II, 206, IV, 629, VIII, 244, XIII,
45, XVIII, 133). К моральной области этот термин относится только в четырех текстах, да
и то в позднейшей «Одиссее» (XIV, 402, XVII, 322, XXIV, 193, 197). Моральный человек у
Гомера – это красивый, сильный, умный, красноречивый, благородного происхождения
человек, которому сопутствует счастье и слава.
Моральные оценки у Гомера не отсутствуют. Но их очень трудно отделить от
естественного хода событий и фактического развития самой действительности. Конечно,
до некоторой степени можно находить нечто этическое в таких гомеровских терминах, как
hybris («дерзость», «надменность»), hyperphialos («высокомерный», «наглый»), athemistos
(«беззаконный», «нечестивый»), atasthalos («нечестивый», «дерзкий»), alitros
(«нечестивый»), aisimos («определенный судьбою», «разумный»), eyergos («хорошо
поступающий», «честный»). Однако здесь нет нравственности как таковой. О храбрости,
например, у Гомера можно читать очень много. Но считать ее добродетелью у Гомера едва
ли можно, потому что она у него ничем не отличается просто от физической силы.
Различать alcimos («сильный», «храбрый») и iphthimos («физически сильный») у Гомера
очень трудно. Храбрость, мало отличимая от физической силы, также мало отличается от
благородного происхождения. Знаменитые гомеровские термины – carterothymos
(«сильный духом»), craterophrōn (тоже), megathymos («мужественный»), megalētōr (тоже),
hyperthymos («весьма мужественный»), hypermenēs («весьма могучий»), одинаково
относятся и к области морали и к области естественного темперамента. Термины enēēs
(«кроткий», «ласковый»), aganos («кроткий»), указывающие на мягкость и приветливость,
относятся у Гомера гораздо больше к эстетическому идеалу, чем к идеалу этическому. Это
скорее какая-то наша «любезность».
Несколько больше имеет нравственный смысл слово philein [177] («любить»,
«дружить»). Однако здесь идет речь главным образом об естественной склонности одного
человека к другому; но очень мало заметно элементов какого-нибудь долга, обязанности
или признаваемой нравственной необходимости. Может быть, только гостеприимство
является у Гомера намеком на нравственное обязательство.
Термины, относящиеся у Гомера к нечестности или неправдивости, тоже имеют
весьма слабый моральный смысл, потому что эта нечестность и неправдивость не только
не порицаются, но иной раз даже и восхваляются или изображаются в нравственном
смысле безразлично. Решительное порицание чего-нибудь у Гомера почти отсутствует.
Когда у Гомера что-нибудь порицается, это не имеет нравственного смысла уже по одному
тому, что у него вообще порицается все что угодно. Themis и Dicē, обычно относимые к
области права и нравственности, у Гомера являются не больше, как результатом привычки.
Это и понятно, потому что в эпоху Гомера не существовало никакого писанного
законодательства и все нормы поведения более или менее зависели от разных обычаев.
Более нравственный смысл имеет выражение themis estin. Но переводить его в
зависимости от контекста приходится самым разнообразным способом: «позволено»,
«существует обычай», «естественно», «установлено». Абстрактное значение
справедливости имеет dicē только в Ил., XVI, и Од., XIV, 84. В этом же смысле
употребляется и dicaios («справедливый»), т. е. в смысле традиционных обычаев и
привычек. Нравственно прекрасное и нравственно безобразное не являются здесь
противоположностями, а только разной степенью одного и того же. И хотя мудрость как
интеллектуальная добродетель является кардинальной добродетелью гомеровской эпохи,
понимать ее этически нет никакой возможности. Бесчестие, наносимое одним человеком
другому, обозначается теми же терминами, что и стыд, переживаемый тем, кто свершил
нравственный проступок. Внешний ущерб имел иной раз гораздо более глубокое значение,
чем ущерб нравственный.
На первый взгляд наибольшим моральным содержанием обладают такие термины у
Гомера, как amymōn («безупречный»), ēys («хороший»), agathos («хороший», «добрый»),
aretē («добродетель», «доблесть»). В некоторых отдельных случаях это действительно
можно предполагать. Но насколько это нравственное значение проводится у Гомера
сознательно, остается под большим вопросом. В термине cacos («дурной») граница между
моральным и неморальным у Гомера тоже весьма текучая. В терминах agathos
(«хороший») и esthlos («благородный») тоже не чувствуется моральной специфики, т. к.
эпитеты эти применяются к людям самым разнообразным по своим нравственным
качествам.
Весьма характерно для этической терминологии Гомера то обстоятельство, что
только в терминологии мужества, храбрости [178] и выносливости преобладают
положительные термины, в остальных же случаях безусловно превалируют термины
отрицательные. Многочисленным терминам, выражающим насилие и несправедливость,
противостоит ничтожное количество противоположных положительных терминов вроде
aisimos («приличный», «подобающий») или cat alsan («как следует», «как нужно»).
Многочисленным терминам со значением «коварство» только и можно противопоставить
pistos («верный», «правдивый») и аlēthēs (с тем же значением). А подавляющее
большинство отрицательных нравственных терминов просто не имеет никаких
положительных эквивалентов. Термины права и обычая с нравственной точки зрения,
казалось бы, должны были выступать одинаково как положительные, так и отрицательные
термины. Но athemistos («беззаконный») есть термин отрицательный, а для термина dicaios
(«справедливый») не существует отрицательного adicos («несправедливый»), да и сам этот
термин dicaios в большинстве случаев имеет у Гомера отрицательное значение;
(«Стыдиться» тоже имеет у Гомера отрицательное значение), а chrē («нужно»,
«необходимо») и ophellō («я должен», «я обязан») меньше всего имеют отношение у
Гомера к внутреннему сознанию совести.
Это преобладание отрицательных терминов в области гомеровской этики вполне
понятно. Ведь красота, сила, храбрость и прочие высокие качества человека у Гомера еще
не являются нравственным идеалом; и нравственность для Гомера удобнее изображать в
отрицательном смысле, поскольку его идеал человека еще не содержит в себе моральных
свойств в их развитой форме. Поэтому легче изображается отрицательное, чем
положительное.
Мартин Гофман относится скептически к мысли о том, чтобы находить у Гомера
отражение разных периодов этического развития в противоположность такой, например,
терминологии, как терминология оружия. Правда, в «Одиссее» содержится гораздо
большее количество этических терминов, чем в «Илиаде». Такие термины, как cacós
(«дурной»), dicaios («справедливый»), atasthalos («глупый», «безумный»), athemistos
(«беззаконный», «нечестивый»), имеют в «Одиссее» гораздо чаще моральный смысл, чем
в «Илиаде». Dysmenēs («враждебный») и anarsios («неприязненный»), кроме «Илиады»
(III, 51), только в «Одиссее» и имеют моральное значение. То же самое нужно сказать и о
таких терминах, как cleos («слава») и aretē («доблесть», «добродетель») . Совершенно
новыми в этом смысле являются термины hosios («священный»), eyergos («честный»),
eyergesiē («благодеяние»), theoydēs («богобоязненный»). Однако вся эта моральная
новизна «Одиссеи» объясняется, по Мартину Гофману, по преимуществу тематикой этой
поэмы (приключения Одиссея, поведение Пенелопы, борьба с женихами, поведение слуг)
и, может быть, более поздним происхождением самой поэмы. Но в [179] связи с
соответствующей тематикой можно находить элементы этической терминологии также и в
«Илиаде». Поэтому для решения гомеровского вопроса анализ этической терминологии,
по Мартину Гофману, не имеет никакого значения. Наконец, для правильного понимания
всего огромного значения этической терминологии Гомера надо помнить то, что Мартин
Гофман склонен забывать границы терминологического исследования. Именно
терминология еще не составляет всего языка Гомера и не отражает всех его
выразительных возможностей. Язык вообще не является простой суммой слов, хотя бы эти
слова и были самыми точными, самыми яркими терминами. Поэтому отрицательные
выводы, которые дает терминологический анализ в области гомеровской этики, отнюдь
еще не являются окончательными, и они могут иметь место наряду с положительными
элементами этического мировоззрения. Не входя в подробности, укажем только на ряд
героев, изображенных у Гомера в его Аиде, т. е. в XI песне «Одиссеи».
Тиресий, хотя и пьет кровь перед своим пророчеством Одиссею (98 сл.), тем не
менее ввиду своих высоких моральных качеств вполне сохраняет свой пророческий дар в
том же виде, в каком он имел его и на земле. Таков же Минос, который судит умерших,
приходящих в Аид (568 сл.). Характерно самое проведение этого суда, свидетельствующее
о наличии каких-то безусловных моральных принципов. Несомненно, только
прогрессирующая мораль способна была создать те образы знаменитых грешников,
которые мы находим в Аиде, – Тития, Тантала, Сисифа (576-593). Несомненно, новым
моральным сознанием продиктовано и водворение Геракла на небе ввиду его
общеизвестных и неизмеримых заслуг перед людьми и Зевсом (602 сл.). Таким образом,
как бы мы ни расценивали этическую терминологию Гомера, Гомер, если не в самих
терминах, то, во всяком случае, путем изображения героизма вообще вполне дошел до
морального сознания или находится, так сказать, у самых его истоков. Этот моральный
идеал гораздо более позднего происхождения, чем общегомеровская естественная и
физически непосредственная этически-эстетическая картина жизни.
в) Эпическая религия. Наконец, тем же самым природно-телесным и
самостоятельно-материальным характером отличается гомеровская религия. У Гомера,
правда, не говорится, что боги произошли из земли; Гомер для этого слишком культурен и
цивилизован. Но по Гомеру (Ил., XIV, 201), боги произошли от Океана и Тефии. А это
мало чем отличается от чисто земного их происхождения. Боги у Гомера вовсе не
бесплотные духи. Каждый из них обладает своим собственным телом, хотя оно может
быть и таким, что человек его не видит. Они далеко не все знают и не все могут, и их
нетрудно обмануть. Вместе с людьми они воюют, дерутся между собою, да и люди их
могут ранить. Они вступают в брак с людьми, ревнуют, [180] друг другу изменяют. От
богов происходят все герои, или непосредственно или через ряд поколений. Боги
нуждаются в жертвоприношениях со стороны людей, т. к. без этих жертв им голодно. У
Гомера, как, впрочем, и у всех античных авторов, совершенно нет никакого представления
о творце и творении. Понятие творения возникает только в монотеистических религиях.
14. Общий обзор всех рассмотренных выше основных принципов эпического
стиля. Эпический стиль возникает из примата общего над индивидуальным. Это,
первопринцип стиля Гомера. Именно, если общее становится на место личного, то ясно,
что личность выступает здесь в неразвитом и примитивном виде. Поэтому, все, что в эпосе
излагается, излагается без всякой критики и вполне легковерно. Отсюда:
I. Объективность эпоса.
Отсюда для всякого эпического изображения жизни характерны:
II. Обстоятельная деловитость эпоса.
III. Живописность и пластика изображений, а также
IV. Антипсихологизм и чисто вещественное изображение всякого внутреннего
переживания.
Но личность, в которой еще не проснулось ее непостоянное «я», всецело предана
тому общему, порождением чего она является, т. е. своему родоплеменному коллективу.
Отсюда же вытекает преданность всему тому, что получено от предков, т. е. всему
великому и значительному, что неизбежно становится непоколебимым авторитетом, когда
исключено или, вернее, когда еще не развилось в личности ее «я» со всем эгоизмом и
капризами текучих и своевольных переживаний. Поэтому понятно, что к числу основных
принципов эпического стиля обязательно относятся:
V. Традиционность и
VI. Монументальность эпоса,
VII. Отсутствие в нем мелочей и
VIII. Уравновешенно-созерцательное спокойствие свободно-героического духа.
Все эти принципы художественного стиля эпоса концентрируются в одном, который
одинаково относится и к стилю, и к мировоззрению, и к образу жизни эпического
человека. Это принцип эпического героизма. Без него все остальные принципы
оказываются разъединенными и теряют свою цельность и свое оформление, которое
властно требуется самой спецификой гомеровского творчества. Для объективности эпоса
должен быть тот ее реальный носитель, без которого она остается только абстрактным
понятием. То же самое надо сказать и о пластике эпоса, о его монументальности, об его
традиционности и т. д. Реальным носителем всех этих особенностей эпического стиля и
является герой, понимаемый как продукт общинно-родовой формации периода цветущего
патриархата, т. е. как индивидуальное [181] воплощение самой же патриархальной
общины. Только в этом принципе эпического героизма впервые находит свою
завершительную характеристику порожденный родовой общиной или родоплеменным
коллективом примат общего над индивидуальным.
III. Зарождение новых стилей и жанров, кроме героической поэмы.
1. Неизбежность зарождения новых стилей. В Гомере перекрещивается несколько
социально-исторических эпох, и сам он уже продукт далеко зашедшего общинно-родового
разложения. Следовательно, и сам эпический стиль уже колеблется у Гомера. Гомеровские
поэмы оказываются лоном зарождения уже новых стилей, а потому и новых жанров;
поскольку всякий жанр есть только реализация того или иного стиля. Правда, жанр
гораздо шире стиля, поскольку одно и то же художественное произведение может
отличаться разными стилями, которые то гармонируют один с другим, то противоречат
друг другу и не создают общего стиля, причем подобного рода противоречия бывают
характерны иной раз даже и для больших произведений искусства. И если у Гомера
зарождаются разные стили, то это значит, что у него зарождаются разные жанры.
Уже Белинский прекрасно себе представлял эту сложность и смешанность
эпического стиля у Гомера, возникшую в связи с поздним характером его творчества. Он
писал (Полн. собр. соч., 1953, III, 308):
«Гомер должен быть предметом особенного изучения из всех поэтов Греции, потому
что он, так сказать, отец греческой поэзии, заключивший в своем великом создании всю
сущность поэзии своего народа, так что впоследствии из «Илиады» развилась лирика и
особенно драма греческая: в ней скрывались их начала и стихии».
Белинский проникновенно пишет об особенностях «Илиады» – этого вечно живого
слова, субстанциального источника жизни греков, из которого истекла вся дальнейшая их
литература и знание и в отношении к которому и трагики и лирики их, и сам философ
Платон – только его развитие и дополнение» (IV, 418).
2. Эпический стиль.
а) Сказка. Сказка отличается от мифа тем, что она изображает чудесное уже без веры
в его полную реальность, но с оценкой его как известного рода вымысла, преследующего
чисто занимательные цели. По своему содержанию сказочные мотивы – большею частью
очень древние и когда-то были самой настоящей мифологией. Но в гомеровскую эпоху
многие старинные мифы уже потеряли свой реализм и уже начинали преподноситься как
забавный вымысел. [182]
Когда мы читаем, что, например, сторукий Бриарей явился на Олимп, чтобы
помешать врагам Зевса свергнуть его с мирового престола (Ил. I, 396-404), то в контексте
развитого героического эпоса это звучит уже как сказка. Страшилище химера с головами
льва, козы и змеи с девичьим лицом и с пламенем из пасти, которое было побеждено
Беллерофонтом (Ил., VI, 179-183); ранение смертным героем Диомедом бессмертных
богов Ареса и Афродиты (Ил., V, 855-863; 335-339); шапка-невидимка Аида, благодаря
которой скрывается Афина Паллада (Ил., V, 844 сл.); превращение Сна в птицу Халкиду
(Ил., XIV, 285-291); плач коней Патрокла после убийства их хозяина (Ил., XVII, 426-428);
ускорение заката солнца Герой (Ил., XVIII, 239); оживление Гефестом созданных им
статуй (Ил., XVIII, 417-420); разговор коней Ахилла со своим хозяином о грозящей ему
опасности (Ил., XIX, 400-424); борьба Ахилла с рекой Скамандром (Ил., XXI, 232-341);
явление Ахиллу призрака Патрокла (Ил., XXIII, 65-107); превращение Ниобы в скалу от
скорби по убитым детям (Ил., XXIV, 614-617), – все подобного рода мотивы в контексте
героического эпоса уже не звучат в такой же мере объективно реалистически, как звучит
сам героический эпос, почему их правильнее называть сказочными мотивами, а не
мифическими.
Особенно богата сказочными материалами «Одиссея». Если в «Илиаде» отдельные
небольшие сказочные мотивы только вкраплены в контекст обширной героической поэмы,
то в «Одиссее» – это не только отдельные сказочные мотивы, но и целые весьма обширные
сказочные эпизоды. Особенно много таких эпизодов мы имеем в песнях IX-XII, где
Одиссей рассказывает на пиру у царя Алкиноя свои приключения первых трех лет
странствования. Читая такие эпизоды, как историю с Эолом, который связал все ветры в
одном мешке, или как превращение Киркой всех спутников Одиссея в свиней, или как
нисхождение Одиссея в Аид, или как Сцилла и Харибда, или Сирены, или месть Гелиоса
за его быков, трудно поверить, что автор этих эпизодов еще не вышел из того
примитивного и детского легковерия, которое раньше приводило к безусловной вере во
все эти чудовища и во все эти чудеса. Чувствуется, что автору этих эпизодов не очень
страшны ни Кирка, ни Сцилла, ни Харибда, ни Сирены, что все это было страшным и
ужасным когда-то очень давно, до Гомера, и что теперь, во времена Гомера, для этой
богатой и обеспеченной, роскошно живущей родовой знати, подобного рода эпизоды
являются по преимуществу эстетическим увеселением, забавным вымыслом, питающим
глубокую художественную чувствительность.
Нельзя сказать, что для Гомера уже совсем миновал век всякой мифологии. Гомер,
конечно, все еще остается порождением общинно-родовой формации и, следовательно,
глубоко верит в реальность мифологических образов. Но он уже настолько [182] развит в
художественном отношении, что мифология и искусство становятся для него чем-то
единым и нераздельным, что простая и наивная мифология со всеми ее ужасами и
страхами уже неинтересна для него и что он поэтому везде настолько же мифологичен,
насколько и поэтичен. А.поэзия уже нейтрализует все ужасы древней мифологии, делает
их красивыми и занятными, совсем нестрашными и превращает как бы в самый
настоящий поэтический вымысел, хотя все это далеко не было простым поэтическим
вымыслом, но уходило в глубину тысячелетнего мифологического реализма в полном и
буквальном смысле этого слова. У некоторых историков античности встречается термин
«Художественная мифология». Употреблявшие этот термин авторы хотели сказать, что
Гомер – это и не просто мифология, и не просто поэзия. У него мифология и поэзия даны
сразу и неразрывно в своем полном и непосредственном тождестве. Думается, что такая
«художественная мифология» необходимо должна была возникать из наивной и
некритической мифологии и той поэзии, которая оперирует уже свободными
художественными вымыслами. При такой точке зрения на предмет становится вполне
понятным, почему мы находим в эпосе Гомера такую огромную склонность к сказке, и
почему эта сказка является совсем другим стилем и жанром, чем строгая героическая
поэма.
б) Роман. Таким же выходом за пределы героической поэмы являются в «Одиссее»
приключения Телемаха и самого Одиссея, причем первые 8 песен очень похожи на
авантюрный роман, а песни XIII-XXIII – на роман семейный.
Роман отличается от героической поэмы не тем, что действующие в нем лица уже не
могут называться героями, и не тем, что они не могут идеализироваться (героям романа
может быть свойственна любая степень идеализации, как и полное ее отсутствие или,
наоборот, осуждение героев), и не тем, что в романе изображается быт (понятие быта –
весьма условное, так как быт в разные эпохи разный, и без него вообще не может
существовать человек, как не существуют без него гомеровские герои). Различие романа с
героической поэмой в основном социально-историческое. Роман возникает только тогда,
когда отдельная личность уже освобождается от родовых авторитетов и тем самым от
мифологии, которая их отражает и своеобразно воспроизводит. Эта личность начинает
проявлять свою собственную иниациативу, становясь в разнообразные отношения как к
другим личностям, так и ко всему обществу, или к тем или иным общественным
коллективам. Вот тут-то и возникает тот быт, о котором говорят теоретики романа. Это не
есть быт вообще, но быт, в котором живет та или иная личность, освобожденная от
подавляющего ее родо-племенного коллектива и входящая в какой-нибудь новый
коллектив, уже предоставляющий ей ту или иную степень частной инициативы. Такой
[184] быт разрисовывается, конечно, уже гораздо более реалистически и на нем уже
совсем необязательна печать старых родо-племенных, мифологических или каких бы то
ни было вообще надличных авторитетов. Такого рода быт изображается гораздо больше в
«Одиссее», чем в «Илиаде».
Прежде всего это то место «Одиссеи, где Телемах после долгого путешествия
возвращается домой и встречает своего пастуха Евмея (Од., XVI, 12-29). Евмей еще
раньше заметил, что собаки не залаяли на пришельца, а, наоборот, стали к нему ласкаться.
Когда же он воочию узнал Телемаха, то от изумления и нахлынувших чувств радости он
роняет на землю сосуды, в которых смешивал вино с водою, обнимает Телемаха и
начинает его горячо целовать и в голову, и в глаза, и в руки, сам заливаясь слезами
радости, подобно тому, как отец радостно встречает своего сына после 10-летней разлуки.
Далее – опознание Одиссея его старой няней (Од., XIX, 467-490). Когда Евриклея
моет ноги неведомому страннику, она еще не знает, что это Одиссей. Но вот она замечает
шрам на ноге Одиссея от ранения, полученного им еще в детстве. И сразу она выпускает
из рук ногу Одиссея, эта нога ударяется о таз с водой. Медный таз звенит, и вода
проливается на пол. У самой Евриклеи пресекается голос, глаза наполняются слезами, в
сердце у нее сразу и радость и скорбь. Чуть оправившись, она обращается к Одиссею со
словами радости и ласки. Но тот хватает ее за горло, велит прекратить свою речь и
шепотом начинает рассказывать ей о своих планах.
Наконец сцена, в которой Одиссей убивает одного из женихов, Евримаха (Од., XXII,
82-89). Когда разозленный Евримах выхватил меч, чтобы убить Одиссея, тот ранит его из
своего лука в сосок, но так, что стрела доходит до печени. Евримах выпускает меч из
своих рук, шатается, падает, задевая собою стол и роняя на пол посуду, ударяется лицом об
пол, начинает судорожно биться пятками о кресло и, наконец, испускает дух.
Все такого рода описания гораздо больше похожи на роман, чем на героическую
поэму.
3. Лирика. Но Гомер выходит далеко за пределы и самого эпоса. У него очень много
лирических мест. Причем его лирика бывает и близкой к эпосу, и далеко от него
отошедшей.
а) Воинственно-патриотическая лирика. Когда в истории греческой литературы
излагается лирика, то обыкновенно начинают с тех ее видов, которые и по своему
настроению, и по своей метрике еще близки к эпосу. Именно наиболее близким к эпосу
типом лирики является элегия военно-агитационная. Тут обычно приводятся имена
первых греческих лириков Каллина и Тиртея. В «Илиаде» (ХШ, 95-124, 231-238)
Посейдон энергично агитирует среди греческих героев, чтобы: они отбили наступление
троянцев, обращаясь к ним с воодушевленными и прямо-таки горячими речами. Здесь нет
никакой [185] разницы с упомянутыми Каллином и Тиртеем, тем бблее, что они являются
современниками последних этапов разбития гомеровского эпоса.
В «Илиаде» (XXII, 71-76) Приам, удерживая Гектора от битвы, рисует ему, между
прочим, в своей пространной речи, как прекрасен юноша, раненый и умирающий на поле
сражения, и как безобразен в том же самом положении старец. Эта мысль и эти образы
раненого юноши и старца целиком находим у Тиртея, представителя уже не эпоса, но
лирики, а именно элегии во фрагменте 10, ст. 21-30. В науке даже спорили о том, повлиял
ли здесь Гомер на Тиртея или Тиртей на Гомера. Но в данном случае важно совпадение
двух жанров, которое стало возможным только потому, что эпический стиль у Гомера – не
просто эпический, но очень сложный и даже смешанный эпический стиль.
В нем источники разных других стилей и жанров и, в частности, воинственно-
патриотической и военно-агитационной элегии.
б) Лирика героической любви. Знаменитым образцом этого нового вида лирики
является прощание Гектора с Андромахой (Ил., VI, 395-502). Сквозь строгие контуры
старого сурового эпического стиля здесь пробивается уже неэпическое изображение
супружеской любви героев. Здесь изображается трагическая судьба Андромахи,
потерявшей своих родителей, семерых братьев и родину и попавшей к Гектору в слабой
надежде на счастливое устроение жизни. Но вот Гектор участвует в большой войне и
готовится к опасному бою. Андромаха с малолетним ребенком и служанкой выходит для
прощания с Гектором и слабым неуверенным голосом и нерешительными выражениями
пытается удержать его от опасного боя. Она прекрасно знает, что не только Гектор этого не
сделает, но в конце концов и сама она этого не позволит. Гектору тоже нестерпимо тяжело
расставаться не только с домом и родными вообще, но прежде всего с Андромахой.
Благородный лиро-эпический стиль этого отрывка из «Илиады» углубляется и делается
более эмоциональным благодаря введению эпизода с ребенком, который сначала испугался
отца в полном вооружении и заплакал, а потом, когда отец снял с себя грозно-блещущий
шлем, сам потянулся к нему ручками, и отец стал его горячо целовать. Плачущую
Андромаху Гектор нежно отсылает домой заниматься своими делами, а сам непреклонно и
бесстрашно направляется на бой.
Подобного рода прощание супругов трудно назвать чисто эпическим. В нем
пробивается сильнейшее лирическое волнение, которое, хотя и не нарушая формально
обычных эпических условностей, все же окрашивает этот строгий эпос в очень мягкие и
трогательные тона и является прекрасным образцом того, как на лоне перезрелого
эпического стиля начинают зарождаться и разные другие стили и, в частности, лирика.
[186]
в) Лирика страстной любви к жизни в условиях обреченности этой последней.
Гомеровский эпос, несмотря на свою монументальность и даже суровость, весь пронизан
страстной жаждой жизни и стремлением увековечить память погибшего, как бы
приобщить его и после смерти к тем, кто еще живет на земле и видит солнце.
В «Илиаде» (VII, 77-91) Гектор перед поединком просит на случай гибели вернуть
его тело родным для погребения и надеется, что также и ахейцы погребут своего павшего
в битве товарища на берегу моря, чтобы могильный холм был свидетелем славы Гектора.
«И слава моя не погибнет», – утешает он себя. По словам Агамемнона (VII, 116-119), даже
Гектор, как он ни отважен, рад будет уцелеть и спастись от ужасной войны. И сам Гектор
мечтает (VIII, 538 сл.): «О, если б настолько же верно стал я бессмертен и стал бы
бесстаростен в вечные веки». Душа его отлетает к Аиду, оплакивая свою участь и
расставаясь с юностью (XXII, 363).
Душа Патрокла также печалится по юности, покидая его тело (XVI, 856 сл.). Его
жизнь оплакивают кони (XVII, 437-441) и это заставляет Зевса признать (446), что нет на
земле существа более несчастного, чем человек. После смерти Патрокла друзья с
нежностью вспоминают приветливость его при жизни (670-672) и Ахилл с горечью думает
о том, что Патрокл погиб вдали от родины милой (XVIII, 99 сл.), вместе с тем оплакивая и
свою судьбу: мать не увидит его в отеческом доме (88-90). Однако сам Ахилл весьма
жесток с юным Ликаоном, страстно молящим о пощаде и не успевшим пробыть дома с
родными даже 12 дней после возвращения из плена (XXI, 74-96).
Погибшему воину не дано насладиться юностью и обрадовать жену молодую и
чтимых родителей (XVII, 27-29) и жалость к убитому охватывает товарищей (346, 352).
Жизнь и солнечный свет настолько связаны вместе, что герои, ожидая решающего
сражения, молят Зевса губить их, уж если он это задумал, при свете дня (647).
Замечательные строки находим в более поздней «Одиссее», в XI песни, которая
рассказывает о нисхождении Одиссея в Аид и об его встрече с тенями умерших. Именно
здесь жалобно молит душа Эльпенора (XI, 72-78) о погребении его тела близ моря на
память и в назидание потомкам. Он даже просит воткнуть в могильный холм весло в знак
того, что при жизни он греб вместе с товарищами на корабле. Оказывается, и в загробном
мире Эльпенору дорого то, что связывало его с жизнью и что может о нем напомнить этой
жизни, если уже к ней невозможно вернуться.
Одиссей пытается нежно обнять свою мать (204-225); душа матери полна памяти о
живых и подробно рассказывает Одиссею о доме, который она покинула, умерши от тоски
по сыну. Агамемнон плачет, проливая горькие слезы, увидев в Аиде своего [187] боевого
товарища, и Одиссей отвечает ему слезами. Душа Агамемнона все еще стремится к жизни,
и он пытается расспросить Одиссея о своем сыне, а также дает ему советы, как вести себя
по возвращении домой (391-395, 454-461).
Ахилл страстно мечтает о жизни. На утешение Одиссея он отвечает, что готов быть
последним батраком у бедного крестьянина, лишь бы не царствовать среди мертвых (486-
491). Мысли его полны воспоминаниями о своем отце Пелее и сыне Неоптолеме. Рассказ
Одиссея о подвигах Неоптолема волнует его; и расставшись с Одиссеем, Ахилл шествует,
радуясь, по асфоделевому лугу.
Сюда же, конечно, надо отнести и образ Одиссеевой собаки Аргуса, которой
посвящен трогательный рассказ (Од., XVII, 291-327). Это была великолепная охотничья
собака, которую успел еще до войны воспитать сам Одиссей, но которой он не мог