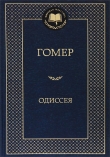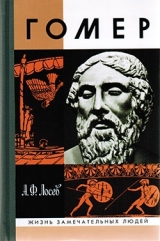
Текст книги "Гомер"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 32 страниц)
касается решительно всей поэтики Гомера. Она также обязательно традиционна, как и те
общие родоплеменные оценки, которые сопровождают решительно всякое изображенное
событие. [156]
Традиционность гомеровской поэтики достигает поистине колоссальных размеров.
Она доходит у него до полного схематизма и стандартизации. Гомер совершенно
немыслим без этих разнообразных и даже трудно обозримых эпических стандартов.
Стандартом является прежде всего само гомеровское стихосложение, сводящееся
обязательно к дактилическому гекзаметру и исключающее всякие другие стихотворные
размеры. Гекзаметр этот, если иметь в виду возможное в нем стяжение кратких слогов и
распущение долгих слогов, допускает внутри себя определенное количество метрических
вариаций. Но сам по себе он является нерушимой основой гомеровского стихосложения.
Гомер растягивает краткие слоги и сокращает долгие, пропускает целые слоги и вставляет
новые только ради выполнения правил гекзаметра. Гекзаметр заставляет пользоваться
разными необычными словами и создавать всякого рода ненужные для смысла фразы,
добавления и пропуски. Эпический стандарт охватывает всю поэтику Гомера. Совершенно
стандартны постоянные эпитеты, разного рода повторения, употребление сравнений или
длинных речей там, где они фактически и реалистически были бы немыслимы.
Стандартны многочисленные общие сентенции, которыми Гомер любит уснащать свою
речь. Многое стандартно и в самой художественной образности у Гомера, – все эти
приемы изображения боев или поединков, совещаний или сцен дружбы и вражды и т. д. и
т. д. Подробное изучение всех этих эпических стандартов относится уже к вопросам
конкретной стилистики Гомера.
г) Колебание эпического стандарта и выход за его пределы. Ни эпос вообще, ни
эпос Гомера немыслимы без поэтических стандартов. Однако все принципы гомеровского
стиля обязательно находятся в движении, отражают собою всегдашнюю борьбу старого и
нового. Поэтому наступает момент, когда стандарт перестает удовлетворять
художественное сознание и, оставаясь непреложной особенностью эпоса, постепенно все
больше и больше начинает дополняться чертами оригинальности, индивидуальности и
неожиданной художественной новизны. Эпический стандарт остается только костяком и
перестает характеризовать собою эпическое произведение в исчерпывающем виде. Ни в
каком случае невозможно отбрасывать у Гомера его постоянные и резко выраженные
методы традиционных стандартов, ибо без них нет строгого эпоса. Но невозможно также
игнорировать и растущую у Гомера индивидуализацию изображений, которые колеблют
традиционный стандарт и в конце концов перекрывают его совсем нестандартными
изображениями.
Укажем прежде всего на то, что даже и те внешние приемы поэтической техники,
которые в консервативной науке всегда приводятся как образец эпического стандарта,
даже и они вовсе [157] не являются у Гомера такими уж твердыми и механическими
приемами, которыми певец пользовался бы совершенно независимо от содержания
воспеваемых им предметов, В этом отношении современная наука о Гомере резко
отличается от прежних механистических представлений о методах эпической техники.
Возьмем такой, казалось бы, несомненно эпический стандарт, как метод повторений.
Еще С. П. Шестаков в своей книге «Повторения у Гомера по книге Martin Goldschmidt»,
Казань, 1903 ограничивается формалистической классификацией гомеровских повторений
и совсем не подозревает их колоссальной, нисколько не стандартной роли в поэтической
ткани поэм Гомера. Приведем рассуждения современного исследователя Гомера Дж.
Кельхоуна из его работы «Гомеровские повторения».16)
Дж. Кельхоун считает, что искусство Гомера целиком было рассчитано на
слушателей и должно было производить на них впечатление музыкального произведения,
в котором повторяются определенные выражениями помогают запоминанию эпических
тем. Традиционные кратчайшие формулы и повторения одного стиха ничем не отличаются
от соответствующих приемов в целых группах стихов. На примерах автор доказывает, что
свободное употребление этих формул и повторений в соединении с сознательной техникой
поэта создает вполне определенный эстетический эффект. Автор считает, что надо
отбросить все попытки резко разделять оригинальные места в тексте Гомера и вторичные,
поскольку здесь большое значение имеет субъективный критерий. Далее, нельзя больше
следовать теории ненужных или лишних стихов. Надо принимать во внимание
целенаправленность группы стихов, оттенки в употреблении повторений. Места, в
которых встречаются отдельные повторения, или группы повторений нельзя принимать за
испорченные, но их следует изучать каждый раз в новом контексте. Иной раз эти
повторения, обычно применяемые к определенному лицу, дополняют его характеристику и
приучают слушателя именно к данному герою или к данной ситуации.
Например, когда в «Илиаде» (V, 562) Гомер говорит о Менелае: «Выступил он из
рядов, облеченный сияющей медью» и повторяет в других местах этот стих, то слушатель
как бы видит сразу мощного воина, готового броситься на врага или помочь своему
товарищу. Эта формула всегда подготавливает слушателя к самому описанию поединка
или сражения.
Когда в «Илиаде» (IV, 74) и во многих других местах Гомер говорит: «Бросилась
быстро Афина с высокой вершины Олимпа», перед слушателем сразу возникает образ
божества, которое карает человека или приходит ему на помощь. [158]
В зависимости от контекста одно и то же повторение имеет особый смысл. Так, когда
в «Илиаде» (I, 333) глашатаи Агамемнона, пришедшие за Бризеидой, смущенно стоят
перед Ахиллом и молчат, «Их в своем сердце он понял и к посланным так обратился», т. е.
нашел слово привета для невиновных перед ним людей, исполнителей злой воли
Агамемнона. Но когда Зевс застает Геру и Афину за помощью ахейцам, и богини,
вернувшись, садятся в стороне и молчат, он (VIII, 446) «Мыслью в сердца их проник и так
обратился к богиням», т. е. со словами, полными чисто олимпийского сарказма. Даже
переводчик В. В. Вересаев, желая оттенить разный контекст, не переводит один и тот же
греческий стих одинаково, и получается, что Ахилл, сочувствуя глашатаям, «понял их в
своем сердце», а Зевс, разгневанный на богинь, «Мыслью в сердца их проник», т. е.
раскрыл козни Геры и Афины.
Таким образом, даже повторение одного стиха имеет всегда различную смысловую и
эмоциональную нагрузку, с которой необходимо считаться.
Очень интересен также вопрос о метафоре у Гомера, которую тоже обычно считают
образцом стандарта и традиционной неподвижности. Например, имеется работа
Мильмана Парри «Традиционная метафора у Гомера»,17) где делается упор именно на
традиционность метафоры у Гомера и подчеркивается ее схематизм. Так, анализируя I
песнь «Илиады», он находит в ней всего 25 метафор, из которых 12 считает
традиционными, очень близкими к эпитетам и употребленными лишь для необходимого
ритмического строя. И даже остальные 13 метафор, которые Парри считает более или
менее оригинальными, являются, по его мнению, у Гомера просто эпическими оборотами.
Парри очень обедняет представления о гомеровских метафорах, ограничивая свои
изыскания только I песнью «Илиады» и поэтому не учитывая действительно богатые и
насыщенные метафоры и метафорические сравнения. Кроме того, Парри не рассматривает
гомеровские метафоры исторически и традиционно понимает как нечто застывшее и
окаменевшее, хотя Гомер как раз зачастую является носителем живой традиции, в которой
нет ничего схематического и формального.
В. Б. Стенфорд в противоположность Парри дает более свободную характеристику
гомеровской метафоры и ее традиционность отнюдь не понимает в смысле стертого
схематизма. В своей работе «Греческая метафора»18) он посвящает Гомеру целую главу.
Стенфорд не отрицает момента традиционности в употреблении метафоры у Гомера. Но
он доказывает, что Гомер никогда не был рабом этой традиционности. В гомеровское
время [159] греческий поэтический язык находился в бурном становлении, и Гомер
творчески оформлял это становление в ясных и простых формах. Он использовал прежде
всего те примитивные метафоры, которые шли из глубокой старины и в сущности пока
еще не стали подлинными литературными метафорами (вроде «волоокая Гера» или
«совоокая Афина»). Но Гомер уже перешел на ступень чисто литературной метафоры, где
Стенфорд весьма рельефно рисует разную степень метафоричности, наличную у Гомера.
Одно дело – «какое слово вырвалось из ограды твоих зубов?» и другое дело –
представление о летящем слове. «Ограда зубов» – это пока является почти буквальным
предметом, в то время как представление слова в виде летящего живого существа уже,
несомненно, глубоко метафорично.
Но гомеровская метафора становится еще более метафоричной, когда с полетом
сравнивается психическое состояние. Традиционное в данном случае, по Стенфорду, вовсе
не является результатом пустого схематизма, но результатом намерения выражаться по
возможности кратко и ясно. Гомер нарочито избегает таких насыщенных метафор,
которые можно найти в дальнейшем только у Пиндара или Эсхила. А там, где эта
насыщенная метафоричность властно требовала от поэта своего выражения, он, во
избежание темноты и непонятности, часто прибегал к тому развернутому поэтическому
приему, который не отличался краткостью, но зато в ясной и понятной форме выражал всю
насыщенность овладевшего поэтом метафорического образа. Этим приемом было
сравнение. Метафор у Гомера нисколько не меньше, чем сравнений, как это легко может
показаться невнимательному читателю, а их гораздо больше. Тем не менее Стенфорд
согласен с тем, что максимальная сила поэтического воображения сказалась у Гомера
именно в сравнениях, а не в метафорах.
Таким образом, традиционность гомеровской метафоры не имеет ничего общего с
представлением о ней как о пустой и стертой форме, а она только результат замечательной
краткости и ясности, которая стала образцом для всей дальнейшей поэзии. Следовательно,
гомеровская метафора, как и гомеровские повторения, если и является в каком-нибудь
смысле стандартом, то никак не в отрицательном смысле слова, но в положительном и
прогрессивном.
То же самое мы должны сказать и еще об одном «стандартном» приеме эпоса – это
об эпитетах. Упомянутый Парри в своей специальной работе о традиционных эпитетах у
Гомера19) пытается также и эпитеты у Гомера объяснять формалистически, ставя их, например, в ближайшую зависимость от гомеровской метрики. Эта точка зрения после
упомянутых только что [160] работ не может выдержать научной критики и в настоящее
время должна считаться не больше как данью литературному формализму, составившему в
свое время целую эпоху.
Еще один такой эпический «стандарт», именно речи, прекрасно проанализирован
Бассеттом не как стандарт, но как живой элемент драматической ткани гомеровского
повествования. Ни длина этих речей у Гомера, ни их отдаленность от изображаемого
действия, ни их частота, ни их видимая неуместность в том или ином моменте действия не
способны превратить их в какой-то формалистический придаток или в какой-то
омертвевший стандарт. Работа Бассетта в этом отношении разочарует всякого, кто захотел
бы здесь остаться при старых представлениях о механических функциях в эпосе того, что
обычно называется стандартом, и, в частности, о художественных функциях
замечательных и многочисленных гомеровских речей.
Но стандартизация эпоса исчезает у Гомера не только в области эпической техники.
Оригинальные художественные характеристики появляются у него также и в
изображениях вещей, людей, богов. Во всех этих изображениях более или менее
постоянным и обязательным является мощный героический быт, в пределах которого,
однако, отдельные предметы бесконечно разнообразны и очень далеки от стандарта.
Можно считать какой-нибудь щит Ахилла чем-то традиционным и стандартным для
героического быта. Но то, что Гомер изобразил на этом щите, совершенно оригинально и
не продиктовано никаким стандартом. Таковы не только оружие, одежда, дворцы и т. д., но
таковы же и сами люди. Ахилл и Гектор являются традиционными представителями
героизма. Однако на их изображение затрачены у Гомера бесконечно разнообразные
краски и приемы, так что на фоне стандарта получаются здесь фигуры, не имеющие
ничего общего ни с каким стандартом.
9. Монументальность эпоса.
а) Характеристика. Строго эпическое произведение всегда величаво, возвышенно,
будит высокие благородные чувства, воспитывает твердую героическую волю, не терпит
ничего низменного, а если его и изображает, то всегда с осуждением и критикой. Это и
есть то, что можно назвать одним словом: монументальность эпоса.
Латинское слово монументум значит «памятник». Употребляя это слово для
характеристики художественного стиля произведения, мы как бы говорим, что само это
произведение является каким-то памятником. Литературное произведение,
охарактеризованное как некий памятник, изображает нечто великое и значительное, а
употребляемые в нем способы изображения значительны, широки, глубоки. Об этом
прекрасно говорил Белинский:20)
«Надо было, чтоб событие сделалось поэтическим преданием живой и роскошной
фантазии младенческого народа; надобно было, чтоб герои события представлялись в
отдаленной перспективе, в тумане прошедшего, которые увеличили бы их естественный
рост до колоссальных размеров, поставили бы их на котурн, облили бы их с головы до ног
сиянием славы и скрыли бы от созерцающего взора все неровности и прозаические
подробности, столь заметные и резкие вблизи настоящего».
б) Типы монументальности. Прежде всего отметим монументальный характер
всего гомеровского героизма, т. е. самих героев и совершаемых ими деяний.
Почти каждый гомеровский герой – это необычайно сильная натура, с железным
характером и совершенным бесстрашием перед любыми опасностями и катастрофами.
Эти герои могут весьма сильно любить и весьма сильно ненавидеть, у них все – большое,
сильное, свободное. Они даже едят не так, как простые смертные. В «Илиаде» эти герои то
и дело зажаривают по 100 быков или баранов для жертвоприношения, но значительная
часть этого мяса съедается ими самими и запивается целыми ведрами вина. Роскошь и
обилие вообще характеризуют собою всю гомеровскую жизнь.
Когда говорят о монументальном характере гомеровского героя, имеется в виду не
какая-нибудь их высокая мораль, их благочестие, скромность, смирение и прочие
христианские добродетели. Гомеровские герои – это сильные, крепкие, красивые люди; и
монументальность их характера заключается в их огромной силе, физической и
психической, соединенной с красотой, благородством и независимостью ее проявления.
Гомеровская монументальность – это величие и сила большого человека, всецело земного
и всецело преданного земным, хотя и весьма значительным интересам.
К сфере монументальности относятся у Гомера не только герои и их подвиги, но и
вся их окружающая бытовая жизнь. Так как эта последняя изображается в контексте
героической жизни, то и она никогда не может быть у Гомера низменной или мелочной.
в) Снижение монументальности. В связи с наличием у Гомера разновременных
ступеней социально-исторического развития традиционность и монументальность тоже во
многих местах теряют свой строгий характер и заменяются новыми чертами, которые
весьма далеки и от традиционности и от монументальности. Можно даже сказать, что эти
два принципа художественного стиля Гомера находятся у него в наиболее заметном
движении и чаще других приходят к своей прямой противоположности.
Например, вся основная тема «Илиады» выдержана отнюдь не в тонах
монументальных, а скорее в тонах сниженных. Можно считать основной темой «Илиады»
гнев Ахилла. Но Ахилл гневается из-за пустяка, ничтожного в сравнении с величием [162]
того дела, ради которого он прибыл под Трою. Ахилл бросает сражение только из-за того,
что главнокомандующий отнял у него его пленницу. В другую историческую эпоху за
такой уход с фронта он был бы строго наказан. В «Илиаде» же за Ахиллом ухаживают, его
уговаривают, а он упорствует даже тогда, когда им уже получено достаточное
удовлетворение. В дальнейшем он возвращается к сражению. Но это возвращение
происходит не от раскаяния или в силу какого-нибудь принципиального решения, но
продиктовано жаждой мести за погибшего друга. Ничего особенно монументального в
этом нет. Ссора Ахилла с Агамемноном и употребляемые ими бранные слова, решение
Агамемнона отправляться на родину и всеобщая радость по этому поводу, насильственное
возвращение бегущих к кораблям греков, история с Ферситом и т. д., не говоря уже о
поведении богов, их пороках, ссорах, – все это мало способствует монументальности, все
это скорее снижает стиль Гомера. Эти черты снижения эпического стиля не укрылись от
Белинского, несмотря на его восторженное отношение к Гомеру. Белинский пишет (т. VII,
стр. 41, 1955 г.):
«...в поэме поэм «Илиаде» не только люди, но и боги ругаются друг с другом не
лучше героев повестей Гоголя. Так, например, в XXI песни Арей называет Палладу
«наглою мухой», а Гера-богиня Артемиду-богиню «бесстыдною псицей», или, говоря
проще, – «сукою». Скажут: это недостатки поэзии грубых времен: старые песни! Не
недостатки, а верное, изображение современной действительности, с ее бытом и ее
понятиями».
Таким образом, отношение Белинского к возвышенному стилю гомеровского эпоса
вполне трезвое и критическое.
10. Отсутствие мелочей в эпосе, наивность. Этот принцип тоже с полной
необходимостью вытекает из нашего общего первого принципа о примате общего над
индивидуальным. Если в эпосе имеет значение только общее и если оно всерьез сплошь и
рядом становится на место индивидуального, то оно всюду несет с собою и свойственную
ему широту, свободу от мелочей, величавость.
Это не значит, что в эпосе никогда не изображается ничего мелкого, маленького или
незначительного. Наоборот, весь эпос усыпан этими мелочами. Но самое важное
заключается в том, что ни одна из этих мелочей не изображается в эпосе в своем
отъединенном изолированном виде.
Всякая мелочь в эпосе изображена в свете общего, дана в окружении героической
жизни, несет на себе печать великих исторических событий, приведших к подобного рода
героическому быту. Поэтому, хотя Гомер и упивается изображением всякого рода мелочей
(одежды, дворцов, домашней утвари, оружия), тем, не менее у него нет ровно ничего
мелкого, обыденного и обывательского. Как у него монументальна вся героическая жизнь,
как величавы герои и события, точно таким же образом [163] значительна, интересна и
величава у него всякая вещь, как бы она мала ни была.
Укажем еще на одну эстетическую категорию, которая тоже играет существенную
роль в теории эпического стиля. Это категория наивного.
Наивное как эстетическая категория означает не просто недомыслие, не просто
неумение разбираться в фактах и принимать черное за белое. Наивное в эстетическом
смысле есть действительно оперирование с отдельными фактами, большими или малыми;
однако эти факты всегда несут здесь на себе печать больших и глубоких закономерностей
жизни, печать того, что обобщает их и выводит из состояния взаимной изоляции. Но
наивный субъект не понимает того обстоятельства, что он оперирует не просто с
отдельными фактами, но именно с большими и общими закономерностями этих фактов. А
так как эпический субъект как раз мало размышляет об общих закономерностях жизни, то
это и значит, что эпический субъект есть наивный субъект. Здесь перед нами наивное
сознание. Об общих закономерностях жизни оно знает только бессознательно.
11. Уравновешенно-созерцательное спокойствие эпоса.
а) Эпическое настроение. Изо всего сказанного выше о принципах эпического стиля
было бы ошибочным заключить, что эпическое произведение есть насквозь объективная
картина объективного мира, определяемая только самыми общими закономерностями
жизни и совершенно лишенная всяких живых чувств и всяких живых людей.
Да, эпос вовсе не есть только объективная картина объективных событий, которая
преподносилась бы с безразличным и ни в чем не заинтересованным настроением.
Эпический стиль предполагает весьма интенсивную настроенность писателя, он
нуждается в глубокой и сильной эмоции, ему свойственно свое воодушевление и
настроение. Но только эта эпическая эмоция и это эпическое настроение являются весьма
специфическими и их не так легко обрисовать во всем их своеобразии и
самостоятельности.
Обычно эпическое настроение трактуется как «эпическое спокойствие», которым,
думают, эпос отличается и от лирического волнения и от драматической дееспособности.
Тут есть кое-что правильное, но такая характеристика в то же самое время совершенно
недостаточна.
б) Эпическое спокойствие не есть безразличие. Когда говорится о спокойствии, это
не значит, что исключаются в эпосе всякие вообще чувства и настроения. Если исключить
из художественного произведения все вызываемое им настроение, это значит лишить его
жизни, это значит заставить его вообще перестать быть художественным произведением.
Уже по одному тому, что эпический стиль есть художественный стиль, [164] в нем должен
присутствовать также и принцип того или иного настроения. Поэтому эпическое
спокойствие, которое мы выдвигаем как один из принципов эпического стиля, не может
быть отсутствием всякого настроения и всякого чувства. Это спокойствие тоже есть
настроение и чувство, но только весьма своеобразное.
в) Эпическое спокойствие предполагает великие события и даже катастрофы
жизни. Своеобразие эпического настроения заключается не в том, что человек ничего не
видит в жизни большого и крупного, не видит никаких несчастий и страданий и не знает
никаких катастроф. Спокойствие, существующее в человеке до несчастий и катастроф и
основанное на том, что человек еще не видал никакого горя, такое спокойствие имеет мало
цены, и не ему предстоит быть принципом того или иного художественного стиля. Ценно
то спокойствие, которое создалось у человека после большого беспокойства или
сохраняется у него в окружающей его беспокойной обстановке. Мудро то спокойствие,
которое создалось у человека после больших несчастий и горя, после великих бурь и
катастроф, после гибели того, что он считал для себя родным, близким, ценным,
необходимым. Вот такое-то спокойствие характерно для эпического художника.
У Гомера множество картин человеческого несчастья, горя, даже смерти. Когда он
изображает, например, сражения (а такому изображению посвящаются у него иной раз
целые песни), перед нашими глазами рисуется одна сплошная катастрофа, тяжелая
картина ранений, сражающихся, их гибели. И все же при созерцании этой картины мы
остаемся спокойными и наше настроение вполне уравновешенно. Это относится не только
к картине массовых боев в XI-XV песнях «Илиады», но и к самому безжалостному,
самому свирепому убийству, которое только имеется у Гомера, к убийству Ахиллом
Гектора. Мы негодуем на то зверство, с которым Ахилл убивает Гектора в XXII песни
«Илиады», с волнением читаем о том, как Гектор за минуту до смерти направляет к
Ахиллу свои последние просьбы. Но вот поединок кончился, тело Гектора перевезено в
Трою и ему устроено торжественно-траурное погребение; и мы чувствуем какое-то
возвышенное спокойствие, какое-то благородное удовлетворение от того, что при
созерцании этой катастрофы прикоснулись к чему-то высокому, к чему-то очень общему и
далекому от мелких и обыденных дел, к чему-то почти мировому. Вот что такое эпическое
спокойствие.
г) Человеческое. Такое эпическое спокойствие еще больше углубляется, так как оно
касается именно человеческой судьбы, человеческого счастья, человеческой жизни и
смерти. Эпическое спокойствие слишком часто понимается сухо, плоско, как-то
бесчувственно. Поэтому необходимо это «человеческое» специально подчеркнуть при
обрисовке эпического настроения. [165]
Вот Одиссей приходит в виде нищего в свой дом, видит разгул женихов и страдания
своей семьи, знает, какого большого труда потребует борьба с женихами, и он
представляет себе непостоянную и неверную судьбу человеческого счастья. Но здесь
именно и видно, как ценна для него счастливая жизнь и как вообще он высоко ценит
человеческое счастье. Он говорит (Од., XVIII, 130-137):
Меж всевозможных существ, которые дышат и ходят
Здесь, на нашей земле, человек наиболее жалок.
Ждать-впереди никакой он беды не способен, покуда
Боги счастье ему доставляют и движутся ноги,
Если же какую беду на него божество насылает,
Он хоть и стойко, но все ж с возмущеньем беду переносит
Мысль у людей земнородных бывает такою, какую
Им в этот день посылает родитель бессмертных и смертных.
И Одиссей вспоминает счастливое время своей жизни, когда он сам не ценил своего
счастья и совершал плохие поступки, не выходя из того круга мыслей, который послали
ему боги для этого счастья. Но теперь он уже давно утерял это счастье, и теперь он понял,
как им нужно дорожить, как его надо беречь и какие великие труды нужны для его
восстановления.
Вот один из товарищей Одиссея Эльпенор свалился с крыши дома Кирки, ударился
затылком о камень и умер; он просит Одиссея его похоронить, явившись ему в виде
призрака; и вот какой грустью овеяны его слова о погибшем счастье солдата, моряка (Од.,
XI, 74-78):
Труп мой с доспехами вместе, прошу я, предайте сожжению,
Холм надо мною насыпьте могильный близ моря седого,
Чтоб говорил он и дальним потомкам о муже бессчастном.
Просьбу исполни мою и весло водрузи над могилой,
То, которым живой я греб средь товарищей милых.
Таково интимное отношение гомеровского грека к человеческому счастью.
Эпическое спокойствие не есть какое-то бездушное состояние человека, но является
итогом самых интимных представлений о человеческом счастье. Не потому эпический
человек спокоен, что он не знает интимных утех человеческого счастья, но потому, что он
их знает очень глубоко, и потому, что он так же глубоко знает их кратковременность и
ненадежность.
Но высокая оценка человеческого счастья доходит у Гомера до высокой оценки и
жизни вообще. В уста Ахилла вложена целая философия жизни (Ил., IX, 401-409):
С жизнью, по мне, не сравнится ничто, – ни богатства, какими
Троя, по слухам, владела, – прекрасно отстроенный город, –
В прежние мирные дни, до нашествия рати ахейской, –
Или богатства, какие за каменным держит порогом
Храм Аполлона, метателя стрел, на Пифоне скалистом. [166]
Можно, что хочешь, добыть, – и коров, и овец густорунных,
Можно купить золотые треноги, коней златогривых,
Жизнь же назад получить невозможно, ее не добудешь
И не поймаешь, когда чрез ограду зубов улетела.
Когда в лоне эпоса появляются различные поэтические жанры и в том числе лирика,
особенно ясно будет видно, насколько гомеровский эпос состоит не просто из
объективного изображения больших исторических событий, но также и ставит на первый
план изображение всего субъективного, личного и даже интимного, доходящего до
настоящего лирического волнения.
д) Вечное возвращение. Сейчас мы остановимся на той идее эпического
мировоззрения, которая должна будет объяснить весь секрет этого невозмутимого и
постоянно уравновешенного эпического спокойствия.
Эпический человек, хорошо зная быстротечность человеческого счастья и даже всей
человеческой жизни, знает также и то, что мировая жизнь есть вечное чередование жизни
и смерти, что за всяким счастьем следует несчастье, но зато и наоборот, за всяким
несчастьем следует счастье. Эпический человек еще в малой степени осознает
неповторимость собственной личности, и так как он живет в основном только общими
закономерностями жизни, которые и заменяют ему его внутреннюю психологию, то в
результате такого максимально простого и наивного мировоззрения и возникает эта идея
вечного возвращения, которая обосновывает для него постоянную мудрую настроенность
и, в частности, его постоянное эпическое спокойствие.
Первобытный человек очень близок к природе, настолько близок, что считает себя ее
частью, ее проявлением, ее более или менее случайным свойством. И всю человеческую
жизнь первобытный человек понимает по типу закономерностей природы. А самая
главная закономерность природы для человека, переходящего к оседлой жизни и
начинающего жить земледелием и скотоводством, это есть чередование времен года, т. е.
чередование жизни и смерти на земле. Вот эту-то закономерность природы эпический
человек и считает для себя основной, понимая в этом смысле все вообще, что существует.
Гомер и здесь не остается на высоте строгого и сурового эпического стиля, он уже
немного тронут соблазнами субъективизма. И потому свою идею вечного возвращения он
овевает грустными эмоциями, так что и здесь строгого эпоса не получается, а получается
лирически взволнованная, хотя все еще страшно сдержанная мысль о роковой
незыблемости закона вечного возвращения. Вот что можем мы прочитать в «Илиаде» (VI,
146-149):
Сходны судьбой поколенья людей с поколеньями листьев:
Листья – одни по земле рассеваются ветром, другие
Зеленью снова леса одевают с пришедшей весною. [167]
Та же самая мысль, но только еще более глубоко и безотрадно выражена Ахиллом в
его словах к Приаму, где он общечеловеческое чередование счастья и несчастья возводит к
абсолютной непреложности космических закономерностей, которая является для него,
конечно, прежде всего Зевсом (Ил., XXIV, 525-533):
Боги такую уж долю назначили смертным бессчастным, –
В горестях жизнь проводить. Лишь сами они беспечальны...
Глиняных два кувшина есть в зевсовом доме великом,
Полны даров, – счастливых один, а другой – несчастливых,
Смертный, кому их, смешавши, дает молневержец Кронион,
В жизни своей переменно то горе находит, то радость,
Тот же, кому только беды он даст, – поношения терпит,
Бешеный голод его по земле божественной гонит,
Всюду он бродит, не чтимый никем, ни людьми, ни богами.
Сквозь эту лирику, сквозь сдержанную грусть подобных поэтических образов у
Гомера ясно проступают суровые контуры стародавнего строгого эпического стиля,
который знал это вечное возвращение без всякой лирики и без всяких сентиментов*).
е) Эпическое спокойствие не мешает изображению героических подвигов, а
является его основой. Наконец, еще один штрих, и наша характеристика внутренней
стороны эпического стиля будет закончена.
Дело в том, что самый этот термин «эпическое спокойствие», столь часто
употребляемый в истории и в теории литературы, может вводить в заблуждение и, в
частности, может побуждать к неправильному и совершенно уродливому представлению