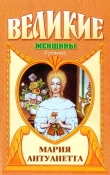Текст книги "Жозеф Бальзамо. Том 1"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 45 страниц)
5. БАРОН ДЕ ТАВЕРНЕ
Хотя тот, кто назвался бароном Жозефом де Бальзамо, уже слышал от Жильбера о крайней бедности барона де Таверне, все же убогость жилища, получившего из уст Жильбера пышное наименование замка, повергла его в удивление.
Дом был одноэтажный и представлял собой вытянутый прямоугольник, с обеих сторон которого возвышались двухэтажные башенки квадратной формы. И все же при бледном свете луны, проникавшем из-за разодранных грозой туч, это несуразное строение не лишено было некой живописной красоты.
Шесть окон внизу и по два окна в каждой башенке, по одному на каждом из этажей, довольно широкое крыльцо с расшатанными ступенями, щели между которыми на каждом шагу грозили падением в них, – таков был общий вид замка, поразивший посетителя прежде, чем он достиг порога, где, как было уже сказано, поджидал его барон в халате и со свечой в руке.
Барон де Таверне был старичок невысокого роста, лет шестидесяти или шестидесяти пяти, с живым взглядом, высоким, но нахмуренным лбом; на нем был скверный парик, мало-помалу по вине свечей, украшавших камни, роковым образом лишившийся даже тех буклей, которые пощадили крысы. В руке он держал сомнительной белизны салфетку: судя по всему, его побеспокоили, когда он садился за стол.
На его хитром лице, отдаленно напоминавшем лицо Вольтера, изобличалась, как нетрудно было заметить, борьба двух чувств: вежливость обязывала его любезно улыбаться незнакомому гостю, а нетерпение искажало черты гримасой, в которой явно проглядывала угрюмая желчность; поэтому в неверном пламени свечей, от которых на лицо резкими штрихами ложились тени, барон де Таверне казался весьма безобразным господином.
– Сударь, – обратился он к посетителю, – могу ли я узнать, какому счастливому случаю обязан удовольствием видеть вас у себя?
– Виной тому гроза, сударь, лошади мои испугались, понесли, едва не разбили карету. Я очутился на большой дороге, причем без форейторов: один из них свалился с седла, другой удрал верхом на своей лошади; встреченный мною молодой человек указал мне путь к вашему замку и заверил, что я найду у вас приют, благо ваше гостеприимство всем известно.
Барон поднял свечу повыше, надеясь разглядеть того простофилю, которому обязан был счастливым случаем, о коем только что упомянул.
Путешественник также оглянулся, дабы убедиться, что его юный проводник в самом деле его покинул.
– А знаете ли вы, сударь, как зовут того человека, который указал вам мой замок? – спросил барон де Таверне с таким видом, словно желал знать, кому выразить свою признательность.
– По-моему, если не ошибаюсь, этого юношу зовут Жильбер.
– Вот как, Жильбер! А я-то полагал, что он ни на что не годен, даже дорогу указать. Значит, это бездельник Жильбер, философ Жильбер!
Этот поток эпитетов, произнесенных самым угрожающим тоном, дал гостю понять, что владетельный сеньор и его вассал не слишком жалуют друг друга.
– Ну что ж, – произнес барон после недолгого молчания, столь же выразительного, как его слова, – извольте войти, сударь.
– Прежде мне хотелось бы распорядиться, чтобы мою карету поставили в сарай: я везу с собой вещи, которым нет цены.
– Ла Бри! – вскричал барон. – Ла Бри! Загоните карету господина барона под навес: правда, дранка уже почти вся пооторвалась, но все-таки там посуше, чем посреди двора; а вот с лошадьми дело плохо: не думаю, что для них найдется корм; но ведь они принадлежат не вам, а хозяину почтовой станции, так не все ли вам равно?
– Позвольте, сударь, – теряя терпение, воскликнул путешественник, – я начинаю понимать, что чрезмерно вас стесняю, так не лучше ли…
– Нет, сударь, ничуть не стесняете, – любезно перебил его барон, – беда только в том, что вам самому будет у меня неуютно, предупреждаю вас об этом заранее.
– Поверьте, сударь, я все равно буду вам признателен…
– Ах, сударь, я не обольщаюсь, – отвечал барон, вновь поднимая свечу, чтобы видеть Бальзамо, который с помощью Ла Бри отвел лошадей с каретой на указанное место, и повышая голос, по мере того как удалялся гость, – я не обольщаюсь, здесь у нас в Таверне невесело, а главное – очень бедно.
Путешественник был слишком занят, чтобы отвечать; он, следуя приглашению барона, выбирал под навесом место посуше, чтобы пристроить там свою карету, когда она оказалась более или менее надежно укрыта, он сунул в руку Ла Бри луидор и вернулся к барону.
Ла Бри опустил луидор в карман, уверенный, что это монетка в двадцать четыре су, и возблагодарил небо за нежданное богатство.
– Видит Бог, я нахожу ваш замок куда лучше, чем вы о нем отзываетесь, барон, – с поклоном произнес Бальзамо, и хозяин, славно желая доказать ему, что сказал правду, повел гостя через просторную и сырую прихожую; при этом покачивая головой, он ворчал:
– Ладно, ладно, я знаю, что говорю; к сожалению, я-то свои средства знаю: они весьма ограниченны. Если вы, сударь, француз – но, судя по вашему выговору, я полагаю, что вы не француз, а скорее немец, даром что имя у вас итальянское… Впрочем, все равно. Но будь вы французом, имя барона де Таверне напомнило бы вам о роскоши: когда-то нас называли Таверне-богачи.
Бальзамо сперва решил, что эта реплика завершится вздохом, но никакого вздоха не последовало.
«Философ…» – подумалось ему.
– Сюда, господин барон, сюда, – продолжал владелец замка, отворяя дверь в столовую. – Ну-ка, метр Ла Бри, подавайте на стол, да так, словно у вас под началом сотня лакеев.
Ла Бри бросился исполнять приказание.
– Это мой единственный слуга, сударь, – произнес Таверне, – и справляется он с делом скверно. Но у меня нет средств нанять другого. Этот олух состоит у меня в доме уже лет двадцать и за все время не получил ни одного су жалованья, я только кормлю его, впрочем, кормлю не лучше, чем он работает… Глуп как пень, вот увидите.
Бальзамо продолжал изучать собеседника.
«Злыдень! – подумал он. – Впрочем, быть может, это все напускное».
Барон затворил за собой дверь столовой и поднял над головой свечу; лишь теперь путешественнику удалось окинуть взглядом все помещение.
Это была обширная зала с низким потолком – когда-то, по-видимому, главная комната небольшой фермы, возведенной затем ее владельцем в ранг замка; обставлена она была столь скудно, что на первый взгляд казалась пустой. Соломенные стулья с резными спинками, гравюры с батальных сцен Лебрена [30]30
Лебрен, Шарль (1619–1690) – французский художник-классицист.
[Закрыть]в черных рамках из лакированного дерева, дубовый шкаф, почерневший от ветхости и дыма, – вот и все ее убранство. Посередине небольшой круглый стол, на котором дымилось единственное кушанье – куропатка с капустой. Вино было налито в пузатую фаянсовую бутылку; столовое серебро состояло из трех сточенных, почерневших, погнутых приборов, одного кубка и солонки.
Эта последняя, отменной работы и массивная, казалась драгоценным брильянтом среди ничего не стоящих тусклых камней.
– Прошу, сударь, прошу, – с этими словами барон предложил стул гостю, чей испытующий взгляд успел перехватить. – А, вы глядите на мою солонку, она вам понравилась. Очень мило с вашей стороны, вы весьма любезны: вы оценили единственную вещь здесь, достойную внимания. Благодарю вас, сударь мой, от всего сердца благодарю. Но нет, я ошибся, у меня есть еще одна драгоценность, ей-богу, есть: это моя дочь.
– Мадемуазель Андреа? – произнес Бальзамо.
– Ну да, мадемуазель Андреа, – отвечал барон, удивляясь такой осведомленности гостя, – и я хотел бы ей вас представить. Андреа! Андреа! Поди сюда, дитя мое, не бойся.
– Я не боюсь, отец, – ответила нежным и в то же время звучным голосом высокая и красивая девушка, скромно, но без излишней застенчивости входя в залу.
Жозеф Бальзамо, как мы уже успели убедиться, безупречно владевший собой, невольно склонился перед столь совершенной красотой.
И впрямь, с появлением Андреа де Таверне все вокруг словно заблистало золотом и роскошью; волосы у нее были каштановые, а завитки на шее и висках немного светлее; ее широко распахнутые черные глаза были ясны и смотрели по-орлиному зорко, при этом выражение их было неизъяснимо пленительно. Ее алые губы прихотливым изгибом напоминали меткий лук и блестели, как влажный коралл; тонкие кисти рук безупречно классической формы были ослепительно белы; сами руки поражали совершенной красотой; тонким и сильным станом девушка напоминала чудом ожившую античную статую; изящные ножки, достойные самой Дианы-охотницы, были так малы, что, казалось, только чудом могли служить ей опорой; наконец, наряд девушки, совершенно простой и скромный, свидетельствовал о столь безупречном вкусе и был ей до того к лицу, что парадный туалет королевы показался бы на первый взгляд не таким элегантным и пышным, как ее простое платье.
Все эти изумительные подробности сразу же бросились в глаза Бальзамо; едва мадемуазель де Таверне вошла в залу, еще прежде, чем поклониться ей, он все увидел, все заметил, барон со своей стороны также не упустил ни малейших подробностей впечатления, произведенного на гостя таким сочетанием всех совершенств.
– Вы правы, – тихо заметил Бальзамо, обернувшись к владельцу замка, – мадемуазель де Таверне – сокровище красоты.
– Не смущайте бедняжку Андреа комплиментами, сударь, – небрежно отозвался барон, – она только что вышла из монастыря и готова поверить каждому вашему слову. Нет, я вовсе не опасаюсь, – добавил он, – что она превратится в кокетку; напротив, милой моей девочке недостает кокетства, сударь, и как хороший отец я пытаюсь развить в ней желание нравиться – ведь в этом главная сила женщин.
Андреа потупилась и покраснела. При всем желании она не могла не услышать этой столь странной теории, изложенной ее отцом.
– Приходилось ли вашей дочери слушать подобные речи в монастыре? – смеясь, обратился к барону Жозеф Бальзамо. – Входило ли это наставление в науку, которую преподавали ей монахини?
– Сударь, – возразил барон, – как вы уже могли заметить, у меня на этот счет свое мнение.
Бальзамо поклонился в знак полного согласия с бароном.
– Нет уж, – продолжал тот, – я не стану уподобляться тем отцам семейств, кои твердят дочерям: будь благоразумна, недоступна, слепа, упивайся своей гордостью, деликатностью и бескорыстием. Глупцы! Они словно секунданты, которые ведут рыцаря на турнир, заранее лишив его всего вооружения, и выпускают в поединок с соперником, вооруженным до зубов. Нет, черт возьми, я не поступлю так с Андреа, хоть она и воспитывается в Таверне, этой захолустной дыре.
Бальзамо, хоть и был о замке того же мнения, что его владелец, почел своим долгом изобразить на лице полное несогласие.
– Полно, полно, – откликнулся на его мимику старик, – будет вам! Я-то знаю, что представляет собой Таверне; но как бы то ни было, как ни далеки мы от лучезарного солнца, что зовется Версалем, я внушу дочери представление о том, что такое свет, который в свое время я так хорошо изучил; и она вступит в свет, если только это случится, – она вступит в свет во всеоружии: я откую ей доспехи из собственного опыта и собственных воспоминаний… Но, признаться, сударь, монастырь весьма мне напортил… Дочь моя – экая незадача! – вероятно, первая воспитанница, которой учение пошло впрок: она принимает всерьез Священное писание. Проклятие! Согласитесь, барон, что мне чертовски не везет!
– Ваша дочь – ангел, – отвечал Бальзамо, – и все, что вы говорите, сударь, нисколько меня не удивляет, уверяю вас.
Андреа сделала гостю реверанс в знак признательности и симпатии, а затем, повинуясь взгляду отца, села за стол.
– Присаживайтесь, господин барон, – сказал Таверне, – и угощайтесь, если голодны. Это мерзкое рагу состряпал чурбан Ла Бри.
– Куропатки! И вы их обозвали ужасным рагу? – улыбаясь, возразил гость – Да вы клевещете на ваше угощение. Куропатки в мае! Их подстрелили в ваших угодьях?
– В моих угодьях! Все, чем я владел, а должен сказать, что мой старик отец оставил мне в наследство кое-какие земли, так вот, все мои владения давным-давно проданы, проедены и переварены. Ах, силы небесные! Нет, у меня, видит Бог, не осталось ни клочка земли. Но бездельник Жильбер, который только и знает, что читать да витать в облаках, в часы досуга стащил где-то ружье, раздобыл порох и пули и браконьерствует на землях моих соседей; вот он и подстрелил этих пичужек. Он кончит на галерах, куда ему и дорога: по крайней мере я от него избавлюсь. Но Андреа любит дичь – только за это я и терплю разлюбезного Жильбера.
Бальзамо бросил на Андреа испытующий взгляд, но девушка и бровью не повела.
Гостя усадили между отцом и дочерью, и девушка, нисколько, судя по всему, не смущаясь скудностью угощения, положила ему на тарелку порцию дичи, добытой Жильбером, приготовленной Ла Бри и сурово осужденной бароном. Все это время бедняга Ла Бри, жадно ловя каждое слово одобрения, сказанное гостем, прислуживал за столом; его сокрушенная физиономия озарялась торжеством при каждой новой похвале, которой Бальзамо удостаивал его стряпню.
– Он даже не посолил свое гадкое рагу! – вскричал барон, проглотив два крылышка, которые положила ему на тарелку дочь поверх изрядной горки капусты. – Андреа, передайте господину барону солонку.
Андреа повиновалась и протянула солонку жестом, исполненным безупречной грации.
– А, вижу, вы снова восхищаетесь моей солонкой, барон, – заметил Таверне.
– На сей раз вы заблуждаетесь, сударь, – возразил Бальзамо. – Я залюбовался рукой мадемуазель де Таверне.
– Браво! Ответ, достойный Ришелье! Но раз уж вы взяли эту хваленую солонку, барон, которую вы сразу же оценили по достоинству, разглядите ее! Она была изготовлена по заказу регента ювелиром Люкасом. Здесь и амуры, и сатиры, и вакханки – несколько вольно, зато премило.
Лишь теперь Бальзамо заметил, что фигурки, украшавшие солонку, при всем великолепии рисунка и исполнения, выглядели не столько вольно, сколько непристойно. И вновь он подивился спокойствию и сдержанности Андреа, которая по приказу отца протянула ему солонку без малейшего смущения и продолжала трапезу, нисколько не покраснев.
Но барон словно задался целью развеять то обаяние невинности, которое, подобно покрывалу целомудрия, о коем толкует Писание, окружало его дочь: он продолжал подробно разбирать красоты драгоценной вещицы, не обращая внимания на попытки Бальзамо переменить тему.
– Ах, да, угощайтесь, барон, заранее предупреждаю вас, что это блюдо единственное. Может быть, вы полагаете, что потом подадут жаркое, что будут закуски; не надейтесь, иначе будете жестоко разочарованы.
– Простите, сударь, – все так же невозмутимо вмешалась Андреа, – но если Николь хорошо меня поняла, она уже, наверное, печет пирог: я дала ей рецепт.
– Рецепт! Вы дали Николь Леге, вашей горничной, рецепт какого-то пирога? Ваша горничная занимается стряпней? Не хватало только, чтобы вы сами хлопотали у плиты! Разве герцогиня де Шатору или маркиза де Помпадур готовили кушанье королю? Напротив, сам король жарил им омлет… Силы небесные, моя дочь у меня в доме занимается кухней!.. Барон, умоляю вас, простите великодушно.
– Не сидеть же нам голодными, отец, – преспокойно заметила Андреа и, повысив голос, добавила: – Ну как, Леге, все готово?
– Готово, мадемуазель, – отвечала девушка, внося блюдо, источавшее весьма соблазнительный аромат.
– Кое-кто этого кушанья и в рот не возьмет, – в ярости вскричал барон, швырнув об пол тарелку.
– Быть может, наш гость не откажется, – холодно отозвалась Андреа. И, повернувшись к отцу, добавила: – Вы знаете, сударь, что у нас осталось только семнадцать тарелок из этого сервиза, а мне его завещала матушка.
С этими словами она разрезала пышущий жаром пирог, который поставила на стол очаровательная горничная Николь Леге.
6. АНДРЕА ДЕ ТАВЕРНЕ
Наблюдательность Жозефа Бальзамо находила себе обильную пищу в каждой подробности странной и одинокой жизни, которую вели эти люди в глубине Лотарингии.
Солонка – и та приоткрыла перед ним одну из сторон характера барона де Таверне, вернее, самую сущность этого характера.
Призвав на помощь всю проницательность, он вгляделся в черты Андреа, когда она кончиком ножа коснулась серебряных фигурок, которые словно сбежали с одного из тех полночных пиршеств регента, в конце которых на Канийака [31]31
Канийак, Филипп, маркиз де (1669–1725) – приятель и собутыльник герцога Филиппа Орлеанского (1674–1723), регента Франции в 1715–1723 гг. при малолетстве Людовика XV.
[Закрыть]возлагалась обязанность гасить свечи.
Движимый не то любопытством, не то иным чувством, Бальзамо глядел на Андреа с таким упорством, что менее чем в десять минут глаза их дважды или трижды встретились. Сперва чистое и невинное создание выдержало этот странный взгляд не смущаясь; но, кромсая кончиком ножа лакомство, созданное Николь, Бальзамо смотрел все пристальней, и горячечное нетерпение, от которого вспыхнули его щеки, мало-помалу передалось и девушке. Вскоре под влиянием тревоги, которую внушал ей этот почти нечеловеческий взгляд, она попыталась принять вызов и сама взглянула на гостя ясными широко распахнутыми глазами. Но не тут-то было: под магнетическими флюидами, исходившими от огненных глаз Бальзамо, ее веки налились страхом и боязливо опустились, и теперь она лишь иногда с опаской поднимала взгляд.
Между тем, пока между девушкой и таинственным путешественником шла немая борьба, барон то ворчал, то хохотал, то бранился, то сквернословил, как подобает истому деревенскому сеньору, и награждал щипками Ла Бри, который, к несчастью для себя, подворачивался ему под руку всякий раз, когда хозяин в болезненном раздражении испытывал потребность кого-нибудь или что-нибудь ущипнуть.
Барон ущипнул бы и Николь, как вдруг, несомненно в первый раз, его взгляд упал на руки юной горничной.
Барон обожал красивые руки, в молодости он из-за красивых рук совершил немало безумств.
– Посмотрите-ка, – заметил он, – что за прелестные пальчики у этой негодницы! Какая совершенная форма ногтя, как бы он изгибался – а ведь в этом и состоит высшая красота, – если бы колка дров, полоскание бутылок и чистка кастрюль не наносили ему ужасный вред! У вас словно слоновая кость на кончиках пальцев, мадемуазель Николь.
Николь, не привыкшая слышать от барона комплименты, смотрела на него с легкой улыбкой, в которой было больше удивления, чем гордости.
– Да, да, – продолжал барон, понимая, что творится в сердце кокетливой девушки. – Мой тебе совет, выставляй руки напоказ. Ах, любезный гость, уверяю вас, что наша мадемуазель Николь Леге в отличие от своей госпожи не строит из себя недотрогу и не боится комплиментов.
Бальзамо метнул быстрый взгляд на дочь барона и уловил на ее прекрасном лице тень самого благородного презрения. Он счел уместным состроить мину, соответствующую чувствам гордой красавицы, и, несомненно, угодил ей этим, потому что во взгляде, который она на него бросила, было уже меньше строгости и тревоги.
– Поверите ли, сударь, – продолжал барон, тыльной стороной ладони потрепав по подбородку Николь, которою, казалось, готов был восхищаться целый вечер, – поверите ли, ведь эта кошечка, подобно моей дочери, только что из монастыря и чуть ли не образование там получила. Мадемуазель Николь ни на шаг не отходит от своей хозяйки. Такая преданность порадовала бы господ философов, утверждающих, будто у этих созданий есть душа.
– Преданность тут ни при чем, отец, – недовольно возразила Андреа, – просто я велела, чтобы Николь от меня не отлучалась.
Бальзамо перевел взгляд на Николь, любопытствуя, какое впечатление произвели на нее гордые, едва ли не дерзкие слова госпожи, и потому, как поджались ее губы, он понял, что девушка весьма чувствительна к унижениям, на которые обрекало ее положение прислуги.
Однако обида, вспыхнувшая на лице горничной, тут же погасла; отвернувшись, по-видимому чтобы смахнуть слезинку, она взглянула в окно столовой, выходившее во двор. Все интересовало путешественника, казалось, он хотел что-то разведать у людей, к которым попал; да, все интересовало путешественника, а потому он проследил за направлением взгляда Николь, и ему почудилось, что за окном, на которое она смотрела с таким вниманием, мелькнуло мужское лицо.
«Право, в этом доме много любопытного, – подумал он, – здесь у каждого своя тайна; тайну мадемуазель я надеюсь узнать в самое ближайшее время. Тайну барона я уже знаю, а тайну Николь угадываю».
На мгновение он углубился в свои мысли, но барон тотчас же обратил на это внимание.
– Вот и вы замечтались! – сказал он. – Право, дождались хотя бы ночи, любезный гость. Мечтательность заразительна, и здесь у нас, как мне кажется, ничего не стоит подхватить эту хворь. Сочтем мечтателей. Мечтает мадемуазель Андреа – это раз; мечтает мадемуазель Николь – два; наконец, постоянно витает в мечтах бездельник, подстреливший этих куропаток, которые тоже, наверное, размечтались, когда он в них палил.
– Вы о Жильбере? – спросил Бальзамо.
– О нем. Он у нас философ, как и господин Ла Бри. Кстати, о философах. Не принадлежите ли вы часом к числу их друзей? В таком случае предупреждаю вас: моим другом вы не станете…
– Нет, сударь, я им не друг и не враг; я ни с кем из них не знаком, – отвечал Бальзамо.
– Тем лучше, черт бы их побрал! Это гнусные твари, не только безобразные, но и ядовитые. Своими максимами они губят монархию! Во Франции никто больше не смеется, все читают – и что читают? «При монархическом правлении народу нелегко сохранить добродетель» [32]32
Монтескьё. – Прим. авт.
[Закрыть]. Или: «Истинная монархия есть учреждение, изобретенное с целью развратить народы и поработить их» [33]33
Гельвеций. – Прим. авт.
[Закрыть]. Или, к примеру: «Если власть королей от Бога, то разве в том смысле, в каком ниспосылаются свыше хвори и всякие бедствия» [34]34
Жан Жак Руссо. – Прим. авт.
[Закрыть]. Как все смехотворно! Добродетельный народ – ну кому это нужно, скажите на милость? Да, дела идут из рук вон плохо, и все началось, когда его величество удостоил беседы господина де Вольтера и стал читать книги господина Дидро.
В этот миг гостю снова смутно почудилось за окном то же лицо. Но едва Бальзамо стал всматриваться в это лицо, оно исчезло.
– Быть может, вы, мадемуазель, причисляете себя к философам? – с улыбкой осведомился Бальзамо.
– Не знаю, что такое философия, – отвечала Андреа. – Знаю только, что люблю все серьезное.
– Ах, дочь моя! – воскликнул барон. – Благоденствие, вот, по-моему, самая серьезная вещь на свете, любите же благоденствие.
– Но мне сдается, вы, мадемуазель, вовсе не питаете отвращения к жизни? – спросил Бальзамо.
– Всяко бывает, сударь, – отозвалась Андреа.
– Очень глупо, – заметил барон. – Вообразите, сударь, то же самое, слово в слово, я слышал и от собственного сына.
– У вас есть сын, любезный барон? – спросил Бальзамо.
– Видит Бог, это несчастье меня не миновало; виконт де Таверне, лейтенант конной гвардии дофина, превосходнейший молодой человек!
Три последних слова барон процедил сквозь зубы, словно нехотя.
– Примите мои поздравления, сударь, – с поклоном отозвался Бальзамо.
– Да, – продолжал старик, – он у нас тоже философ. Право слово, остается только руками развести. Как-то раз принялся меня убеждать, что необходимо освободить негров. «А как же сахар? – говорю я ему. – Я люблю пить кофе с сахаром, и король Людовик XV тоже». «Отец, – отвечает он, – лучше обойтись без сахара, чем видеть, как страдает целый народ». «Не народ, а обезьяны, – возразил я, – и даже этим наименованием я делаю им много чести». И знаете, что он заявил мне в ответ на это? Должно быть, в воздухе носится какая-то зараза, которая сводит их всех с ума! Он заявил, что все люди – братья! Я – брат негра из Мозамбика!
– О да, – проронил Бальзамо, – это уж слишком.
– И не говорите! Повезло мне с обоими детьми, не правда ли! Обо мне никак не скажешь, будто я возродился в своем потомстве. Дочь у меня ангел, а сын апостол! Пейте же, сударь… Правда, винцо дрянное.
– А по-моему, вино превосходное, – возразил Бальзамо, глядя на Андреа.
– Ну, значит, вы тоже философ!.. Берегитесь же, я заставлю дочку прочесть вам проповедь. Впрочем, нет: философы не верят в Бога. О Господи, а ведь до чего удобно жилось верующим: веруй в Бога да в короля, и все тут. А нынче, чтобы не веровать ни в того, ни в другого, нужно столько всего изучить, столько всего прочесть; поэтому предпочитаю не поддаваться сомнениям. В мое время изучали по крайней мере всякие приятные вещи: учились играть в фараон, бириби и кости; невзирая на эдикты, при каждом удобном случае хватались за шпаги; разоряли герцогинь, разорялись ради танцовщиц; я и сам так жил. Все поместье Таверне перешло к оперным дивам, и это единственное, о чем я жалею, потому что разорившийся мужчина – больше уже не мужчина. Поглядите на меня: я кажусь вам стариком, не так ли? Что ж, потому, что я разорен и живу в глуши; потому что парик у меня обтрепанный, а платье допотопное; но поглядите на моего друга маршала, который одет с иголочки, носит пышные парики, живет в Париже и обладает двумястами тысячами ливров ренты. Право, он еще молод, он свеж, бодр, предприимчив! А ведь он десятью годами старше меня, милостивый государь, десятью годами!
– Вы имеете в виду господина де Ришелье?
– Разумеется.
– Герцога де Ришелье?
– Черт побери, не кардинала же! Все же я еще не так стар. Впрочем, он добился меньшего, чем его племянник, и держался он не так долго.
– Удивляюсь, барон, что, имея столь могущественных друзей, вы удалились от двора.
– Удалился на время, вот и все, но когда-нибудь я еще туда вернусь, – отвечал барон, бросив странный взгляд на дочь.
Бальзамо на лету перехватил этот взгляд.
– Но господин маршал способствует хотя бы продвижению вашего сына? – спросил он.
– Да что вы! Он моего сына терпеть не может.
– Сына своего друга?
– Он совершенно прав.
– Как! Вы полагаете, что он прав?
– Этот философ, черт бы его побрал, внушает маршалу отвращение.
– Впрочем, Филипп платит маршалу взаимностью, – с отменным хладнокровием вставила Андреа. – Леге, уберите со стола!
Молоденькая горничная оторвалась от окна, которое, казалось, властно притягивало ее взгляд, и принялась за дело.
– Ах, – вздохнул барон, – было время, мы засиживались за столом до двух ночи. Но тогда нам было чем угоститься на ужин! А когда еда уже не шла нам в глотку, мы продолжали пить. Но что за радость запивать трапезу дрянным вином… Леге, подайте бутылку мараскина… если там еще что-нибудь осталось.
– Выполняйте распоряжение, – сказала Андреа горничной, которая, прежде чем повиноваться барону, ждала, казалось, подтверждения от своей госпожи.
Барон откинулся на спинку кресла и, прикрыв глаза, принялся испускать преувеличенно меланхоличные вздохи.
– Вы говорили о маршале де Ришелье, – начал Бальзамо, решив, по-видимому, во что бы то ни стало поддержать разговор.
– Да, – откликнулся Таверне, – вы правы, я о нем говорил.
И он замурлыкал какой-то мотивчик, меланхоличностью не уступавший вздохам.
– Пускай он ненавидит вашего сына, пускай ненависть его объясняется тем, что ваш сын философ, – продолжал Бальзамо, – но к вам-то он, по-видимому, питает прежнюю дружбу: вы же не философ!
– Я-то? Нет, упаси Бог!
– Полагаю, что вы достаточно знатны? Вы были на королевской службе?
– Пятнадцать лет. Я был адъютантом маршала; мы вместе проделали маонскую кампанию, и дружба наша зародилась… постойте-ка… во времена знаменитой осады Филипсбурга, значит, не то в тысяча семьсот сорок втором, не то в сорок третьем году.
– Вот оно что! – воскликнул Бальзамо. – Вы участвовали в осаде Филипсбурга! Я тоже там был.
Старик привстал в кресле и с изумлением взглянул Бальзамо в лицо.
– Простите, – осведомился он, – но сколько же вам лет, любезный гость?
– О, я старше, чем кажусь, – отвечал Бальзамо, протягивая свой бокал Андреа, которая грациозно налила ему вина.
Барон по-своему истолковал ответ гостя; он решил, что у Бальзамо есть причины скрывать свой возраст.
– Сударь, – заметил он, – позвольте сказать вам, что для человека, дравшегося под Филипсбургом, вы выглядите чересчур молодо. Со времени осады минуло двадцать восемь лет, а вам никак не дашь больше тридцати, если я не ошибаюсь.
– Ах, боже мой, да ведь тридцать лет дашь кому угодно! – небрежно уронил путешественник.
– Мне, черт побери, никак их не дашь! – воскликнул барон. – Тридцать лет мне было ровно тридцать лет назад.
Андреа смотрела на приезжего не отводя глаз, побуждаемая непобедимым любопытством. В самом деле, с каждой минутой этот странный человек раскрывался перед ней с новой стороны.
– Словом, сударь, вы меня смущаете, – изрек барон, – если, конечно, вы не заблуждаетесь, что вполне возможно, и не путаете Филипсбург с каким-нибудь другим городом. По-моему, вам никак не может быть больше тридцати, не правда ли, Андреа?
– Верно, – отвечала девушка, снова безуспешно пытаясь выдержать неотразимый взгляд гостя.
– Ничего подобного, уверяю вас, – возразил тот, – я знаю, что говорю, а говорю я сущую правду. Я имею в виду ту знаменитую осаду Филипсбурга, когда господин герцог де Ришелье убил на дуэли своего кузена принца де Ликсена. Как сейчас помню, поединок был сразу после возвращения из траншеи, на большой дороге, на обочине этой дороги, слева, герцог проткнул его насквозь шпагой. Я как раз проходил мимо, когда он испускал дух на руках у принца Цвайбрюккенского. Он сидел на откосе рва, а господин де Ришелье преспокойно обтирал свою шпагу.
– Честью клянусь, милостивый государь, – вскричал барон, – вы меня поражаете! Все было в точности так, как вы говорите.
– Вам об этом рассказывали? – спокойно осведомился Бальзамо.
– Я был там, я имел честь присутствовать при поединке в качестве свидетеля господина маршала; правда, тогда он не был маршалом, но это все равно.
– Погодите, – произнес Бальзамо, устремив на барона пристальный взгляд.
– Что?
– Не было ли на вас в те времена мундира капитана?
– Да, правда, был.
– Вы служили в полку легкой конницы королевы, том, что был наголову разбит под Фонтенуа?
– А вы, что же, и под Фонтенуа были? – осведомился барон, пытаясь усмехнуться.
– Нет, – спокойно отвечал Бальзамо, – под Фонтенуа меня уже не было в живых.
Барон остолбенел от изумления, Андреа содрогнулась, Николь перекрестилась.
– Итак, возвращаясь к нашему разговору, – продолжал Бальзамо, – на вас был мундир гвардейского конного стрелка, я прекрасно помню. Я видел вас, проходя: вы держали лошадь маршала и свою, пока продолжался поединок. Я подошел к вам и расспросил о подробностях дуэли, а вы мне все рассказали.
– Я?
– Да, вы, черт побери! Теперь я вас признал: вы тогда еще не были бароном. Вас называли не иначе как маленьким шевалье.
– Будь я проклят! – вскричал потрясенный Таверне.
– Простите, что не узнал вас сразу. Но за тридцать лет человек меняется. За здоровье маршала де Ришелье, любезный барон!
И Бальзамо, подняв бокал, выпил вино до последней капли.
– И вы видели меня в те времена? – повторил барон. – Непостижимо!