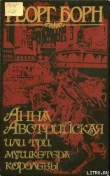Текст книги "Жозеф Бальзамо. Том 1"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 45 страниц)
– Тогда объяснитесь и скажите, что меня волнует.
– Ваше высочество, принцы из вашего рода всегда были склонны к любви большой и опасной. Это закон, и вы не являетесь исключением.
– Я не понимаю, о чем вы говорите, – пролепетал принц.
– Напротив, прекрасно понимаете. Я мог бы коснуться многих струн, которые звучат в вас, но зачем? Я задел именно ту, которую нужно, и она зазвенела, да еще как!
Кардинал поднял голову и, все еще немного сомневаясь, вопросительно заглянул в глаза Бальзамо, смотревшие ясно и уверенно. Тот улыбнулся с выражением такого превосходства, что кардинал опустил взгляд.
– О, вы правы, монсеньер, совершенно правы, и не надо так смотреть на меня: я слишком ясно вижу, что происходит у вас в сердце – ведь там словно в зеркале отражается внешний вид предметов.
– Молчите, граф Феникс, молчите! – испуганно вскрикнул кардинал.
– Да, вы правы, нужно молчать: пока не пришло еще время выставлять напоказ такую любовь.
– Вы говорите, пока еще?
– Да.
– Значит, у этой любви есть будущее?
– А почему бы и нет?
– А вы можете уверить меня в том, что эта любовь не безрассудна? Я ведь так считал, считаю и буду считать до тех пор, покуда мне не докажут обратное.
– Вы просите слишком многого, ваше высокопреосвященство. Я не могу ничего сказать, пока не встречусь с той, что внушила вам эту любовь, или не получу какой-нибудь принадлежащий ей предмет.
– Что за предмет вы имеете в виду?
– К примеру, прядь – хоть самую маленькую – ее прекрасных золотистых волос.
– О, да вы и в самом деле человек проницательный! Вы действительно читаете в моем сердце с тою же легкостью, с какой я читаю книгу.
– Увы! То же самое сказал мне ваш бедный двоюродный прадед, шевалье Луи де Роган, когда я прощался с ним в Бастилии у подножия эшафота, на который он столь бесстрашно взошел.
– Он вам так сказал? Что вы – проницательный человек?
– Да, и к тому же что я умею читать в сердцах. Я ведь предупреждал, что шевалье де Прео его предаст. Он не хотел меня слушать, но все вышло по-моему.
– Вы видите большое сходство между мной и моим предком? – побледнев, спросил кардинал.
– Я только хочу напомнить вам, монсеньер, что вы должны быть очень осмотрительны, когда будете добывать прядь волос из-под короны.
– Куда бы мне ни пришлось за нею отправиться, вы ее получите, сударь.
– Отлично. Вот ваше золото, принц; надеюсь, вы больше не сомневаетесь в том, что это и в самом деле золото?
– Дайте мне перо и бумагу.
– Зачем, монсеньер?
– Чтобы написать расписку в получении ста тысяч экю, которые вы столь любезно дали мне в долг.
– Полно, монсеньер, зачем мне ваша расписка?
– Я часто делаю долги, мой дорогой граф, но имейте в виду: я никогда не беру деньги просто так.
– Как вам будет угодно, принц.
Кардинал взял со стола перо и необычайно крупным и неудобочитаемым почерком написал расписку, орфография которой заставила бы сегодня ужаснуться даже экономку ризничего.
– Так будет хорошо? – протягивая бумагу Бальзамо, спросил кардинал.
– Превосходно, – даже не взглянув на нее, ответил граф и положил лист в карман.
– Вы не хотите ее прочесть, сударь?
– У меня есть слово вашего высокопреосвященства, а слово Роганов стоит больше любого заклада.
– Граф, – проговорил кардинал с полупоклоном, что со стороны человека его положения значило немало, – вы весьма любезны, и, коль скоро я не могу сделать вас своим должником, прошу не лишать меня удовольствия оставаться вашим.
Поклонившись в свою очередь, Бальзамо дернул за сонетку, и на пороге появился Фриц. Граф что-то сказал ему по-немецки, Фриц наклонился и, словно ребенок, которому нужно унести восемь апельсинов, немного неловко, но без видимых усилий поднял восемь слитков, обернутых в очески.
– Этот малый – настоящий Геркулес! – воскликнул кардинал.
– Да, принц, он довольно силен, – отозвался Бальзамо. – Однако, истины ради, должен сказать, что с тех пор, как он у меня на службе, я каждое утро даю ему три капли эликсира, приготовленного моим ученым другом доктором Альтотасом. Эликсир уже начинает действовать, через год парень будет поднимать одной рукой восемьсот унций.
– Поразительно! Непостижимо! – пробормотал кардинал. – Я не смогу удержаться, чтобы не рассказать обо всем этом.
– Расскажите, ваше высочество, расскажите, но не забывайте, что тем самым вы обяжетесь собственноручно поджечь мой костер, если парламенту вдруг вздумается изжарить меня на Гревской площади, – со смехом ответил Бальзамо.
Он проводил именитого посетителя до ворот и распрощался с ним, не позабыв почтительно поклониться.
– Где же ваш слуга? Я его не вижу, – удивился кардинал.
– Он понес золото в вашу карету, монсеньер.
– Так он знает, где она?
– Под четвертым деревом направо по бульвару. Это я ему и сказал по-немецки, принц.
Кардинал воздел руки к небу и исчез во мраке. Бальзамо дождался Фрица и поднялся к себе, закрывая по пути все двери.
60. ЭЛИКСИР ЖИЗНИ
Оставшись один, Бальзамо подошел к двери Лоренцы и прислушался. Девушка дышала во сне ровно и спокойно. Тогда он приоткрыл маленькое окошечко, прорезанное в двери, и несколько минут смотрел на Лоренцу, предаваясь сладким и нежным мечтам. Затем, затворив окошко и пройдя через описанную нами комнату, которая отделяла покои Лоренцы от физического кабинета, поспешил к очагу. Он загасил его, открыв заслонку, выпускавшую тепло в трубу, и пустил воду из находившегося на террасе бассейна.
После этого граф аккуратно положил расписку кардинала в сафьяновый бумажник и пробормотал:
– Слово Роганов хорошо лишь для меня, а для них хорошо, когда известно, на что употребить монашеские золото.
Не успел он договорить, как три коротких удара в потолок заставили его поднять голову.
– Ага, меня зовет Альтотас, – проговорил граф.
Он проветрил лабораторию, тщательно прибрался, закрыл очаг, и тут снова послышались удары.
– Ему не терпится – это добрый знак.
Взяв длинный железный прут, он в свою очередь постучал, затем потянул за металлическое кольцо в стене; с помощью скрытой пружины с потолка лаборатории на пол опустился подъемный люк. Бальзамо встал посредине; люк, приведенный в действие другой пружиной, поднял свой груз так легко и плавно, как специальный подъемник в опере возносит к небесам богов и богинь, и ученик очутился у своего учителя.
Новое обиталище старика ученого имело футов восемь-девять в высоту и около шестнадцати в поперечнике, освещалось оно через отверстие в потолке, а все его четыре стены были глухими. Комната эта, как видит читатель, выглядела настоящим дворцом по сравнению с прежним жилищем старика, устроенным в карете.
Ученый сидел в кресле на колесиках перед мраморным подковообразным столом, заваленным всякой всячиной – растениями, колбами, инструментами, книгами, различными приборами и бумагами с кабалистическими знаками. Он был так поглощен своим занятием, что даже не пошевелился при появлении Бальзамо.
Свет лампы с отражателем, подвешенной к выступу в потолочной раме, падал на его голый блестящий череп. В руке он держал бутылку из белого стекла и разглядывал, насколько она прозрачна, словно хозяйка, покупающая яйца и проверяющая их на просвет.
Некоторое время Бальзамо молча глядел на него, затем спросил:
– Ну как, есть что-нибудь новое?
– О да. Входи, Ашарат, я восхищен, я счастлив – я нашел!
– Что вы нашли?
– То, что искал, черт возьми!
– Золото?
– Вот еще, золото!
– Тогда алмаз?
– Вздор какой. Золото, алмазы – это чепуха, стал бы я им радоваться. Я нашел его!
– Значит, вы нашли свой эликсир? – спросил Бальзамо.
– Да, друг мой, мой эликсир, то есть жизнь! Да что я говорю – вечную жизнь!
– Так, значит, вы все еще занимаетесь этими бреднями? – печально проговорил Бальзамо, считавший эту работу чудачеством.
Но Альтотас, не слушая его, любовно разглядывал свою колбу.
– Наконец-то состав найден, – продолжал он. – Двадцать гранов эликсира из капской аристеи, пятнадцать гранов ртутного бальзама, пятнадцать гранов золотого осадка, двадцать пять гранов масла ливанского кедра.
– Но мне кажется, что, если не считать эликсира из капской аристеи, это же ваша последняя комбинация, учитель?
– Да, но мне не хватало главного компонента, который объединяет все остальные и без которого все остальные – ничто.
– И вы его нашли?
– Нашел.
– И можете его добыть?
– Еще бы!
– Что же это?
– К веществам в этой колбе нужно добавить три последние капли крови из артерии ребенка.
– Да, но где вы возьмете ребенка? – в ужасе вскричал Бальзамо.
– Ты мне его достанешь.
– Я?
– Да, ты.
– Вы с ума сошли, учитель.
– А что? В чем дело? – переспросил старик, с наслаждением облизывая склянку, на которую через плохо заткнутую пробку просочилась капля жидкости.
– Вам нужен ребенок, чтобы взять у него из артерии три последние капли крови?
– Да.
– Но его же нужно убить для этого?
– Разумеется, и чем красивее он будет, тем лучше.
– Это невозможно, здесь берут детей не для того, чтобы потом их убивать, – пожав плечами, проговорил Бальзамо.
– Да что же с ними тогда делают? – с ужасающей наивностью изумился старик.
– Воспитывают, черт побери!
– Вот как! Мир, стало быть, изменился. Три года назад нам предлагали сколько угодно детей за четыре заряда пороха или полбутылки водки.
– Это было в Конго, учитель?
– Ну да, в Конго. Для меня годятся и черные дети, мне все равно. Помню, что те, которых нам предлагали, были очень милые, кудрявые и резвые.
– Чудесно, но, к сожалению, дорогой учитель, мы не в Конго.
– Ах, не в Конго. А где же?
– В Париже.
– В Париже? Ну и что? Если сесть на корабль в Марселе, через полтора месяца мы окажемся в Конго.
– Это, разумеется, возможно, однако мне необходимо быть во Франции.
– Зачем это тебе нужно быть во Франции?
– У меня здесь дела.
– Дела во Франции?
– Да, и нешуточные.
Старик разразился долгим зловещим смехом.
– Дела! Да еще во Франции! Верно, я и забыл, что ты хочешь учредить здесь тайные общества!
– Да, учитель.
– И замышляешь всякие заговоры.
– Да, учитель.
– Вот и все твои так называемые дела.
И старик снова насмешливо и недобро рассмеялся. Бальзамо молчал, собирая силы перед бурей, приближение которой он чувствовал.
– И к чему же ведут все эти твои дела, а? – с трудом повернувшись в кресле и уставившись большими серыми глазами на ученика, осведомился старик.
– К чему ведут? – переспросил тот.
– Да, к чему?
– Я бросил первый камень, вода взбаламутилась.
– И какую же тину ты разворошил, отвечай?
– Хорошую, философскую.
– Ну да, ты хочешь пустить в ход свои утопии, свои пустые мечтания, весь этот туман: всякие шуты будут спорить, есть Бог на свете или нет, вместо того чтобы, как я, самим пытаться стать богами. А что это за знаменитые философы, с которыми ты познакомился, – отвечай.
– У меня есть уже самый крупный современный поэт и безбожник. Вскоре он должен вернуться во Францию, откуда его изгнали, и быть посвященным в масоны в ложе, которую я устроил на улице По-де-Фер, в бывшем доме иезуитов.
– Как его зовут?
– Вольтер.
– Не знаю такого. Кто еще?
– В скором времени меня должны свести с властителем дум этого времени, автором «Общественного договора».
– А его как зовут?
– Руссо.
– И этого не знаю.
– Естественно, вы же знаете лишь Альфонса Десятого, Раймунда Луллия, Петра Толедского да Альберта Великого [151]151
Знаменитые средневековые алхимики.
[Закрыть].
– Да это же единственные люди, которые жили на самом деле, потому что только они постоянно мучились великим вопросом: быть или не быть.
– Жить можно двумя способами, учитель.
– Я знаю только один: существовать. Но вернемся к этим философам. Как ты их назвал?
– Вольтер и Руссо.
– Да, помню. И ты намерен с помощью этих людей…
– Овладеть настоящим и разрушить будущее.
– Неужели в этой стране люди настолько глупы, что дают идеям увлечь себя?
– Напротив, они слишком умны, и поэтому идеи оказывают на них большее влияние, нежели факты. А потом у меня есть помощница, которая сильнее всех философов на свете.
– Что же это за помощница?
– Скука. Монархия существует во Франции уже около шестнадцати столетий, и французы устали от нее.
– Так что же, они собираются ее свергнуть?
– Да.
– Ты так считаешь?
– Несомненно.
– И подталкиваешь их, да?
– Изо всех сил.
– Дурак!
– Отчего же?
– Какая тебе польза от свержения монархии?
– Мне – никакой, а для всех – счастье.
– Ну, я сегодня удовлетворен собою и готов тебя послушать. Объясни мне сперва, каким образом ты собираешься достичь счастья, а затем объясни, что это такое.
– Как я достигну счастья?
– Да, как ты добьешься счастья для всех, то есть свержения монархии – ведь это для тебя равносильно всеобщему счастью? Я слушаю тебя.
– Дело в том, что теперешнее министерство – это последний оплот, стоящий на защите монархии. Министерство это умное, трудолюбивое и смелое, оно могло бы поддерживать усталую и расшатанную монархию еще лет двадцать, вот они и помогут мне свергнуть его.
– Кто они? Эти твои философы?
– Вовсе нет, философы-то как раз его поддерживают.
– Как! Твои философы поддерживают министерство, которое поддерживает монархию, и в то же время являются врагами монархии? Ну и глупцы же эти философы!
– Суть в том, что первый министр и сам философ.
– А, понимаю, они оказывают воздействие на этого министра. Стало быть, я ошибся: они не глупцы, а эгоисты.
– Я не собираюсь обсуждать, кто они такие, – начиная раздражаться, проговорил Бальзамо, – этого я не знаю, но знаю, что стоит этому министерству пасть, как все тотчас же восстанут против нового. Против него будут и философы, и парламент; философы станут вопить, парламент тоже, министерство начнет преследовать философов и разгонит парламент. И тогда появится тайный союз, стойкая, упорная, постоянная оппозиция, которая будет нападать на все, непрерывно вести подкопы, расшатывать, разрушать. Вместо парламента будут назначены судьи; поскольку назначены они будут королевской властью, то сделают для нее все. Их обвинят – и заслуженно – в продажности, взяточничестве, несправедливости. Народ поднимется, и в результате против королевской власти выступят философы, олицетворяющие разум, парламент, олицетворяющий буржуазию, и народ, олицетворяющий самого себя, то есть тот самый рычаг, необходимый Архимеду, чтобы перевернуть мир.
– Прекрасно, но, перевернув мир, ты потом неизбежно его уронишь.
– Правильно, и, когда он упадет, королевская власть разобьется.
– И когда она разобьется – я продолжаю пользоваться твоими ложными образами и высокопарным слогом, – когда трухлявая королевская власть разобьется, что же восстанет из руин?
– Свобода.
– Ага, значит, французы станут свободны?
– Когда-нибудь это обязательно произойдет.
– Они станут свободны, все?
– Все.
– И во Франции будет тридцать миллионов свободных людей?
– Да.
– А ты не думаешь, что среди этих тридцати миллионов свободных людей отыщется человек чуть поумнее других, который в одно прекрасное утро отнимет свободу у своих двадцати девяти миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти сограждан, чтобы иметь немного больше свободы для себя? Помнишь, в Медине у нас была собака, которая однажды съела всю еду у других собак?
– Да, но потом другие объединились и загрызли ее.
– Потому что это были собаки, люди смолчали бы.
– Значит, разум человека вы ставите ниже разума собаки, учитель.
– Увы, за примерами далеко ходить не надо.
– Что же это за примеры?
– Кажется, в древние времена был некий Цезарь Август, а в нынешние – некий Оливер Кромвель, которые яростно впивались зубами в пирог – один в римский, другой – в английский, хотя те, у кого этот пирог вырывали, никак против этого не возражали и ничего не предпринимали.
– Ладно, предположим, такой человек появится. Он будет смертен и умрет, но прежде сделает добро тем, кого угнетал, потому что изменит природу аристократии: вынужденный на что-нибудь опереться, он выберет самую крепкую опору, то есть народ. Равенство, которое унижает, он заменит на равенство возвышающее. У равенства нет четкого предела, это уровень, соответствующий высоте того, кто его устанавливает. Значит, возвышая людей, он воспользуется принципом, до него неизвестным. Революция сделает французов свободными; протекторат второго Цезаря Августа или Оливера Кромвеля сделает их равными.
Альтотас резко повернулся в кресле и воскликнул:
– До чего все же глуп этот человек! Стоило тратить двадцать лет жизни, чтобы воспитать ребенка, научить его всему, что знаешь, чтобы в тридцать лет он заявил тебе, что люди будут равны!
– Конечно, люди будут равны – равны перед законом.
– А перед смертью, глупец, перед смертью, этим законом законов, они тоже будут равны, если один умрет в трехдневном возрасте, а другой доживет до ста лет? Как люди могут быть равны, пока не победили смерть? О гнусная, архигнусная смерть!
Альтотас откинулся на спинку и расхохотался; серьезный и печальный Бальзамо сидел с опущенной головой. Альтотас с жалостью посмотрел на него и продолжал:
– Неужели меня можно равнять с рабочим, жующим свой грубый хлеб, или с младенцем, сосущим грудь кормилицы, или с выжившим из ума старцем, пьющим свою сыворотку и точащим слезы из потухших глаз? Поразмысли-ка, скверный софист, вот о чем: люди не будут равны, пока не станут бессмертными, потому что, став бессмертными, они превратятся в богов, а равны только боги.
– Бессмертие… Бессмертие – химера, – прошептал Бальзамо.
– Химера? – вскричал Альтотас. – Да, химера! Такая же, как пар, как флюиды, как все, чего ищут, что еще не открыто, но будет открыто. Перетряхни вместе со мною пыль миров, обнажи один за другим напластования, представляющие собой цивилизации, и скажи, что прочтешь ты в этих человеческих слоях, в этих обломках королевств, в этих рудных жилах веков, которые, словно ломтями, разрезают железо современных исследований? А вот что: люди всегда искали то, чего я сам ищу под разными именами: добро, благо, совершенство. Когда же именно они искали это? Во времена Гомера, когда люди жили по двести лет, во времена патриархов, живших по восемь столетий. Они не нашли это добро, это благо, это совершенство – ведь в противном случае наш дряхлый мир стал бы свежим, девственным и розовым, словно утренняя заря. А что вместо этого? Мучения, затем труп, затем тлен. Разве мучения приятны? Труп прекрасен? Тлен желанен?
– Ну хорошо, – прервал старика Бальзамо, воспользовавшись тем, что тот закашлялся. – Вы говорите, что никто еще не отыскал эликсира жизни. А я говорю, что никто и не найдет, Бог тому свидетель.
– Глупец! Никто не нашел, значит, никто и не найдет! Кстати, никаких открытий тут и не может быть. Ты, наверно, думаешь, что открытие – это что-нибудь новое? Как бы не так, это нечто старое, забытое, а потом найденное снова. А почему то, что найдено, предается забвению? Потому, что жизнь слишком коротка, чтобы первооткрыватель мог извлечь из своего открытия все, что оно содержит. Эликсир жизни едва не был открыт раз двадцать. Ты полагаешь, Стикс – это плод воображения Гомера? Или думаешь, что почти бессмертный Ахилл, у которого уязвима была лишь пята, – это сказка? Нет, Ахилл был учеником Хирона – точно так же, как ты – мой ученик. Хирон же означает или «совершенный», или «наихудший». Хирон был ученым, его представляли в виде кентавра, потому что наука сочетала в себе силу человека и быстроту лошади. Так вот, он тоже почти уже нашел эликсир бессмертия. Быть может, ему, как и мне, не хватало лишь тех самых трех капель крови, в которых ты мне отказываешь. Вот их-то отсутствие и сделало уязвимой Ахиллесову пяту, и смерть, отыскав лазейку, вошла через нее. Повторяю тебе: Хирон, человек разносторонний – и совершенный, и наихудший, – это тот же самый Альтотас, которому его собственный ученик Ашарат помешал завершить труд, призванный спасти человечество и, в сущности, избавить его от божественного проклятия. Ну, что ты на это скажешь?
– Скажу, – ответил Бальзамо, который явно уже начал колебаться, – что у меня свое дело, у вас – свое. Пусть каждый занимается своим делом на собственный страх и риск. Пособлять вам в преступлении я не намерен.
– В преступлении?
– Да еще в каком! В преступлении, из-за которого на вас будут бросаться все подряд и с позором повесят, от чего ваша наука не может пока защитить ни совершенных людей, ни наихудших.
Ударив своими сухими ладошками по мраморной столешнице, Альтотас возразил:
– Ну-ну, только не будь человечным идиотом, самым жалким идиотом из всех существующих. Давай-ка лучше поговорим немного о законе, жестоком и нелепом законе, выдуманном животными твоей породы; его возмущает одна капля крови, пролитая с умом, но в то же время он готов исторгнуть потоки этой жизненной влаги, проливая ее в общественных местах, на стенах городов, на равнинах, называемых полем боя. Твой закон и глуп и эгоистичен: он приносит в жертву человека будущего человеку сегодняшнему, его девиз: «Да здравствует день сегодняшний и да погибнет день завтрашний!» Ну что, хочешь поговорить об этом законе?
– Говорите что хотите, я вас слушаю, – все больше мрачнея, отозвался Бальзамо.
– У тебя есть карандаш или перо? Нам нужно кое-что подсчитать.
– Я хорошо считаю без пера и карандаша. Говорите же, что хотите сказать, говорите.
– Возьмем твой план. Так, сейчас вспомню… Ты свергаешь министерство, разгоняешь парламент, назначаешь несправедливых судей, вызываешь банкротства, подстрекаешь к мятежам, разжигаешь революцию, упраздняешь монархию, даешь образоваться протекторату и сбрасываешь протектора. Революция даст тебе свободу. Протекторат – это равенство. И когда французы станут свободными и равноправными, твой труд окончен. Правильно?
– Вполне. Вы считаете это невозможным?
– Не считаю. Ты же видишь, я все говорю по-твоему.
– И что же?
– Погоди. Во-первых, Франция – это тебе не Англия, где было сделано все, как ты собираешься сделать, плагиатор ты этакий. Франция – это не изолированное государство, где можно свергать правительство, разгонять парламент, назначать несправедливых судей, вызывать банкротство, подстрекать к мятежам, разжигать революцию, образовывать протекторат и прогонять протектора без того, чтобы другие нации во все это не вмешивались. Франция такая же неотъемлемая часть Европы, как печень – часть внутренностей человека, Франция связана корнями со всеми нациями, жилами – со всеми народами; попробуй вырвать печень у огромного организма, называемого Европой, и через двадцать, тридцать, пусть сорок лет все тело задрожит. Я, правда, беру наименьший срок – двадцать лет: это много? Отвечай-ка, мудрый философ.
– Немного и даже недостаточно, – отозвался Бальзамо.
– Прекрасно, я удовлетворен. Двадцать лет войны, двадцать лет борьбы – ожесточенной, смертельной, непрекращающейся. По двести тысяч погибших в год – и это немного, потому что битва идет и в Германии, и в Италии, и в Испании, и Бог знает где еще. Двести тысяч человек в год – за двадцать лет это даст четыре миллиона; если считать, что в человеке семнадцать фунтов крови – примерно так оно и есть, – то получится… семнадцать умножить на четыре… так… получится шестьдесят восемь миллионов фунтов крови, которые надо пролить, чтобы достичь твоей цели. Я же прошу у тебя три капли. А вот теперь скажи: кто из нас безумец, дикарь и каннибал? Молчишь?
– Безусловно, учитель, я отвечу, что три капли – это ничто, если вы уверены в результате.
– А ты, собираясь пролить шестьдесят восемь миллионов фунтов крови, уверен? Тогда встань, положи руку на сердце и скажи: «Учитель, четыре миллиона трупов – гарантия счастья всего человечества».
– Учитель, ради всего святого, оставим это, – уклонился Бальзамо.
– Ага! Не хочешь сказать? – торжествующе вскричал Альтотас.
– Вы заблуждаетесь относительно действенности вашего средства, учитель, оно невозможно.
– А я-то надеялся, что ты подашь мне совет, будешь мне возражать, будешь меня опровергать, – разозлился Альтотас, вращая своими серыми глазами, которые холодно и гневно глядели из-под седых бровей.
– Нет, учитель, но я размышляю – я ведь каждый день нахожусь в гуще жизни, сталкиваюсь с людьми, веду войну с принцами, я не забился, как вы, в угол, безразличный ко всему, что происходит, ко всему, что защищается или идет в наступление, я не занимаюсь учеными абстракциями и начетничеством, я знаю о трудностях и говорю о них, вот и все.
– Ты быстро преодолеешь трудности, если пожелаешь.
– Скорее, если поверю.
– Так ты не веришь?
– Не верю, – ответил Бальзамо.
– Ты меня искушаешь, искушаешь! – вскричал Альтотас.
– Нет, я сомневаюсь.
– Ну, ладно. Ты веришь в смерть?
– Я верю, что она существует. Да, смерть существует.
– Значит, смерть существует – хоть это-то ты не оспариваешь? – пожав плечами, осведомился Альтотас.
– Это бесспорно.
– Смерть бесконечна и необорима, не так ли? – добавил старый ученый с улыбкой, заставившей его последователя вздрогнуть.
– О да, учитель, необорима и, главное, бесконечна.
– И когда ты видишь труп, пот выступает у тебя на лбу, а сердце наполняется сожалением?
– Пот не выступает у меня на лбу, потому что я привык к человеческим горестям, а сердце не наполняется сожалением, потому что я не слишком высоко ценю жизнь, но, видя труп, я говорю себе: «О смерть, ты могущественна, как Бог, ты властвуешь безраздельно, и ничто не может одержать над тобою верх!»
Альтотас молча слушал Бальзамо, ничем не выдавая своего нетерпения, и лишь вертел в руке скальпель; но едва его ученик закончил свою скорбную и торжественную фразу, как старик с улыбкой оглянулся по сторонам, и взор его, столь пронзительный, что, казалось, для него не существовало в природе никаких секретов, остановился в углу комнаты, где на подстилке соломы дрожал несчастный черный пес – единственный оставшийся в живых из трех животных этой породы, которых Бальзамо по просьбе Альтотаса доставил для опытов.
– Возьми эту собаку и положи ее мне на стол, – приказал старик.
Бальзамо послушно взял пса и водрузил его на мраморную столешницу. Животное, словно предчувствуя свою судьбу и уже явно знакомое с руками экспериментатора, почувствовало прикосновение к мрамору, задрожало, забилось и зарычало.
– Ну, – проговорил Альтотас, – раз ты веришь в смерть, следовательно, веришь и в жизнь, не так ли?
– Безусловно.
– Вот перед тобой собака: она кажется весьма живой, правда?
– Разумеется – она же рычит, бьется, ей страшно.
– До чего же уродливы черные собаки! Попробуй в следующий раз добыть белых.
– Попробую.
– Стало быть, собака эта живая. Ну, полай, полай, – добавил старик, зловеще ухмыльнувшись, – чтобы убедить господина Ашарата, что ты жива.
Он надавил псу на какой-то мускул, и тот залился лаем или скорее завыл.
– Теперь, Ашарат, пододвинь этот хрустальный колокол, вот так, и накрой им собаку. Кстати, я забыл тебя спросить: в какого рода смерть ты веришь сильнее всего?
– Не понимаю, что вы имеете в виду, учитель; смерть есть смерть.
– Справедливо, и даже очень. Я тоже придерживаюсь такого мнения. Ну, ладно, раз смерть есть смерть, откачай воздух, Ашарат.
Бальзама принялся вертеть колесо насоса, соединенного трубкой с колоколом, и оттуда с тонким свистом стал постепенно выходить воздух. Маленький пес сначала заволновался, забеспокоился, стал тыкаться мордой в стенки колокола, потом поднял голову, шумно и тяжело захрипел и, наконец, рухнул, бездыханный и раздувшийся.
– Вот собака, погибшая от удушья. Хорошая смерть – легкая и быстрая, не правда ли? – спросил Альтотас.
– Согласен.
– Собака умерла по-настоящему?
– Без сомнения.
– Ты, кажется, не очень-то в этом убежден, Ашарат?
– Да нет, напротив.
– Ты сомневаешься, потому что знаешь мои возможности, верно? Думаешь, что я научился возвращать жизнь в неповрежденный организм, вдувая в него воздух, словно в бурдюк, а?
– Ничего я не думаю, просто вижу, что собака мертва – вот и все.
– Ладно, для пущей надежности умертвим ее еще раз. Подними колокол, Ашарат.
Бальзамо убрал хрустальный колпак, предварительно впустив под него воздух. Собака лежала неподвижно, глаза ее были закрыты, сердце не билось.
– Теперь возьми скальпель и, не трогая гортани, рассеки собаке позвоночник.
– Я сделаю это, но только потому, что вы приказываете.
– А также чтобы добить бедное животное, если в нем вдруг еще теплится жизнь, – ухмыльнувшись, по-стариковски упрямо, добавил Альтотас.
Бальзамо одним ударом рассек собаке позвоночник дюймах в двух от мозжечка; открылась кровоточащая рана. Пес, а точнее, его труп не шевельнулся.
– Да, собака явно умерла, – проговорил Альтотас. – Не дрогнула ни одна жилочка, ни один мускул, ни одна частичка плоти не отозвалась на это новое насилие. Не правда ли, собака мертва окончательно?
– Я готов признать это столько раз, сколько вам будет угодно, – нетерпеливо огрызнулся Бальзамо.
– Вот перед тобой безжизненное, навсегда замершее животное. По твоим словам, ничто не может одержать верх над смертью. Ничто не может вернуть бедному животному жизнь или хотя бы признаки жизни – ведь так?
– Ничто и никто, кроме Бога.
– Да, но Бог не проявит непоследовательности и этого не сделает. Бог в своей высшей мудрости убивает, он делает это по какой-то причине или ради какой-то пользы. Так сказал какой-то убийца – не помню, как его звали, – и сказано это очень верно. Смерть выгодна природе. И вот перед нами совершенно мертвый пес, из которого природа извлекла свою выгоду.
Альтотас пристально уставился на Бальзамо. Тот, уже устав от бесконечных повторений, ограничился простым кивком.
– А что ты скажешь, если эта собака откроет глаз и посмотрит на меня? – спросил Альтотас.
– Это меня несказанно удивит, учитель, – улыбнувшись, ответил Бальзамо.
– Удивит? Это отрадно!
С этими словами, за которыми последовал фальшивый и зловещий смешок, старик пододвинул к собаке какой-то аппарат, состоявший из металлических пластин, разделенных суконными прокладками и погруженных в банку с подкисленной водой, из которой тянулись два провода – полюса батареи.
– Ты хочешь, чтобы открылся правый глаз или левый? – спросил старик.
– Правый.
Два провода, разделенные кусочком шелка, прикоснулись к шейному мускулу. Мгновенно правый глаз собаки открылся и посмотрел на Бальзамо, который в ужасе попятился.
– А теперь откроем ей пасть, хочешь?
Бальзамо не ответил: он находился во власти крайнего изумления. Альтотас прикоснулся к другому мускулу, глаз собаки закрылся, и тут же отверзлась пасть: у корней острых и белых зубов, словно собака была живой, подрагивала красная десна.
– Вот странно, – не скрывая испуга, пробормотал Бальзамо.
– Теперь ты видишь, как ничтожна смерть: я, несчастный старик, за которым она скоро должна прийти, заставил ее свернуть с проторенного пути, – радуясь изумлению ученика, проговорил Альтотас и, рассмеявшись резким, неприятным смехом, вдруг добавил: – Берегись, Ашарат, эта собака недавно хотела укусить тебя; сейчас она побежит за тобою! Берегись!