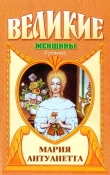Текст книги "Жозеф Бальзамо. Том 1"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 45 страниц)
– Так дави их к черту!
– Сударь! – воскликнула Андреа.
– Отец! – произнес Филипп.
– Что тут за барон, собирающийся давить честных людей? – раздались угрожающие голоса.
– Он перед вами, черт побери! – объявил де Таверне, высунувшись из кареты и демонстрируя при этом большую красную орденскую ленту.
В те времена еще почитали большие орденские ленты, даже красные; ропот не утих, но звучал уже тоном ниже.
– Подождите, отец, я выйду и погляжу, нельзя ли пройти, – предложил Филипп.
– Будьте осторожны, брат, как бы вас не убили. Слышите, как храпят дерущиеся кони?
– Лучше уж скажите о людском реве, – поправил барон. – Правильно, Филипп, выйдем, и вы велите им расступиться, чтобы мы могли пройти…
– Отец, вы не знаете Парижа, – ответил Филипп. – Когда-то такой приказ подействовал бы, но сейчас, вероятней всего, толку от него не будет. А вы ведь не захотите уронить свое достоинство?
– Когда эти негодяи узнают, кто я такой…
– Даже если бы вы были самим дофином, – улыбнулся Филипп, – они и то не расступились бы перед вами, тем паче сейчас, когда, как я вижу, начинается фейерверк.
– Значит, мы ничего не увидим, – огорчилась Андреа.
– А все из-за вас, – заметил барон. – Вы больше двух часов ухлопали на туалет.
– Брат, а может быть, вы предложите мне руку, мы выйдем и постоим среди народа? – предложила Андреа.
– Конечно, мадемуазель! Правильно! – закричали несколько мужчин, на которых произвела впечатление красота девушки. – Выходите! Не такая уж вы толстуха, и местечко вам найдется.
– Вы согласны, Андреа? – осведомился Филипп.
– Да, – ответила она и выпорхнула из кареты, даже не воспользовавшись подножкой.
– Поступайте как угодно, – буркнул барон. – А мне плевать на этот фейерверк, и я остаюсь здесь.
– Хорошо, отец, – сказал Филипп. – Мы далеко не уйдем.
И действительно, народ, всегда выказывающий, если он не возмущен какими-нибудь страстями, почтение к королеве, именуемой красотой, расступился перед Андреа и ее братом, а один добрый горожанин, захвативший вместе с семейством каменную скамью, велел жене и дочери потесниться и дать место м-ль де Таверне.
Филипп устроился у ног сестры, которая положила ему на плечо руку.
Жильбер, неотступно следовавший за ними, затаился шагах в пяти и пожирал Андреа глазами.
– Андреа, вам удобно? – спросил Филипп.
– Лучше быть не может, – ответила она.
– Вот что значит быть красавицей, – усмехнулся шевалье.
– Да, красавицей, несравненной красавицей! – пробормотал вполголоса Жильбер.
Андреа слышала эти слова, но поскольку произнес их, вне всякого сомнения, человек из простонародья, она обратила на них не больше внимания, чем индийское божество на жертву, принесенную к его ногам ничтожным парией.
67. ФЕЙЕРВЕРК
Едва Андреа и ее брат расположились на скамье, как в небеса взлетели первые ракеты, и толпа, которой теперь стал виден центр площади, отозвалась общим криком радости.
Начался фейерверк великолепно, ничуть не уронив высокой репутации Руджери. Декорация храма постепенно загоралась, и вскоре его фасад был охвачен цветным пламенем. Загремели аплодисменты, которые тут же, чуть только из пастей дельфинов и урн рек изверглись потоки разноцветных, смешивающихся друг с другом огней, сменились восторженными «браво».
Андреа, пораженная зрелищем, равного которому нет в мире, – зрелищем семисоттысячной толпы, выходящей из себя от ликования при виде огненного дворца, – даже не пыталась скрывать свои чувства.
Шагах в трех Жильбер, который прятался за спиной носильщика геркулесова сложения, поднявшего вверх своего сынишку, любовался Андреа, а заодно и фейерверком, поскольку она любовалась им.
Он смотрел на нее в профиль; каждая вспыхивающая ракета освещала ее прекрасное лицо, и Жильбер вздрагивал: ему казалось, что общее ликование порождено восторженным созерцанием этой очаровательной, обожествляемой им девушки.
Андреа никогда не видела ни Парижа, ни такой огромной толпы, ни тем более столь великолепного празднества; разнообразие впечатлений ошеломило ее.
Вдруг что-то ярко вспыхнуло, и огонь полетел наискось в сторону реки. Раздался взрыв, подобный взрыву бомбы, и Андреа, восхищенная разлетающимися разноцветными огнями, воскликнула:
– Филипп, посмотри, какая красота!
– Боже! – испуганно вскрикнул он, не отвечая сестре. – Что-то произошло с этой ракетой! Она отклонилась от своего пути и вместо того, чтобы описать параболу, полетела почти горизонтально.
Филипп только-только выразил тревогу, которая начала уже ощущаться и толпой, о чем свидетельствовало движение, пробежавшее по ней, как из бастиона, где был установлен букет и хранились резервные ракеты, вырвался столб пламени. Грохот, подобный одновременному удару сотни громов, прокатился над площадью и, словно в этом столбе пламени таилась смертоносная картечь, привел в смятение зрителей, стоящих в первых рядах, лица которых в тот же миг ощутили жар неожиданного огненного взрыва.
– Уже букет! Уже букет! Нет, еще рано! – кричали те, кто стоял вдали от центра площади.
– Уже! – повторила Андреа. – Нет, еще рано!
– Это не букет, – вмешался Филипп. – Это несчастный случай, и через секунду толпа, пока еще спокойная, взволнуется как море. Живо, Андреа, в карету. Идемте!
– Филипп, позвольте мне еще посмотреть. Это так красиво!
– Андреа, нельзя терять ни секунды! Идите за мной. Боюсь, случилась беда. Сбившаяся с пути ракета вызвала взрыв бастиона. Многих там уже задавили. Слышите крики? Это не крики радости, это вопли отчаяния. Быстро, быстро в карету. Господа, позвольте нам пройти.
И Филипп, обхватив сестру за талию, повлек ее к карете, из дверей которой, высматривая детей, уже выглядывал обеспокоенный барон; по крикам, доносившимся до него, он почувствовал, что случилось несчастье, и, хотя еще не понимал какое, все увиденное подтверждало, что он не ошибся.
Было уже поздно, предсказание Филиппа сбылось. Букет, состоящий из пятнадцати тысяч ракет, взорвался, разбрасывая во все стороны осколки, поражавшие зрителей, словно огненные дротики, которые мечут на арене во время корриды, чтобы возбудить ярость быков.
Зрители, поначалу удивившиеся, но тут же охваченные ужасом, отшатнулись; под воздействием невольного попятного движения сотни тысяч людей, следующая сотня тысяч тоже качнулась назад; огонь охватил помост, вопили дети, стиснутые в давке женщины воздевали руки, стражники направо и налево раздавали удары, надеясь утихомирить кричащих и силой восстановить порядок. Все это вместе привело к тому, что людская волна, о которой говорил Филипп, забила, точно пробкой, выход с площади; молодому человеку не удалось добраться, как он надеялся, до кареты барона: его повлек неодолимый поток, представления о котором не сможет дать никакое описание, поток, в котором силы отдельного человека, уже удесятеренные страхом и отчаянием, умножались в сотни раз, поскольку он становился частицей общей людской массы.
В тот же миг, когда Филипп повлек за собой Андреа, Жильбер влился в уносившую их толпу, но шагов через двадцать группа беглецов, свернувшая налево к улице Мадлен, подхватила его и потащила с собой, оставив ему возможность лишь выть от отчаяния, оттого что его разделили с Андреа.
Андреа, которую крепко держал за руку Филипп, оказалась внутри группы, пытавшейся разминуться с каретой, запряженной парой взбесившихся лошадей. Филипп видел, как они стремительно и неотвратимо надвигаются на него; казалось, из их глаз пышет огонь, из ноздрей у них капала пена. Он делал нечеловеческие усилия, чтобы уйти с их дороги. Но все было напрасно; он почувствовал, как толпа сзади раздалась, увидел взмыленные морды обезумевших животных; увидел, как они вздыбились, словно те мраморные кони, что стерегут вход в Тюильри, и, подобно рабу, пытающемуся их обуздать, он отпустил руку Андреа, оттолкнул ее как можно дальше от опасного места и схватил за удила налетающую на него лошадь; та встала на дыбы; на глазах Андреа Филипп согнулся, осел и исчез из виду; она закричала, простерла к нему руки, но ее толкнули, завертели, и через несколько секунд она оказалась одна – ее несло точно пушинку, которая не способна противиться увлекающему ее ветру.
Оглушительные крики, куда более ужасные, чем в сражении, конское ржание, жуткий скрип колес, катящихся то по плитам мостовой, то по трупам, бледный свет от догорающего помоста, зловещий блеск палашей, выхваченных несколькими разъяренными солдатами, а главное, кровавый хаос и бронзовое изваяние, освещенное красноватыми отблесками и как бы любующееся резней, – всего этого было более чем достаточно, чтобы у Андреа помутился рассудок и она лишилась последних сил. Впрочем, даже титану недостало бы сил для подобной борьбы – борьбы одного против всех, да еще и против смерти.
Андреа испустила душераздирающий крик: какой-то солдат пробивал себе проход в толпе ударами шпаги.
Шпага блеснула над ее головой.
Она сложила руки, словно утопающий, когда его накрывает погибельный вал, прокричала:
– Боже! – и упала.
Упасть значило погибнуть.
И все же Жильбер услыхал этот ужасный, предсмертный крик, узнал голос. Унесенный толпой от Андреа, он все-таки сумел пробиться к ней; нырнув в поток, поглотивший ее, он выпрямился, бросился на шпагу, которая угрожала ей, вцепился в горло солдату и повалил его; рядом с солдатом лежала юная девушка в белом платье; Жильбер подхватил ее и поднял.
Когда он прижал к груди это прекрасное тело, быть может уже бездыханное, лицо его озарилось гордостью: он победил обстоятельства, победил своей силой и отвагой! Вместе со своей ношей Жильбер опять попал в людской поток, способный снести стены. Стиснутая толпа держала, несла его; в течение нескольких минут он двигался, вернее, плыл с нею. И вдруг поток остановился, словно разбившись о какое-то препятствие. Ноги у Жильбера коснулись земли, и только теперь он ощутил тяжесть тела Андреа; он поднял голову, чтобы узнать, что там за препятствие, и увидел в трех шагах Хранилище мебели. Об каменный массив разбивалась масса человеческой плоти.
В момент этой тревожной остановки он успел взглянуть на Андреа, погруженную в глубокий обморок, подобный смерти; сердце ее не билось, глаза были закрыты, лицо, словно увядающая роза, обрело лиловатый оттенок.
Жильбер решил, что она мертва. И тогда он тоже закричал, прижался губами сперва к платью, потом к руке, потом, осмелев от отсутствия сопротивления, стал осыпать поцелуями ее лицо, сомкнутые веки. Он бесновался, рыдал, выл, пытался вдохнуть свою душу в грудь Андреа, не понимая, почему его поцелуи, способные оживить мрамор, не могут вдохнуть жизнь в мертвое тело.
И вдруг он почувствовал, как под его рукой бьется ее сердце.
– Она спасена! – воскликнул он, глядя на несущееся мимо них черное окровавленное месиво, слушая вопли, проклятия и стоны агонии. – Она спасена, и спас ее я!
Но, прижатый к стене, не сводя взгляда с моста, бедняга не смотрел вправо, а там кареты, попавшие в тиски толпы, теперь, когда она немножко раздалась, стали выбираться из нее, Причем и кучера, нахлестывавшие лошадей, и лошади, пустившиеся вскачь, казалось, впали в общее умопомешательство; тысяч двадцать человек, толкаясь, калеча и топча друг друга, спасались от несущихся карет.
Они инстинктивно жались к домам, давя тех, кто оказался ближе к стенам.
Людская масса волокла с собой либо придавливала всех, кто, обретя убежище возле Хранилища мебели, думал, что спасся. На Жильбера вновь посыпались удары, навалились тела живых и мертвых, и он старался вжаться между прутьями решетки.
Но под напором убегающих решетка треснула.
Теряя дыхание, Жильбер почувствовал, что вот-вот выпустит из рук тело девушки, однако, собрав все силы, обхватил ее руками и прижался лицом к ее груди. Казалось, он хотел задушить ту, которую оберегал.
– Прощай! Прощай! – бормотал он, уже не целуя, а скорей впиваясь зубами в ее платье.
Простившись, он поднял глаза, чтобы в последний раз взглянуть на нее.
И тут его взору открылась поразительная картина.
На тумбе, держась правой рукой за вделанное в стену кольцо, стоял человек и, глядя на бушующее у его ног море, то делал левой рукой какие-то жесты, то что-то говорил, словно бы сплачивая вокруг себя орду бегущих. После каждого его слова, после каждого мановения несколько человек в толпе останавливались и, преодолевая общее сопротивление, пробивались к нему. А те, что уже были рядом с ним, казалось, чувствовали в пробивающихся своих собратьев и, ободряя их, поддерживая, протягивая руки, помогали им вырваться из толпы. Эта группа людей, борющихся с обезумевшей массой, была подобна мостовому быку, разделяющему поток, и оказалась способной противостоять несущейся толпе и рассредоточить ее.
Ежесекундно, словно вызванные из-под земли непонятными словами и повторяющимся мановением руки, к свите этого человека присоединялись новые борцы.
Жильбер приподнялся в последнем усилии; он понял: там спасение, ибо там сила и спокойная уверенность. Язык пламени взметнулся над догорающим помостом и осветил лицо этого человека. Жильбер вскрикнул от удивления.
– Пусть я погибну, но только бы она осталась жива, – прошептал он. – Этот человек способен спасти ее.
И в порыве высочайшего самоотречения он поднял обеими руками тело девушки, крича:
– Барон Бальзамо, спасите мадемуазель Андреа де Таверне!
Бальзамо услышал голос, воззвавший к нему, совсем как в Библии, из бездны толпы [165]165
Перефразировка псалма 70, 20 («из бездн земли»).
[Закрыть], увидел поднятое над этим всепоглощающим морем тело в белом платье; его сотоварищи разметали всех стоявших на пути; Бальзамо подхватил Андреа, которую еще поддерживали слабеющие руки Жильбера, принял ее и, уступая напору толпы, которую он перестал сдерживать, унес, не успев даже оглянуться на юношу.
Жильбер попытался что-то сказать; быть может, он хотел, после того как обратился к этому необыкновенному человеку с мольбой спасти Андреа, попросить спасти и его, но у него хватило сил только прильнуть губами к ладони девушки да оторвать цепенеющей рукой лоскут от платья этой новой Эвридики, которую ад отнял у него.
После предсмертного поцелуя, после последнего прощания ему оставалось только одно – умереть, и он перестал бороться; закрыв глаза, умирающий Жильбер рухнул на груду трупов.
68. ПОЛЕ МЕРТВЫХ
После страшных бурь всегда наступает тишина – ужасающая, но и приносящая покой.
Было около двух часов ночи; большие белые облака мчались над Парижем, выделяя при тусклом лунном свете энергичными штрихами все неровности этой роковой площади, изрытой канавами, куда еще недавно падали бегущие люди, находя там смерть.
Тут и там свет луны, время от времени скрывавшейся за пушистыми облаками, о которых мы только что упомянули и которые приглушали ее сияние, вдруг являл на откосе насыпи или рва трупы в изодранной одежде, бледные лица, руки, застывшие в жесте отчаяния или мольбы.
Посреди площади Людовика XV над останками догоревшего помоста поднимался желтый, зловонный дым, придавая ей окончательное сходство с полем битвы.
По этой скорбной, залитой кровью площади торопливо крались какие-то личности; они останавливались, осматривались вокруг, наклонялись и убегали; то были мародеры, слетевшиеся, подобно воронью, на добычу: они не смели грабить живых, а теперь, оповещенные собратьями по ремеслу, грабили мертвецов. Вспугнутые видом штыков запоздавших стражников, они, недовольно ворча, убегали, однако мародеры и караульные были не единственными, кто переходил от одной груды погибших к другой.
На площади было много людей с фонарями, которых можно было бы принять за любопытных.
Но что за горестное любопытство двигало ими! То были люди, встревоженные тем, что их родственники, друзья, возлюбленные не вернулись домой. Они пришли сюда из дальних кварталов, поскольку страшная весть со скоростью урагана разнеслась по Парижу, и беспокойство заставило их отправиться на розыски.
Картина, представившаяся им, была, пожалуй, ужаснее самого зрелища катастрофы.
На их покрытых бледностью лицах отражались самые разные чувства: от отчаяния – у тех, кто нашел труп того, кого он любил, до мрачного подозрения – у тех, кто ничего не нашел и обращал лихорадочный взгляд к реке, которая с однообразным журчанием несла свои воды.
Поговаривали, что множество трупов уже брошено в реку по приказу прево, виновного в случившемся и желавшего скрыть, сколь огромно количество жертв его непредусмотрительности.
Утомясь всматриваться в Сену, вымочив в ней ноги, они уходили с сердцами, сжимавшимися от безмерного страха, который внушали им темные воды ночной реки, и шли, светя себе фонарями, обследовать улицы, примыкающие к площади, куда, как говорили, уползло множество раненых, надеясь найти там помощь или хотя бы не видеть места, где они перенесли такие муки.
Иногда площадь вдруг оглашалась звоном. То, выпав из рук, разбивался фонарь, и живой бросался на тело похищенного смертью друга или родственника, чтобы в последний раз поцеловать его.
Но на этом гигантском кладбище раздавались и другие звуки.
Те, кто, падая, сломал себе руки или ноги, кто был ранен шпагой, те, чья грудь была раздавлена в толпе, кричали, стонали, умоляя о помощи; к ним тотчас же бросались люди, разыскивающие своих друзей, но, увидев, что это не те, кого они ищут, тут же уходили.
И все-таки на краю площади, около сада, благодаря самоотверженному милосердию народа организовался лазарет. Молодой хирург – об этом свидетельствовало множество инструментов, которыми он был окружен, – велел подносить к нему раненых мужчин и женщин; слова, какие он говорил им во время перевязки, выдавали скорее ненависть к причине катастрофы, нежели сожаление о ее последствиях.
Двум своим здоровякам-помощникам, которые подносили ему раненых, он непрерывно кричал:
– Сперва людей из народа! Распознать их легко: как правило, они сильней пострадали и, конечно, одеты небогато.
Наставление это он повторял резким, монотонным голосом, и бледный молодой человек с фонарем, ведущий поиски среди погибших, во второй раз услыхав эти слова, поднял голову.
Лоб его пересекала длинная ссадина, из которой сочилась кровь, поврежденная рука покоилась за отворотом кафтана, покрытое потом лицо выражало безмерное, глубокое отчаяние.
Услыхав, как мы уже упоминали, вторично этот приказ, молодой человек поднял голову и, грустно глянув на искалеченных людей, на которых хирург, казалось, смотрел чуть ли не с наслаждением, спросил:
– Почему вы делаете различие между жертвами?
– Потому, – ответил хирург, – что никто не позаботится о бедняках, если я не подумаю о них, а разыскивать богатых будут и без меня. Опустите-ка свой фонарь и оглянитесь: вы увидите, что на одного богача или дворянина тут приходится сотня бедняков. И в этой катастрофе, которая должна исчерпать долготерпение Господне, дворянство и богачи заплатили дань, какую они обычно и платят: один на тысячу.
Молодой человек поднял фонарь на высоту своего кровоточащего лба.
– В таком случае, – сказал он, – я и есть тот один. Я – дворянин, бывший в этой толпе, лошадь копытом поранила мне лоб, а упав в канаву, я сломал левую руку. Вы говорите, что прежде всего заботятся о богатых и дворянах, но видите сами: мне еще даже не сделали перевязку.
– У вас есть собственный особняк… собственный врач. Ступайте туда, вы ведь на ногах.
– Я не прошу у вас помощи, сударь, я ищу сестру, прекрасную шестнадцатилетнюю девушку, вероятней всего погибшую, хоть она и не из народа. Она была в белом платье, а на шее – ожерелье с крестиком. И даже если бы у нее были особняк и врач, ответьте, сударь, ответьте из милосердия, не видели ли вы тут, кого я разыскиваю?
– Сударь, – промолвил молодой хирург с яростной горячностью, свидетельствующей, что высказываемые им идеи давно уже сжигают его душу, – я руководствуюсь человеколюбием, я жертвую собой ради него, и, когда оставляю аристократию на ее смертном ложе ради того, чтобы избавить народ от страданий, я подчиняюсь подлинному закону человеколюбия, которое сделал своим божеством. Источник его сегодняшних несчастий – вы, ваша развращенность, ваши злоупотребления, так что пожинайте их последствия. Нет, сударь, вашей сестры я не видел.
И после этой громовой филиппики хирург вновь занялся своим делом. Ему только что принесли женщину, обе ноги которой были размозжены колесами кареты.
– Взгляните! – крикнул он вслед удаляющемуся Филиппу. – Разве бедняки наезжают на публичных празднествах каретами на богачей и ломают им ноги?
Филипп, принадлежавший к тому поколению дворян, из которого вышли Лафайет и братья Ламет [166]166
Лафайет, Мари Жозеф де (1757–1834) – французский политический деятель, участник Войны за независимость в Северной Америке и Великой Французской революции, сторонник конституционной монархии, командующий национальной гвардией.
Братья де Ламет – участники Великой Французской революции, Александр (1760–1828) и Шарль (1757–1834) – депутат Законодательного собрания.
[Закрыть], сам неоднократно высказывал те же идеи, так ужаснувшие его в устах молодого хирурга; осуществленные на практике, они обрушились на него как кара.
С разбитым сердцем он шел прочь от лазарета, продолжая горестные розыски и время от времени взывая голосом, в котором дрожали слезы:
– Андреа! Андреа!
В этот момент мимо него торопливо проходил человек довольно преклонных лет в кафтане серого сукна, в спустившихся чулках; правой рукой он опирался на трость, а в левой нес фонарь со свечой, в котором стекло заменяла промасленная бумага.
Услыхав Филиппа, он посочувствовал его горю и пробормотал:
– Несчастный юноша!
Но поскольку сюда его привела та же самая причина, он прошел мимо.
И вдруг, словно почувствовав угрызения совести, оттого что не попытался хоть чем-то утешить другого в его горе, он остановился и обратился к Филиппу:
– Простите меня, сударь, что я добавлю свою скорбь к вашей, но те, кого поразил один и тот же удар, должны держаться друг друга, чтобы не упасть. А кроме того… вы можете мне помочь. Я вижу, вы давно уже ищете, так как ваша свеча почти догорела, и потому, полагаю, знаете все самые роковые места этой площади.
– Да, сударь, знаю.
– Я тоже разыскиваю одного человека.
– Тогда ступайте к большому рву, там вы найдете больше полусотни трупов.
– Полусотни? Праведное небо! Неужели столько народу погибло во время праздника?
– Если бы столько, сударь! Я осветил фонарем лица чуть ли не тысячи погибших и все еще не нашел своей сестры.
– Сестры?
– Это было вон там. Я потерял ее около скамейки. Я разыскал место, где нас разъединили, но не нашел никаких следов. Поведу теперь розыски от бастиона.
– А куда бежала толпа, сударь?
– В сторону новых строений и улицы Мадлен.
– То есть в ту сторону?
– Да, и я сначала искал здесь, но тут была страшная сумятица. Все, разумеется, бежали туда, но несчастная, потерявшая голову девушка, наверное, бросалась в разные стороны.
– Маловероятно, сударь, чтобы ей удалось пробиться против течения. Я пойду искать туда, к улицам. Пойдемте со мной: объединившись, мы, возможно, найдем тех, кого ищем.
– А вы кого ищете? Сына? – робко поинтересовался Филипп.
– Нет, сударь, мальчика, которого я, можно сказать, усыновил.
– И вы ему позволили пойти сюда?
– Он уже молодой человек: ему было лет восемнадцать-девятнадцать. Он волен был поступать по своему усмотрению, захотел пойти сюда, и я не мог ему запретить. К тому же никому и в голову не могло прийти, что здесь случится такая катастрофа… Ваша свеча догорает…
– Да, действительно…
– Идемте со мной, я буду вам светить.
– Благодарю, вы очень добры, но я боюсь быть вам обузой.
– Не бойтесь, я ведь тоже буду искать. Бедный мальчик всегда возвращался в определенное время, – продолжал старик, шагая по площади и улицам. – Но уже пробило одиннадцать, моя жена узнала от соседки про несчастье, случившееся на празднике. Я прождал еще два часа, надеясь, что он вернется, но, поскольку его все не было, решил, что будет низостью лечь спать, не узнав о его судьбе.
– Значит, идем к постройкам? – спросил Филипп.
– Да. Вы же сказали, что толпа должна была устремиться в ту сторону, и, вероятней всего, туда она и устремилась. С нею, наверно, и бежал бедный мой мальчик. Он был провинциал, совершенно не знающий ни здешних нравов, ни даже расположения улиц. Возможно, в этот вечер он впервые был на площади Людовика Пятнадцатого.
– Увы, моя сестра тоже провинциалка.
– Ужасная картина! – вздохнул старик, обходя груды трупов.
– И тем не менее именно здесь и надо искать, – сказал молодой человек, направляя свет фонаря на нагромождение мертвых тел.
– Мне страшно смотреть. Я простой человек, и зрелище стольких мертвецов вызывает во мне ужас, который я не в силах преодолеть.
– Я тоже испытывал такой же ужас, но сейчас немножко привык. Взгляните, вон юноша лет шестнадцати – восемнадцати, его задавили в толпе, потому что никаких ран у него я не вижу. Не тот ли это, кого вы разыскиваете?
Старик, преодолев себя, посветил фонарем.
– Нет, сударь, это точно не он. Мой выглядит моложе, у него черные волосы и бледное лицо.
– Увы, этой ночью они все бледны, – заметил Филипп.
– Взгляните, мы около Хранилища мебели, – сказал старик. – Посмотрите на эти следы борьбы. На стенах кровь, на прутьях и остриях решетки клочья одежды. Их тут прижали, и им некуда было деваться.
– Да, это было здесь, совершенно точно, здесь, – пробормотал Филипп.
– Сколько горя!
– Боже мой!
– Что такое?
– В куче трупов лоскут белой ткани. Моя сестра была в белом платье. Будьте добры, сударь, дайте мне ваш фонарь.
Действительно, Филипп заметил белый лоскут и схватил его. Но так как у него действовала одна рука, выпустил его, чтобы взять фонарь.
– В руке молодого человека обрывок от женского платья! – воскликнул он. – В таком же платье была Андреа. О, Андреа! Андреа!
И из груди его вырвалось отчаянное рыдание.
Старик подошел к нему.
– Это он! – вскричал старик, простирая к мертвецу руки.
Это восклицание заставило Филиппа приглядеться внимательней, и вдруг он удивленно воскликнул:
– Жильбер!
– Вы знали Жильбера, сударь?
– Вы разыскиваете Жильбера?
Оба эти вопроса прозвучали одновременно.
Старик схватил руку Жильбера, но она была холодна.
Филипп расстегнул на молодом человеке фуфайку, рубашку и положил руку на сердце.
– Бедняга Жильбер, – промолвил он.
– Мой мальчик, – вздохнул старик.
– Он дышит, он жив! Уверяю вас, он жив! – воскликнул Филипп.
– Это правда?
– Уверен. У него бьется сердце.
– Помогите! Помогите! – закричал старик. – Я видел, там есть хирург.
– Нам придется обойтись без него. Только что я просил у него помощи и получил отказ.
– Он должен заняться моим мальчиком! – упрямо настаивал старик. – Должен! Сударь, помогите мне донести Жильбера к нему.
– У меня только одна рука, сударь, но она к вашим услугам, – отвечал Филипп.
– Помогите! Помогите! – кричал старик.
– Сперва людей из народа!
– Только из народа, – подтвердил хирург, верный своему правилу, зная, что всякий раз, когда он произносит эти слова, окружающие отвечают ему ропотом восхищения.
– Человек, которого я принес, – из народа, – поспешно заверил старик, чувствуя тем не менее, что начинает проникаться общим восхищением, которое вызывала категоричность молодого хирурга у людей, окружающих его.
– Тогда после женщин, – заявил хирург. – Мужчины сильнее женщин и способны дольше выдерживать боль.
– Сударь, сделайте только кровопускание, простое кровопускание, – попросил старик.
– А, господин дворянин, вы опять здесь? – промолвил хирург, увидев Филиппа и не обратив внимания на старика.
Филипп промолчал. Старик, решив, что эти слова относятся к нему, запротестовал:
– Я – не дворянин, я из народа. Меня зовут Жан Жак Руссо.
Врач удивленно ахнул и с повелительным жестом крикнул:
– Пропустите естественного человека! Пропустите освободителя человечества! Пропустите гражданина Женевы!
– Спасибо, сударь, – поблагодарил Руссо, – спасибо.
– Вы пострадали, сударь? – спросил хирург.
– Нет, не я, а этот бедный юноша.
– О, вы тоже, как я, трудитесь на благо человечества! – вскричал хирург.
Руссо, взволнованный столь торжественным приемом, пробормотал что-то невразумительное.
Филипп, потрясенный тем, что оказался лицом к лицу с философом, которого боготворил, скромно держался в стороне.
Руссо помогли положить Жильбера, все еще не пришедшего в чувство, на стол.
И только теперь Руссо внимательней присмотрелся к тому, у кого просил помощи. То был молодой человек примерно того же возраста, что Жильбер, но ничто в нем не свидетельствовало о молодости. Лицо у него было желтоватое и увядшее, как у старика, дряблые веки прикрывали змеиные глаза, рот искривлен, словно у эпилептика во время припадка.
Окруженный ампутированными руками и ногами, он стоял в рубашке с закатанными до локтей рукавами, с руками, залитыми кровью, и был скорее похож на палача, с удовольствием исполняющего свое ремесло, нежели на врача, вершащего святой и скорбный труд.
И все-таки имя Руссо имело над ним такую власть, что он отрешился от присущей ему грубости, бережно расстегнул Жильберу рукав, перетянул руку полотняным бинтом и надрезал вену.
Сперва появилось несколько капель кровь, но через несколько секунд она полилась струей.
– Все, он спасен, но его придется лечить: у него очень сильно помята грудь, – сказал хирург.
– Сударь, мне остается только поблагодарить вас, – обратился к нему Руссо, – и воздать вам хвалу, но не за то, что вы делаете исключение для бедняков, а за вашу приверженность им. Все люди – братья!
– Даже дворяне, аристократы и богачи? – спросил молодой врач, и глаза его зловеще блеснули под тяжелыми веками.
– Даже дворяне, аристократы и богачи, когда они страдают, – подтвердил Руссо.
– Прошу простить, сударь, – ответил ему хирург, – но я родился в Будри близ Невшателя, я, как и вы, швейцарец и потому в некоторой мере демократ.
– Вы – мой земляк? – воскликнул Руссо. – Швейцарец? Сударь, скажите, пожалуйста, ваше имя.
– Это безвестное имя, имя человека, который посвятил свою жизнь тому, чтобы учиться, в ожидании, когда он сможет, подобно вам, посвятить ее счастью человечества. Меня зовут Жан Поль Марат.
– Благодарю вас, господин Марат, – сказал Руссо. – Только, просвещая народ относительно его прав, не побуждайте его к мести, ибо, если он однажды начнет мстить, вы сами, быть может, придете в ужас от его жестокости.
На губах Марата мелькнула мрачная улыбка.
– О, если бы этот день наступил при моей жизни, – мечтательно протянул он, – если бы мне посчастливилось увидеть этот день.
Руссо слышал эти слова и, напуганный интонацией, с какой они были произнесены, как пугается путник, до которого донеслось отдаленное ворчание надвигающейся грозы, подхватил Жильбера на руки и попытался унести его.
– Двух добровольцев, чтобы помочь господину Руссо! – крикнул хирург. – Двух людей из народа!
– Я! Я! – отозвалось с десяток голосов.
Руссо осталось только выбрать; он ткнул пальцем в двух дюжих носильщиков, и они взяли у него Жильбера.
Прежде чем уйти, Руссо подошел к Филиппу.
– Возьмите, сударь, мой фонарь, – сказал он, – мне он больше не нужен.