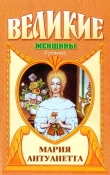Текст книги "Жозеф Бальзамо. Том 1"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 45 страниц)
49. КОРОЛЕВСКИЕ КАРЕТЫ
Ропот и крики вдали, по мере приближения делавшиеся, однако, все торжественней и мощней, заставили Жильбера навострить уши; он почувствовал, как все его тело напряглось и задрожало, словно в ознобе.
Послышались клики: «Да здравствует король!»
В те времена это было еще в обычае.
По площади на храпящих конях в золоченой сбруе и с пурпурными попонами проскакали мушкетеры, тяжелая кавалерия и швейцарцы.
Затем показалась большая, роскошная карета.
Жильбер разглядел голубую ленту, величественно посаженную голову в шляпе. Увидел холодные проницательные глаза короля, перед которым все обнажили головы и склонились в поклоне.
Очарованный, застывший, восхищенный, трепещущий Жильбер забыл обнажить голову.
Жестокий удар вывел его из восторженного состояния, шляпа его слетела на землю.
Он кинулся к шляпе, подобрал ее, поднял голову и узнал племянника горожанина, который смотрел на него со свойственной военным пренебрежительной улыбкой.
– Это что же? – поинтересовался сержант. – Мы не снимаем шляпу перед королем?
Жильбер побледнел, взглянул на шляпу, покрытую пылью, и ответил:
– Я впервые вижу короля, сударь, и, что правда, то правда, забыл его приветствовать. Но я не знал…
– Не знал! – насупившись, возмутился солдафон.
Жильбер испугался, как бы его не прогнали с места, где он так ловко пристроился, чтобы увидеть Андреа; любовь, клокотавшая у него в сердце, пересилила гордыню.
– Простите меня, – сказал он, – я из провинции.
– А, так вы, любезнейший, прибыли в Париж, чтобы завершить образование?
– Да, сударь, – отвечал Жильбер, подавляя ярость.
– Что ж, поскольку вы пополняете свое образование, – сказал сержант, хватая за руку Жильбера, хотевшего было вновь надеть шляпу, – узнайте заодно, что дофину надобно приветствовать так же, как короля, а принцев так же, как дофину, и вообще, следует кланяться каждой карете, на которой изображена лилия. Лилии-то вам знакомы или нужно показать?
– Нет нужды, сударь, – сказал Жильбер, – я знаю, как выглядят лилии.
– И то слава Богу, – пробурчал сержант.
Королевские кареты катили мимо.
Им не было конца. Жильбер следил за ними с такой жадностью, что взгляд его казался бессмысленным. Подъезжая к воротам аббатства, экипажи один за другим останавливались; из них выходили вельможи, принадлежащие к свите; из-за этой процедуры вся вереница карет, что ехали следом, каждые пять минут останавливалась.
Во время одной из таких остановок Жильбер почувствовал, будто сердце ему пронзил пылающий огонь. Он был в каком-то ослеплении, перед глазами все расплывалось, на него напала такая нещадная дрожь, что пришлось ухватиться за ветку, чтобы не упасть.
Дело в том, что прямо перед собой, шагах в десяти, не более, в одной из карет с лилиями, которые сержант велел ему приветствовать поклоном, он заметил ослепительно сияющее лицо Андреа, одетой с головы до ног в белое, словно ангел или привидение.
Он чуть вскрикнул, но, овладев нахлынувшими чувствами, приказал сердцу не биться, а глазам – не отрываясь смотреть на ту, что казалась ему солнцем.
И это ему удалось – так хорошо юноша умел справляться с собой.
Между тем Андреа пожелала узнать, почему остановились кареты, и выглянула из дверцы; осматриваясь, она задержала взгляд своих прекрасных голубых глаз на Жильбере и узнала его.
Жильбер подозревал, что, обнаружив его, Андреа удивится, обернется к отцу, сидевшему рядом с ней в карете, и скажет, кого она увидела.
И он не ошибся: Андреа удивилась, затем обернулась и указала на Жильбера барону, который величественно восседал в королевской карете, украшенный большой красной лентой.
– Жильбер! – вскричал барон, подскочив на месте. – Он здесь? А кто же присмотрит за Маоном?
Жильбер прекрасно слышал эти слова. С преувеличенным почтением он отвесил поклон Андреа и ее отцу.
Этот поклон потребовал от него напряжения всех сил.
– И впрямь! – воскликнул барон, заметив юного философа. – Наш негодник, собственной персоной.
Он так мало ожидал увидеть Жильбера в Париже, что сперва не поверил дочери и даже собственным глазам верил с величайшим трудом.
А лицо Андреа, в которое Жильбер вглядывался с обостренным вниманием, выражало полное равнодушие – по нему лишь облачком скользнуло удивление.
Высунувшись из кареты, барон жестом подозвал Жильбера.
Жильбер хотел было подойти, но его остановил сержант.
– Вы же видите, меня зовут, – сказал юноша.
– Зовут? Кто?
– Вот из этой кареты.
Сержант проследил взглядом, куда указывал палец Жильбера, и увидел карету г-на де Таверне.
– Пропустите, сержант, – сказал барон, – я хочу сказать этому юноше всего два слова.
– Да хоть четыре, сударь, – отозвался сержант, – времени у вас предостаточно: сейчас перед собором произносят приветственную речь, так что вы не тронетесь с места добрых полчаса. Пройдите, молодой человек.
– А ну поди-ка сюда, негодяй, – обратился барон к Жильберу, который нарочно шел не быстрее обычного, – да расскажи, что за случай привел тебя в Сен-Дени, когда тебе надлежит находиться в Таверне.
Жильбер вторично поклонился Андреа и барону и отвечал:
– Я попал сюда не по воле случая, сударь, а по своей воле.
– По своей воле, плут? Да откуда ж у тебя взялась своя воля?
– Всякий свободный человек вправе иметь ее.
– Всякий свободный человек? Вот оно что! А ты, значит, считаешь себя свободным человеком?
– Разумеется, ведь я никому не отдавал своей свободы.
– Ей-богу, забавный прохвост! – вскричал г-н де Таверне, которого взбесила самоуверенность Жильбера. – Значит, ты в Париже… Но как ты сюда добрался, скажи на милость? Каким способом?
– Пешком, – лаконично ответствовал Жильбер.
– Пешком? – с оттенком жалости повторила Андреа.
– Что же ты, интересно, намерен делать в Париже? – допытывался барон.
– Сперва получу образование, затем составлю себе состояние.
– Образование!
– Убежден в этом.
– Состояние!
– Надеюсь и на это.
– А чем сейчас занимаешься? Попрошайничаешь?
– Я – попрошайничаю? – с непередаваемым высокомерием отозвался Жильбер.
– Тогда воруешь?
– Сударь, – отвечал Жильбер с гневом и яростной решительностью, привлекшей на мгновение к этому странному молодому человеку внимание мадемуазель де Таверне, – разве я что-нибудь украл у вас?
– Чем же ты тогда занимаешься, лоботряс?
– Тем же, чем занимается гениальный человек, на которого мне хочется походить хотя бы упорством, – отвечал Жильбер. – Переписываю ноты.
Андреа повернулась к нему.
– Переписываете ноты? – переспросила она.
– Да, мадемуазель.
– Разве вы умеете? – презрительно заметила она таким тоном, каким сказала бы: «Вы лжете».
– Я знаю ноты, а для переписчика этого довольно, – объяснил Жильбер.
– Да откуда ты знаешь ноты, негодяй, черт бы тебя побрал?
– В самом деле, откуда? – улыбаясь, поинтересовалась Андреа.
– Господин барон, я всем сердцем люблю музыку, а мадемуазель каждый день час или два проводила за клавесином. Я, спрятавшись, слушал ее.
– Бездельник!
– Сперва я запоминал мелодии, а потом, поскольку эти мелодии были определенным образом записаны, мало-помалу научился читать их запись.
– По моим нотам! – вскричала Андреа вне себя от возмущения. – Вы смели трогать мои ноты?
– Нет, мадемуазель, я никогда не позволил бы себе этого, – отвечал Жильбер, – но вы оставляли на клавесине ноты, открытые то на одной странице, то на другой. Я их не касался, просто пытался читать: ведь глаза мои не пачкали страниц.
– Вот увидите, – заметил барон, – сейчас этот мошенник объявит нам, что играет на клавесине не хуже Гайдна.
– Наверно, я научился бы, – отвечал Жильбер, – если бы осмелился коснуться пальцами клавиш.
И Андреа невольно второй раз взглянула на это лицо, одушевленное чувством, которое невозможно назвать иначе как страстным фанатизмом мученика.
Но барон, чьему разуму были чужды ясность и спокойная рассудительность его дочери, вновь начал вскипать от ярости при мысли, что юноша прав и что, оставив его в Таверне в обществе Маона, с ним поступили воистину бесчеловечно.
Когда тот, кто по положению ниже нас, доказывает, что мы перед ним виноваты, нам нелегко простить ему эту вину; вот почему, чем больше смягчалась дочь, тем сильнее распалялся барон.
– Ах ты разбойник! – взревел он. – Ты сбежал, бродяжничал, а теперь, когда с тебя спрашивают за твое поведение, угощаешь нас баснями, вроде тех, что мы сейчас услышали! Ну, ладно же! Я не желаю, чтобы по моей вине на королевских улицах толкалось всякое жулье, всякий сброд…
Андреа сделала рукой такое движение, словно желая унять отца: она чувствовала, что подобная несправедливость роняет его достоинство.
Но барон отстранил примиряющую руку дочери и продолжал:
– Я сдам тебя господину де Сартину, и ты, философствующий бездельник, малость отдохнешь в Бисетре [135]135
Сумасшедший дом и богадельня в окрестностях Парижа.
[Закрыть].
Жильбер отступил на шаг, нахлобучил шляпу, и бледный от ярости, заявил:
– Господин барон, знайте, здесь, в Париже, я нашел себе покровителей, которые вашего господина де Сартина и на порог к себе не пустят.
– Этого еще не хватало! – вскрикнул барон. – Не желаешь, значит, в Бисетр? Тогда отведаешь хлыста! Андреа, подзовите-ка вашего брата, он где-то поблизости.
Андреа нагнулась к Жильберу и властно произнесла:
– Уходите отсюда, господин Жильбер.
– Филипп! Филипп! – закричал старик.
– Уходите! – повторила Андреа юноше, который молча застыл на месте, словно погруженный в восторженное созерцание.
На зов барона к карете подъехал всадник: это был Филипп де Таверне в великолепном мундире капитана. Молодой человек так и лучился радостью.
– Смотри-ка, Жильбер! – добродушно воскликнул он, узнав юношу. – Жильбер здесь! Здравствуй, Жильбер! Что вам угодно, батюшка?
– Добрый день, господин Филипп, – отвечал Жильбер.
– Мне угодно, – воскликнул бледный от негодования барон, – чтобы ты ножнами шпаги отделал этого мерзавца!
– Да что он натворил? – спросил Филипп, с возрастающим удивлением переводя взгляд с разъяренного барона на неестественно спокойного Жильбера.
– Да уж натворил, натворил! – проревел барон. – Избей его как собаку, Филипп!
Молодой человек повернулся к сестре.
– Скажите, Андреа, что он сделал? Он вас оскорбил?
– Да разве я посмел бы! – воскликнул Жильбер.
– Нет, – отвечала Андреа, – нет, он ни в чем не виноват. Отец заблуждается. Господин Жильбер больше не состоит у нас на службе, а значит, имеет право идти, куда ему угодно. Отец не желает это понять, поэтому, увидев Жильбера здесь, он возмутился.
– И это все? – удивился Филипп.
– Решительно все, брат, и я не пойму, зачем господин де Таверне так гневается, тем более по такому поводу и особенно сейчас, когда вообще никто и ничто не должно отвлекать наше внимание. Поглядите, Филипп, скоро ли мы поедем.
Барон молчал: воистину царственное спокойствие дочери утихомирило его.
Жильбер понурил голову, подавленный таким пренебрежением. Сердце его точно пронзила молния, в нем шевельнулось чувство, похожее на ненависть. Он предпочел бы принять смертельную рану от шпаги Филиппа или даже жестокий удар его хлыста.
Он едва не потерял сознание.
К счастью, в этот миг приветственная речь закончилась, и кареты снова пришли в движение.
Мало-помалу скрылась из виду и карета барона, а за ней другие; Андреа растаяла как сон.
Жильбер остался один, он готов был разрыдаться, готов был завыть: ему казалось, что он не вынесет тяжести обрушившегося на него несчастья.
И тут на плечо ему легла чья-то рука.
Он обернулся и увидел Филиппа, который спешился, передал поводья своей лошади солдату и теперь, улыбаясь, стоял рядом с ним.
– Жильбер, что же все-таки стряслось? Почему ты в Париже?
Его искреннее, сердечное участие тронуло Жильбера.
– Эх, сударь, – отвечал он, не удержавшись при всем своем нечеловеческом стоицизме от вздоха, – а что, скажите на милость, мне было делать в Таверне? Я умер бы там от отчаяния, забвения и голода.
Филипп вздрогнул: обладая беспристрастным умом, он, как и Андреа, был потрясен тем, что юношу бросили без всяких средств к существованию.
– И ты надеешься преуспеть в Париже, бедный мальчик, без денег, без покровительства, без поддержки?
– Надеюсь, сударь. Покуда есть люди, желающие предаваться безделью, тому, кто хочет работать, вряд ли грозит голодная смерть.
Филипп поразился, услышав этот ответ. Он-то всегда видел в Жильбере просто одного из домочадцев, причем самого никчемного.
– Ты хоть не голодаешь? – спросил он.
– На хлеб я себе зарабатываю, господин Филипп, а больше мне и не надо. Ведь до сих пор я только и слышал попреки, что ем хлеб, который не заработал.
– Надеюсь, мой мальчик, ты не имеешь в виду хлеб, который получал в Таверне. Твои отец и мать верно служили нам, да и ты жил там не без пользы для нас.
– Я лишь исполнял свой долг, сударь.
– Послушай, Жильбер, – продолжал молодой человек, – ты знаешь, я тебя всегда любил, всегда выделял из прочих. Прав был я или нет? Будущее покажет. Твоя нелюдимость казалась мне признаком деликатности, резкость – свидетельством гордости.
– Ах, господин шевалье! – вздохнул Жильбер.
– Поверь, Жильбер, я желаю тебе добра.
– Благодарю вас, сударь.
– Я тоже был юн, как ты, страдал, как ты, от бедности и безвестности. Быть может, поэтому я тебя и понимаю. И вот мне улыбнулась удача – так позволь же, Жильбер, поддержать тебя в предвидении той поры, когда и тебе улыбнется удача.
– Благодарю вас, сударь.
– Скажи, каковы твои планы? Ты слишком горд, чтобы поступить в услужение.
Жильбер с пренебрежительной улыбкой помотал головой.
– Я хочу учиться, – сказал он.
– Но для того, чтобы учиться, нужны учителя, на учителей же нужны деньги.
– Я зарабатываю, сударь.
– Ну что ты можешь заработать, – улыбнулся Филипп. – Каков твой заработок?
– Двадцать пять су в день, а могу и больше – тридцать и даже сорок су.
– Этого только-только хватит на еду.
Жильбер улыбнулся.
– Послушай, может быть, я приступаю к делу неловко, но мне хотелось бы предложить тебе помощь.
– Помощь, господин Филипп?
– Ну да, разумеется. Согласен?
Жильбер не отвечал.
– Мы обязаны помогать друг другу, – продолжал шевалье де Мезон-Руж. – Разве не все люди – братья?
Жильбер поднял голову, и его смышленые глаза задержались на благородном лице молодого дворянина.
– Тебя удивляет такой язык? – спросил тот.
– Нет, сударь, – отвечал Жильбер, – это язык философии, но я не привык слышать подобные речи из уст человека вашего сословия.
– Ты прав, но тем не менее это язык моего поколения. Сам дофин разделяет эти принципы. Ну полно, не будь со мной таким гордецом, – продолжал Филипп, – когда-нибудь ты вернешь мне все, что возьмешь взаймы. Кто знает, может быть, со временем ты станешь вторым Кольбером [136]136
Кольбер, Жан Батист (1619–1683) – генеральный контролер финансов Франции с 1661 г. Способствовал повышению государственных доходов поощрением промышленности и торговли.
[Закрыть]или Вобаном? [137]137
Вобан, Себастьян де (1633–1677) – французский военный инженер, маршал Франции, автор трудов по фортификации, построил три новые и перестроил более 300 крепостей, разработал метод осады и взятия крепостей, руководил осадой и взятием 53 вражеских крепостей.
[Закрыть]
– Или Троншеном [138]138
Троншен, Теодор (1709–1781) – швейцарский врач, жил во Франции, вводил прививки от оспы.
[Закрыть], – сказал Жильбер.
– Будь по твоему. Вот мой кошелек, разделим его содержимое.
– Благодарю вас, сударь, – возразил непоколебимый Жильбер, который, не желая себе в том признаться, был все-таки тронут чистосердечным порывом Филиппа, – благодарю, мне ничего не нужно… но поверьте мне, я признателен вам гораздо больше, чем если бы принял ваш дар.
И, поклонившись пораженному Филиппу, он бросился в толпу и смешался с ней.
Молодой капитан постоял несколько секунд, словно не веря глазам и ушам, но, видя, что Жильбер не возвращается, вскочил на коня и вернулся на свой пост.
50. ОДЕРЖИМАЯ
Шум, поднятый громыхающими экипажами, гудение звонящих во всю силу колоколов, ликующий барабанный бой, короче, все это великолепие, отголосок мирского величия, не проникало в душу принцессы Луизы, ибо она уже отрешилась от него, и оно, словно бессильная волна, замирало у стен ее кельи.
Когда удалился король, который перед тем тщетно пытался по праву отца и государя, иначе говоря, то улыбкой, то просьбами, походившими более на приказы, склонить дочь к возвращению в мир, когда дофина, которую с первого же взгляда поразило неподдельное душевное величие ее августейшей тетки, исчезла вместе с роем придворных, настоятельница кармелиток велела снять драпировки, унести цветы, убрать кружева.
Из всех монахинь, до сих пор еще переживавших это событие, она одна не взгрустнула, когда тяжелые монастырские ворота, так недолго отворенные навстречу миру, скрипя повернулись на петлях и с шумом захлопнулись, отделив обитель уединения от мирской суеты.
Потом она призвала сестру-казначейшу.
– В течение этих двух суматошных дней бедные получали обычную милостыню? – спросила Луиза.
– Да, ваше высочество.
– Больных посещали, как обычно?
– Да, ваше высочество.
– Солдат, которые пошли на поправку, отпустили?
– Да, и каждый получил хлеб и вино, как вы и распорядились, ваше высочество.
– Значит, в обители все в порядке?
– Все в порядке, ваше высочество.
Принцесса Луиза подошла к окну и вдохнула свежее благоухание, долетавшее из сада на влажных крыльях сумерек.
Сестра-казначейша почтительно ждала, пока августейшей аббатисе будет угодно дать ей приказание или отпустить.
Одному Богу известно, о чем размышляла в этот миг принцесса Луиза, бедная высокородная затворница; она обрывала лепестки роз, что, поднимаясь на длинных стеблях, заглядывали в окно, и жасмина, облепившего все стены во дворе.
Внезапно дверь, ведущую в службы, потряс неистовый удар лошадиного копыта; настоятельница вздрогнула.
– Разве кто-нибудь из придворных вельмож остался в Сен-Дени? – поинтересовалась она.
– Его преосвященство кардинал де Роган, ваше высочество.
– Значит, это его лошади здесь?
– Нет, сударыня, они в конюшнях капитула аббатства, там, где он проведет ночь.
– Что же это в таком случае за шум?
– Сударыня, это лошадь чужестранки.
– Какой чужестранки? – спросила принцесса Луиза, тщетно роясь в памяти.
– Той итальянки, что вчера вечером попросила приюта у вашего высочества.
– Ах, да! Где она?
– У себя в комнате либо в церкви.
– Чем она занималась со вчерашнего дня?
– Она отказывается от любой пищи, кроме хлеба, и всю ночь молилась в часовне.
– Видимо, у нее много грехов! – заметила, нахмурившись, настоятельница.
– Не знаю, сударыня, она ни с кем не разговаривает.
– Как она выглядит?
– Красивая, лицо доброе и вместе с тем надменное.
– Где она была нынче утром во время церемонии?
– У себя в комнате, у окна. Я видела, как она пряталась за занавеской и вглядывалась во всех, кто входил, с такой тревогой, словно боялась увидеть врагов.
– Какая-нибудь дама, принадлежащая к жалкому свету, где я жила и царила… Просите ее ко мне.
Сестра-казначейша сделала шаг к двери.
– Да, а как ее зовут? – спросила принцесса.
– Лоренца Феличани.
– Не знаю никого, кто носил бы это имя, – задумчиво произнесла принцесса Луиза, – но неважно, приведите ее сюда.
Настоятельница уселась в старинное дубовое кресло, сделанное еще при Генрихе II и служившее девяти последним аббатисам монастыря кармелиток.
Здесь вершился тот грозный суд, перед которым трепетало немало бедных послушниц, уже неподсудных мирским властям, но еще не подчиненных церковным.
Мгновение спустя сестра-казначейша ввела уже знакомую нам чужестранку под длинной вуалью.
Принцесса Луиза устремила пронизывающий взгляд, которым отличался весь ее род, на Лоренцу Феличани, едва та вошла в кабинет; но на лице молодой женщины было написано такое смирение, такое изящество, она сама была столь возвышенно прекрасна, а в черных глазах ее, которые еще полны были слез, аббатиса прочла такую невинность, что первоначальное предубеждение тут же уступило у нее в душе место сестринской симпатии.
– Подойдите, сударыня, – промолвила принцесса, – и говорите.
Молодая женщина несмело приблизилась к ней и хотела преклонить колено.
Принцесса подняла ее.
– Вы зоветесь Лоренца Феличани, сударыня? – спросила она.
– Да, ваше высочество.
– И желаете доверить мне какую-то тайну?
– Да, я желаю этого больше жизни!
– Но почему бы вам не обратиться к исповеднику? Ведь в моей власти только утешить, а священник и утешает, и прощает.
Последние слова принцесса Луиза произнесла не вполне уверенно.
– Сударыня, я нуждаюсь только в утешении, – отвечала Лоренца, – а кроме того, я хочу рассказать вам нечто такое, что смею доверить лишь женщине.
– Значит, вы собираетесь рассказать мне нечто необычное?
– О, весьма необычное. Но прошу вас, выслушайте меня терпеливо. Повторяю, я могу открыться только вам, потому что вы могущественны, а я нуждаюсь в защите, хотя, быть может, один Бог на небесах в силах меня защитить.
– Защитить? Что же, вас преследуют? Вам угрожают?
– Да, ваше высочество, да, преследуют! – вскричала чужестранка с неподдельным страхом.
– Тогда, сударыня, подумайте вот о чем, – сказала принцесса, – ведь этот дом – монастырь, а не крепость; все, что волнует людей, проникает сюда лишь затем, чтобы здесь угаснуть; здесь нет никакого оружия, которое можно было бы пустить в ход против других людей; здесь не дом правосудия, силы или кары – это просто дом Божий.
– О, как раз этого я и ищу, – отвечала Лоренца. – Да, это дом Божий, и только здесь я смогу обрести покой.
– Но Господь возбраняет мщение. Разве мы сможем отомстить за вас вашему недругу? Обратитесь в суд.
– Перед тем, кого я страшусь, сударыня, судьи бессильны.
– Кто же он? – с тайным и невольным испугом спросила настоятельница.
Лоренца, исполненная таинственного возбуждения, приблизилась к принцессе.
– Ваше высочество, по моему убеждению, – произнесла она, – он один из тех демонов, которые ведут войну с человеческим родом. Их князь, Сатана, наделил их сверхчеловеческой силой.
– Да что вы такое говорите? – перебила принцесса, вглядываясь в посетительницу, чтобы увериться, что та в своем уме.
– А я, я… О, я несчастная! – воскликнула Лоренца, заламывая свои прекрасные руки, которые были бы под стать античной статуе. – Я оказалась на пути у этого человека! И я… я…
– Договаривайте.
Лоренца подошла еще ближе и шепнула совсем тихо, словно сама ужасаясь своим словам:
– Я одержимая!
– Одержимая! – вскричала принцесса. – Помилуйте, сударыня, понимаете ли вы, что говорите? Вы словно…
– Словно помешанная, не так ли? Ведь вы это хотели сказать? Нет, я не помешана, но могу лишиться рассудка, если вы меня оттолкнете.
– Одержимая! – повторила принцесса.
– Увы! Увы!
– Позвольте, однако, сказать вам, что вы во всех отношениях похожи на особ, наиболее взысканных Богом. Судя по всему, вы богаты, к тому же красивы, рассуждаете вполне здраво, и на вашем лице нет следов ужасного и непостижимого недуга, который зовется одержимостью.
– Ваше высочество, та зловещая тайна, которую я рада была бы скрыть от себя самой, таится в моей жизни и в приключениях, которые выпали на мою долю.
– Объяснитесь же. Вы никому прежде не рассказывали о постигшем вас несчастье? Родителям, друзьям?
– Родителям! – воскликнула молодая женщина, горестно заламывая руки. – Бедные мои отец и мать! Увижу ли я их когда-нибудь? Друзья… – добавила она с горечью в голосе. – Увы, ваше высочество, разве у меня есть друзья!
– Постойте, давайте начнем по порядку, дитя мое, – сказала принцесса Луиза, пытаясь направить речь посетительницы в нужное русло. – Кто ваши родители и как вы с ними расстались?
– Ваше высочество, я римлянка и жила с родителями в Риме. Мой отец принадлежит к древнему роду, но, как все римские патриции, он беден. Кроме того, у меня есть мать и старший брат. Мне говорили, что, если во Франции, в аристократической семье, такой, как моя, есть сын и дочь, то приносят в жертву приданое дочери, чтобы определить сына на военную службу. У нас жертвуют дочерью, чтобы сын мог вступить в духовный орден. Я, к примеру, ничему не училась, поскольку надо было дать образование брату, который, как простодушно выражалась моя мать, учится, чтобы стать кардиналом.
– И дальше.
– По этой причине, сударыня, мои родители пошли на все жертвы, какие только были в их силах, чтобы помочь моему брату, а меня решили постричь в монахини в обители кармелиток в Субиако.
– И что на это сказали вы?
– Ничего, ваше высочество. С детства мне внушали, что таково мое будущее и ничего тут не поделаешь. У меня не было ни сил, ни воли возражать. Впрочем, никто меня и не спрашивал: мне приказывали, и оставалось только подчиняться.
– Однако…
– Ваше высочество, у юных римлянок, вроде меня, есть только желания, но нет сил настаивать на своем. Как грешники любят рай, так мы любим свет, не зная его. К тому же все вокруг заклеймили бы меня, приди мне в голову воспротивиться, да я и не противилась. Все мои подруги, у которых, как у меня, были братья, принесли свою дань ради процветания и возвышения рода. Впрочем, я и не склонна была сетовать: от меня требовалось лишь то, что было принято у всех. Моя мать, правда, стала со мной чуть нежнее, когда приблизился день нашей с ней разлуки.
Наконец пришел мой срок стать послушницей. Отец собрат пятьсот римских экю – мой взнос в монастырь, – и мы отправились в Субиако.
От Рима до Субиако не то восемь, не то девять лье, но дороги в горах такие скверные, что за пять часов пути мы одолели не больше трех лье. И все-таки путешествие мне нравилось, хотя и было утомительно. Я радовалась ему, как последнему своему счастью, и все время по пути тихонько прощалась с деревьями, кустами, камнями, даже с высохшей травой. Кто знает, будут ли там, в монастыре, трава, камни, кусты и деревья?
Я замечталась, и вдруг, когда мы ехали через рощу среди изрезанных трещинами скал, карета остановилась, и я услышала, как моя мать вскрикнула, отец же потянулся за пистолетами. С небес я рухнула на землю: нас остановили разбойники!
– Бедное дитя! – промолвила принцесса Луиза, захваченная рассказом.
– По правде сказать, сударыня, сначала я не слишком испугалась: эти люди остановили нас ради поживы, а деньги, которые они могли у нас отобрать, предназначались для взноса в монастырь. Если уплатить взнос будет нечем, постриг мой отложится до тех пор, пока отцу не удастся снова скопить нужную сумму, а я знала, как много труда и времени понадобилось, чтобы собрать эти пятьсот экю.
Разбойники поделили добычу, но не отпустили нас, а бросились ко мне, и когда я увидела, что отец пытается меня защитить, а мать со слезами молит о пощаде, то поняла, что мне грозит что-то страшное, и стала звать на помощь, повинуясь естественному чувству, заставляющему нас искать подмоги в беде, хотя прекрасно знала, что зову понапрасну и в этих диких местах никто меня не услышит.
Не обращая внимания на мои крики, на слезы матери, на усилия отца, разбойники связали мне руки за спиной и, бросая на меня похотливые взгляды, значение которых я понимала, потому что страх сделал меня ясновидящей, постелили на землю носовой платок, который один из них вытащил из кармана, и стали метать кости.
Больше всего меня испугало то, что на этом гнусном лоскутке ткани не было никакой ставки.
Кости переходили из рук в руки, а я трепетала, потому что поняла: ставка в этой игре – я.
Вдруг один из них вскочил с торжествующим ревом – остальные же скрежетали зубами и богохульствовали, подбежал ко мне, подхватил на руки и прижался губами к моим.
Из груди моей вырвался такой душераздирающий вопль, какого не исторгло бы и прикосновение раскаленного железа.
«Господи! – закричала я. – Убей меня! Убей!»
Мать моя рухнула на землю, отец потерял сознание.
У меня оставалась только одна надежда. Я мечтала, чтобы кто-нибудь из проигравших разбойников в ярости убил меня ударом ножа – у них у всех в руках были ножи.
Я ждала удара, я мечтала о нем, я его призывала.
Внезапно на тропинке показался всадник.
Он тихо сказал что-то караульному, обменялся с ним какими-то знаками, и тот пропустил его.
Этот человек, среднего роста, со значительным лицом и решительным взглядом, спокойно приближался к нам, ничуть не торопя свою лошадь.
Доехав до меня, он остановился.
Разбойник, который уже подхватил меня на руки и собирался утащить прочь, обернулся, когда незнакомец свистнул в полую ручку своего хлыста.
Негодяй опустил меня на землю. «Поди сюда», – приказал ему незнакомец. Разбойник медлил, тогда незнакомец согнул руку и коснулся своей груди двумя раздвинутыми пальцами. И тут, словно этот знак означал приказ всемогущего владыки, разбойник приблизился к незнакомцу.
Тот наклонился к его уху и тихо произнес одно слово:
«Мак».
Больше он ничего не прибавил, я в этом убеждена, ведь я не спускала с них глаз, как жертва не сводит взгляда с ножа, занесенного над нею, а слушала, как слушают приговор, означающий жизнь или смерть.
«Бенак», – ответил разбойник. Потом со свирепым рычанием, словно укрощенный лев, он подошел ко мне, разрезал веревку, стягивавшую мне запястья, и развязал моих родителей.
Затем, поскольку деньги были уже поделены, каждый выложил свою долю на камень. Из пятисот экю не пропало ни единой монеты.
Между тем я возвращалась к жизни в объятиях отца и матери.
«Теперь ступайте», – велел незнакомец разбойникам. Те подчинились и исчезли в лесу.
«Лоренца Феличани, – обратился ко мне незнакомец, пронзив меня каким-то сверхчеловеческим взглядом, – продолжай свой путь, ты свободна».
Отец и мать принялись благодарить спасителя, знающего меня, хотя нам он был вовсе незнаком. Родители сели в карету. Я со смутным сожалением последовала за ними: некая странная, непреодолимая сила влекла меня к моему спасителю.
А он неподвижно ждал на том же месте, словно продолжая нас охранять.
Я смотрела на него, покуда он не исчез из глаз, и только тогда у меня в груди прошло стеснение.
Через два часа мы были в Субиако.
– Но кто же был этот необыкновенный человек? – поинтересовалась принцесса, взволнованная безыскусным рассказом Лоренцы.
– Соблаговолите выслушать, что было дальше, ваше высочество, – отвечала Лоренца. – Увы, на этом дело не кончилось.
– Да, слушаю, – промолвила принцесса Луиза.
Молодая женщина продолжала:
– Мы прибыли в Субиако через два часа после этих событий.
Всю дорогу мы трое только и говорили, что о загадочном спасителе, который так внезапно явился к нам, таинственный и могущественный, словно посланец неба.
Отец, менее доверчивый, чем я, предположил, что это главарь одной из многочисленных шаек, которые, хоть и рассеяны в окрестностях Рима, подчиняются одному человеку, и этот их верховный предводитель, обладающий беспредельной властью, время от времени проверяет их, вознаграждает, карает и делит добычу.
Но я, хоть и не смела оспаривать опыт отца, доверяла больше собственному инстинкту и, всецело отдавшись чувству благодарности, не верила, не могла поверить, что этот человек – разбойник.
Каждый вечер, молясь Пресвятой деве, я просила, чтобы Мадонна была милостива к моему неведомому избавителю.
В тот же вечер я вступила в монастырь. Поскольку мой вклад не был отнят у нас, ничто не препятствовало мне стать послушницей, В душе у меня было больше печали, чем прежде, но и больше смирения. Я итальянка, я суеверна: мне думалось, что Господу угодно было сохранить меня чистой, нетронутой и незапятнанной, потому он и вызволил меня из рук разбойников, посланных, несомненно, дьяволом, который покушался втоптать в грязь венец невинности, меж тем как один только Бог властен снять его с моего чела. Потому со всем рвением, присущим моему характеру, я стала следовать указаниям моих наставников и родителей, желавших ускорить дело. Мне было велено подать прошение его святейшеству, чтобы меня избавили от послушничества. Я написала прошение, поставила свою подпись. Оно было составлено моим отцом в выражениях, изобличавших столь пламенное желание, что Его святейшество, должно быть, усмотрел в нем страстный вопль души, испытывающей отвращение к миру и жаждущей уединения. Он дал свое соизволение на все, о чем его просили, и срок послушничества, продолжающегося обыкновенно год, а то и два, был для меня сокращен до одного месяца.