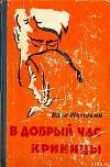Текст книги "Вдруг выпал снег. Год любви"
Автор книги: Юрий Авдеенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц)
– Ты что тут делаешь?
– Смотрю, – ответил я.
Он отпустил мои плечи. Мы вышли из магазина. Улицу окутывала темнота, еще не глубокая, но вязкая. К станции подошел поезд. Светящиеся квадраты окон тянулись цепочкой, скрывающейся за темным зданием вокзала с колоннами, побитыми осколками во время войны.
– Как ты сюда попал? – спросил Баженов.
– Долго рассказывать, – я не намеревался давать подробные объяснения.
Впрочем, он и не надеялся на ответ. Спросил просто так. Признался:
– У меня и времени нет долго слушать.
– Я здесь живу, – сказал я. Добавил: – Временно.
– Хата есть? – Он схватил быка за рога.
Я кивнул. Я уже однажды попался вот так в гастрономе, когда Баженов без всяких усилий забрал мои деньги и потом затащил к Жанне. Тем не менее и сейчас я кивнул, как дурачок.
– Подожди вон за той акацией, – Баженов показал рукой на высокую акацию, которая темной колокольней возвышалась на углу узкой улицы в маленьких домиках по обе стороны. Больше не сказал ни слова. Его серая вельветовая куртка мелькнула на перроне. Скорее всего он вошел в здание вокзала.
Под акацией густо лежала темнота, и, наверное, меня не было видно с освещенной привокзальной площади, где стояли автобусы и длинные очереди пассажиров.
Странно. Какими судьбами оказался здесь Баженов? Мне почему-то думалось, что он в Одессе, пытается вернуться в моряки. Или что-нибудь в этом роде.
И вправду говорят: мир тесен…
Я ожидал полчаса. Даже немного больше. Баженов появился с чемоданом – большущим, перевязанный; двумя веревками. Сказал:
– Тащи домой. Я потом заберу. У меня, понимаешь, дела. А камеры храпения, сам знаешь, здесь нет. Чемодан не запирается. У чужих оставишь – свистнут чего-нибудь. Потом пляши, доказывай…
Честно говоря, поручение не очень меня обрадовало. Во-первых, тащиться через весь город с чемоданом. Во-вторых, я помнил отношение Онисима к Баженову и догадывался, что старец заворчит. Присутствие Баженова его определенно напугает, хотя бы по причине врожденной подозрительности. Но, с другой стороны, отказать Витьку в такой пустячной просьбе я не мог.
Витек раскрыл пачку «Казбека», протянул мне. Я отказался, сморщившись и повертев головой: не любил я эти папиросы.
– У тебя все в порядке? – спросил Баженов в общем-то безразлично.
– Как сказать… – я закурил сигарету. – Ни плохого, ни хорошего.
– Так у большинства.
– Я здесь с Онисимом. Помнишь старца?
– Плешивого пса… Чего он от тебя хочет?
Я пожал плечами:
– Ничего особенного. Скоро расстанемся.
Баженов слушал меня невнимательно, смотрел то на вокзал, то на площадь, то на улицы, выходящие с площади.
– Наличные хорошие? – спросил он словно между прочим. Его худое небритое лицо вдруг стало настороженным, как у принюхивающейся собаки.
– Гроши, – честно ответил я. – Только на жратву и хватает.
Тогда Баженов перевел взгляд в мою сторону, взгляд и любопытный, и сожалеющий, точно вот только в эти секунды увидел меня. Спросил:
– Зачем молодость зря растрачиваешь?
– Да нет, – сказал я, оправдываясь. – Закругляюсь.
Он кивнул: наверное, понял. Произнес быстро:
– Ты адресок оставь. Забегу за чемоданом утром.
– Утром мне на работу.
Баженов озабоченно присвистнул:
– К какому часу?
– К восьми, – я назвал адрес.
– Хорошо. Я успею. Привет старцу. Чтоб у него геморрой лопнул. – Баженов хлопнул меня по плечу и ушел, вернее, сорвался с места. Похоже, увидел кого-то в толпе на площади.
Обреченно вздохнув, я поднял чемодан и поплелся к дому. Душу скоблила досада.
…Онисим выпучил глаза. Дед Антон, наоборот, глядел как святой, без тени удивления. Они сидели по обе стороны стола. Керосиновая лампа освещала одного справа, другого слева.
– Откель чемодан? – спросил Онисим.
– С вокзала, – ответил я. Поставил чемодан возле печки и облегченно вздохнул.
– С ума двинулся, – вскочил Онисим. – Кто ж прямым ходом тащит чемодан через весь город и в свой собственный дом? Припрятать вначале надо было. Осмотреться, не заметил ли кто…
– Баженова этот чемодан, – устало пояснил я.
Сил не было двинуть старца по морде.
– Какого Баженова?
– Ну Витька… Что у Глухого во времянке жил.
– Значит, все равно ворованный, – твердо сказал Онисим. Подошел к чемодану, наклонился, ощупал веревки. Вынул из кармана складной нож.
Я не успел и рта раскрыть, как веревки уже лежали на полу.
– Не чуди, старец, – предупредил я. – Баженов утром придет за чемоданом.
– С чем придет, с тем и уйдет, – елейно ответил Онисим.
Дед Антон не двигался, словно спал с открытыми глазами.
Я сел на скамейку. Она скрипнула подо мной неодобрительно. Ну и что? Плевать мне на все! Пусть Онисим поступает как знает. Пусть Баженов разбирается с ним завтра утром. В конце концов, я не желаю быть «шестеркой» ни у старца, ни у Баженова.
Онисим поднял крышку. Она стукнулась о печку. Мелкая известь легла на нее редкой пылью.
Чемодан поверху был засыпан каштанами, но под плодами лежало еще что-то в газете. Я понял: Онисим нрав. Витек не стал бы возить в своем чемодане каштаны, цена которым два рубля банка. Онисим ухватил газету за край, выдернул. Через несколько секунд тряс перед столом новыми солдатскими подштанниками, нательной рубахой. Белье было огромного размера и тоже не могло принадлежать Витьку, который совсем ненамного был крупнее меня.
– Дед Антон, – сказал Онисим, протягивая подштанники, – это тебе на гроб. – Приложил к своим худым плечам рубашку, буркнул сожалеюще: – Это тоже бери.
Дед Антон моргнул редкими ресницами. Признательно молвил:
– Вот спасибо.
– Зря ты это все, – сказал я Онисиму.
– Ворованный чемодан, – как заклинание повторил старец.
– Допустим, ворованный… Хотя факт воровства еще доказать надо. Но если Баженов ворюга, он же шкуру с тебя спять может…
– А ты скажи, что чемодан бросил, – разминая переносицу, посоветовал Онисим. Вид у него был глупый. Похоже, он сомневался: нужно ли было открывать чемодан. – Скажи, милиционер свистнул, ты испугался и убег.
– Ничего я говорить не буду, – твердо решил я. – Выпутывайся как знаешь.
– Ладно, – скрипнул зубами Онисим. Махнул рукой: – Цирлих-манирлих… Семь бед – один ответ.
Сел на корточки перед чемоданом, запустил в него руки.
Лампа стояла на столе. Свет обнимал старца за спину, а над чемоданом была тень, черная тень. Онисим щурился, но не хотел поворачивать чемодан к свету. Жадность одолевала…
Тогда я взял лампу и поднял ее над чемоданом. Онисим аж вздрогнул. Вынул сверток в газете, который оказался льняной скатертью с красными петухами.
– Сойдет, – сказал Онисим. Положил скатерть на скамейку. Потом достал галоши – ношеные, размер для великана. Повертел: за такие на базаре много не возьмешь.
– Бери, дед Антон.
У деда Антона тряслись руки.
– Великоваты, – сказал он дребезжаще и жалостливо.
– Ничего, – успокоил Онисим. – Веревочками подвяжешь.
Рубаху нашел Онисим – фланелевую, красную, с синими цветами. Новую рубаху – это уже точно. Очень обрадовался. Размер, можно сказать, его. Стал мерить.
Я плюнул, поставил лампу на стол, пошел спать.
…На рассвете проснулся от стука в дверь. В доме было прохладно, пахло керосином. Онисим шмыгнул к двери. Спросил нараспев:
– Кто-о та-ам?
Я узнал голос Баженова:
– Мне Антона.
Натянув на голову одеяло, повернулся к стене. Слышал, как Онисим скрипел засовом, как сладко говорил:
– Вот что, мил человек. Хорошо, что пришли, значит. А чемоданчик ваш мы сдали в отделение милиции. Напротив городской автостанции… Подозрение у нас возникло насчет его происхождения. А за Антона Сорокина, как друг его отца, я ответственность несу, поскольку Антон есть гражданин несовершеннолетний.
– Позови Антона.
– Этого сделать не могу, так как Антон задержан в отделении. Вплоть до выяснения обстоятельств. Так что, мил человек, топай отсюда прямо в милицию. И чемодан получишь, и Антона встренешь.
– Ладно, гнида, – недобро сказал Баженов. – Мы еще повстречаемся…
– Мне это без надобности, – Онисим захлопнул дверь. Вновь заскрипела задвижка.
Старец зевнул и потянулся:
– Вот жизня! Опять на работу нужно!
16
Горничную Катю из гостиницы «Восток» я не видел с той самой ночи. Работа на складе была тяжелая. Поужинав, валился спать. Не хватало сил даже слушать рассуждения Онисима. Старца последнее время прямо-таки тянуло философствовать.
– Вот мы живем, – говорил он. – Вот наш мир. Этот стол, эти стулья, печка. Пока мы здесь, все это существует. Для нас. Мир – для нас… Там, где нас нет, нет и ничего. Потому что мы ничего про то не знаем…
– Ты идеалист, Онисим, и мракобес, – говорил я. – Ты не вздумай с такими речами в общественных местах выступать.
Однако выражение «общественные места» Онисим воспринимал очень узко, отождествляя с ними исключительно городские туалеты, и разубедить его в этом не представлялось возможным.
– Я в общественных местах и рта не раскрываю, – уверял он. – Запахи там шибко тяжелые. И матерные слова на стенах…
Он еще говорил что-то о пользе и вредности всеобщей грамотности, об ухудшении климата, здоровья. Но я уже не слушал его, засыпал без сновидений.
Дома мне всегда снились сны. Правда, я их никогда не запоминал, за исключением тех случаев, когда снилась бомбежка. Если снилась бомбежка, я просыпался. За окнами в густой тишине ночи, чужой и холодной, мне явственно слышался гул самолетов. И казалось, что с секунды на секунду заголосят зенитки – ожесточенно, зло. Но проходило время, а на улицах голосили только собаки. На душе становилось спокойно и даже легко.
Катя пришла получать дрова. На ней была розовая кофта из крашеной козлиной шерсти. И губы были накрашены ярко.
– А ты чего здесь делаешь? – спросила она.
– Лес для виллы подбираю, – сказал я. – Хочу возле речки отгрохать двухэтажное чудо с газоном по-английски. Близ Лондона такие видел.
Веки у Кати были припухшими. Похоже, что она плакала.
– Трепач, – сказала она беззлобно. – Ни разу не зашел.
– Весь в делах, – пояснил я.
Она грустно кивнула головой.
– Сама-то как живешь? – спросил я. У меня было такое ощущение, что я никогда не знал ее раньше.
– Одна я живу. Одна… Пришел бы дров наколол.
– Хорошо, – пообещал я. – Ты только адрес скажи.
Она сказала.
К вечеру я так устал, что едва доплелся до дома. Туг еще дождь пошел. Плохо осенью в дождь.
Дед Антон печку протопил. Забрался я на лежанку. Дед говорил:
– Молодец, молодец. Кости у тебя хоть и молодые, а тепла им тоже хочется.
На столе горела керосиновая лампа. Онисим чавкал и стучал ложкой о тарелку. «Нет, – думал я, – пора кончать баловаться. Надо ехать домой… Пупок развяжется, пока мы до тех дубовых дров доберемся. Хорошо, если там что-нибудь есть, под теми дровами. А если нет? Если Онисим самый обыкновенный псих, только тихо помешанный?»
– Чего вздыхаешь? – это Онисим.
– Чавкаешь ты прямо как собака.
– Собака очень хороший зверь. Верный и преданный.
– Собака – она есть собака, – вступил в разговор дед Антон. – А человек – он всегда человек.
– Это верно, – согласился Онисим. – Мы человеки.
17
Большой, широкий, он приехал на заляпанном грязью «студебеккере». Очки в золоченой оправе. Под цвет оправы и шапка волос на непокрытой голове. Из кабины вышел вразвалку, как медведь. Закричал басом:
– Эге-е! Хозя-ева!
Заведующий складом выбежал из конторки, считай, на полусогнутых. Задохнулся в приветствии:
– Рад вас видеть, Никанор Никанорович.
И тогда я понял, что Никанор Никанорович и есть тот человек, которого я ждал целый месяц. И вместе со мной ожидали его штабеля дубовых дров.
– Ну и труха тут у вас, – Никанор Никанорович барственно протянул ладонь заведующему.
Тот принял ее бережно. Пожимал двумя руками, говорил:
– Всякие есть, всякие…
– Дрова сырые, под открытым небом. Осина… – брезгливо говорил Никанор Никанорович, оттопыривая розовые, как у ребенка, губы.
– Не волнуйтесь, Никанор Никанорович. Конечно, поставить крышу не по силам. Бюджет не позволяет. Но дровишки хорошие найдутся… Антон, – заведующий подбородком указал на южную часть склада, туда, где стояли штабеля, – машину.
Я вскочил на подножку машины, сказал шоферу:
– Подавай потихоньку.
Шофер отжал тормоз. Машина покатилась медленно, только щепки трещали под колесами, да на мокрой земле оставались четкие и широкие следы.
Никанор Никанорович шел осанисто: не шел, а подминал под себя пространство. Помнится, Витек Баженов говорил: «Если человек на коне, это и за квартал по походке видно». Никанор Никанорович, конечно же, был на коне – тут и слепой не ошибся бы.
– Правее, – сказал я шоферу. – А теперь назад…
Взобравшись в кузов, я опустил задний борт. Машина подкатила к самому штабелю. Мы с шофером влезли на вершину штабеля. Вдвоем грузили дрова в машину. Поленья были большие, по два-три метра, толстые. Дуб же вообще дерево тяжелое.
– Как тебя зовут? – спросил меня Никанор Никанорович.
– Антоном, – ответил я.
– Ты старайся, Антон, старайся. За мной не пропадет.
Я старался. Ведь, если верить Онисиму, под этими штабелями в земле лежало то, ради чего мы сюда приехали.
Баженов, бывало, частенько повторял: «Не суетись под клиентом, пупок развяжется». Сегодня я все-таки суетился. Мне казалось, что машина огромная и в нее войдет весь штабель. Однако через час, когда кузов уже был заполнен доверху, я с грустью убедился, что штабель не убавился даже на четверть. Усталые шофер и я сидели на дровах, курили.
Время подходило к вечеру. Тучи на западе немного рассосались. Золотая кромка тянулась по низу горизонта, деревья чернели, будто нарисованные углем.
– Кем работает Никанор Никанорович? – спросил я шофера. – Наверное, начальником.
– Бери выше, – сказал шофер, тоже молодой парень. – Ветеринар он из района. Специалист огромной квалификации. Ему здесь все председатели колхозов и совхозные директора в ножки кланяются.
– Ты посмотри, – удивился я.
– То-то…
Машина выкатилась к воротам склада, остановилась. Минут через пять из конторки вышли Никанор Никанорович и наш заведующий. Судя по раскрасневшемуся лицу и блестящим глазкам заведующего, мужчины немного выпили.
Никанор Никанорович деловито посмотрел на кузов, сказал:
– Добро.
И сунул что-то в карман моей стеганки. Когда машина уехала, я опустил в карман руку. Вынул двадцать пять рублей – целиком. Щедрый дядька: двадцать пять рублей – большие деньги.
– Я пойду, – сказал заведующему.
– Валяй, – добродушно согласился он. – Сегодня уже больше никого не будет.
Шел берегом. По реке шлепали весла. Дым костра вытягивался над запеленатой в зеленое водой, тихо отходящей ко сну. Красновато подрагивали на песке блики пламени, которое было невысоким и неярким.
Кто-то в ближайших домах жарил рыбу. Жарил картошку…
…Онисим сидел на скамье. Без порток, но в гимнастерке и шапке. Парил ноги в старом грязноватом тазу. Деда Антона не было: он нынче дежурил.
– Хлопай в ладоши, старец, – сказал я. – Раздирай глотку в песне.
– Чтой-то? – настороженно спросил Онисим, быстро вынул ноги из тазика и принялся растирать их мешковиной.
– Добрался я наконец до штабеля. Целый «студебеккер» дубовых бревнышек отгрузил.
– Много осталось?
– Осталось, – заверил я. – Но сам понимаешь: лиха беда начало.
Распотешился Онисим. Ударил шапкой о пол, топнул ногой, круто согнув ее в колене. На старую клеенку в потеках от чая, на сухие хлебные крошки полетели мятые трешки и рубли.
– Эх! И поживем же мы с тобой, Антон! Тащи-ка поллитруху.
За окном, перечеркнутый крестовиной рамы, грустно горел закат, яркий, как сок раздавленной малины. Сумрак терся о стекло, дышал сыростью. Огородами к реке подступал туман, еще прозрачный и редкий.
Я неторопливо пересчитал деньги.
– Нужно добавить, – сказал. – На хлеб и колбасу…
– Добавляй, добавляй, – покладисто разрешил Онисим. Лицо его по-прежнему оставалось счастливым, помолодевшим.
– Только без фокусов, – сдержанно попросил я. – Сам знаешь, у меня третий день ни копейки.
Я не собирался делиться двадцатипятирублевкой.
– Да-а, – озаботился Онисим, почесал затылок. Лицо его вдруг приняло обычное выражение.
– Не придуряйся, старец, – сказал я.
– Ладно, – вздохнул он, вынимая из кармана гимнастерки червонец. – Гулять так гулять…
18
Боевое донесение:
«К 2.00 23.4.1945 г., штадив 118.
1. В 15.00 22.4.1945 г. части дивизии из р-на Добристро – Дрохов выступили на марш по маршруту: Залльгаст, Лихтерфельд, Лугау, Кирххайны.
В 16.00 при движении штаба дивизии в Зальхаузен на штаб и спецподразделения было произведено нападение крупной группы немцев (до 4 тысяч солдат, 7 «тигров», 13 СУ и бронетранспортеров – из допроса пленных).
Огнем танков была сожжена головная машина, что не позволило вывести остальные. Штаб дивизии организовал круговую оборону на юго-восточной окраине Зальхаузена и до 19.00 вел бой с превосходящими силами противника. Вторая группа штаба с двумя батареями организовала оборону на северо-восточной опушке леса юго-западнее Зальхаузена 0,4 км.
Колонна пехоты и танки противника прорвались по шоссе на юг от Зальхаузена.
С марша были возвращены стрелковые полки. 398-й стрелковый полк очистил от противника Зальхаузен.
В 24.00 части выступили по указанному выше маршруту.
2. Наши потери: сожжена одна грузовая машина с документами оперативного, шифровального отделов и начальника топслужбы. Разбито 2 «виллиса», 4 грузовых и 3 легковых автомашины, разбита одна рация РСМ, смонтированная на машине, убит командир 463-го стрелкового полка майор Домбровский, ехавший со штабом, тяжело ранен начальник 4-го отделения майор а/с Топорков, легко ранен начальник штаба артиллерии капитан Жаворонков. По предварительным данным, убито 15 человек, ранено до 40.
463-й стрелковый полк присоединился к дивизии в 16.00 22.4.1945 г. и продолжает действовать с частями 4-го танкового корпуса.
Командир дивизии гвардии генерал-майор Сухинин.Начальник штаба полковник Ларин».
19
– Поют, – сказал Онисим. – Все поют. А в жизни так не поют…
Над горой висела луна, яркая, полная. И небо было полно звезд, как фильм, который мы сейчас смотрели, был полон музыки.
– Я в Сибири не был, – продолжал Онисим. – Бог миловал. Но видать по всему, просторы там огромадные, и люди, когда здесь все потопчут, за них примутся…
Ночь наступала холодная. Примороженная земля потрескивала тонкими льдинками звонко, шаг в шаг. Онисим пыхтел, потому что шли мы все-таки быстро. Старец сгибал руки в локтях и двигал плечами, словно расталкивая воздух. Золотое марево подрагивало над рекою. Оно было тонким: может, как ладонь, может, еще тоньше. Но река лежала внизу и просматривалась до самого изгиба, где на склоне горы начинался лес, росли каштаны и высокие деревья грецкого ореха.
– Между прочим, – вспомнил я, – мастер мой, Корнилыч, который меня слесарному делу учил, десять лет жил в Сибири. Он так говорит: природа – она есть природа, к ней быстро привыкнешь и потом уж многого не замечаешь. А вот люди в Сибири особенные. Очень хорошие.
– За свою жизнь, Антон, – сморщился Онисим, – я про хороших людей вообще много слышал, да попадались они мне редко.
– Себя хорошим человеком считаешь? – спросил я с усмешкой. Но у Онисима была завидная способность не реагировать на такие вещи.
– Я беззлобный человек и не вредный, – ответил он. – Но я и не лошадь: на мне где сядешь, там и слезешь. От этой причины моего характера равнодушно ко мне счастье, как волк к капусте.
– Ничего, – сказал я. – Завтра последние кубики кому-нибудь на телегу уложу, и давай готовь лопату. Придешь на склад землекопом, выйдешь богачом.
– Ты не кричи так шибко, – попросил Онисим.
Люди, вышедшие из кинотеатра, исчезали в улицах и переулках. А те, что шли вслед за нами, обсуждали достоинства фильма «Сказание о земле Сибирской» и едва ли прислушивались к нашему разговору. Скорее всего Онисим нервничал.
Дед Антон дремал на печи. Продрогшие, мы хорошо чувствовали, как сладко и щедро дышит жаром старая печь. Онисим сел на лавку. Облегченно вздохнул, потом сказал:
– Промерз до озноба.
– К простуде это, – прохрипел с печки дед Антон. – Ты чайку с сухой малиной прими и лезь сюда, а я на топчан лягу. Я ныне в бодрости и в хорошей силе.
– Молодуху бы тебе, – пробурчал Онисим.
– А что? – засмеялся дед Антон. – Не грех! Не грех!
– Ты, дед, все шутишь, – вмешался в разговор я. – А между прочим, Онисим к вашей заведующей Алевтине Владимировне свататься собирается.
– Отказа бы не получить, – дед Антон свесил ноги. Шерстяные носки на нем были толстые, но старые: дырка у большого пальца справа. – Срамота – отказ. Хуже оплеухи.
– Чего б ей отказывать? – недовольно спросил Онисим.
– Представительности в тебе нет, – пояснил дед Антон. – Алевтина, она начальница. Она на представительность враз пойти может…
Обиделся Онисим, подбежал к печи. Хотел, кажется, рукой махнуть. Выкрикнул с горечью:
– Ты на меня шляпу надень, да пальто из драпа, да костюм двубортный коверкотовый, да полуботинки лакированные ленинградской фабрики «Скороход»… Вот увидишь тогда, представительный я или не очень.
– То конечно… Шляпу да дряп натуральный хоть на обезьяну надень – и хвостатая представительной станет, – дремуче рассуждал дед Антон. – А где взять-то дряп? Чай, сколько он тыщ стоит?
– Дорого, дед, стоит, дорого, – суетился Онисим. – Но за деньги все купить можно. За деньги…
– Ежели имеются в наличии, – сомневался дед Антон.
– У Онисима все в наличии имеется, – сказал я. – Разумеется, кроме денег.
Сник Онисим, вернулся на лавку. Положил устало ладони на колени, прислонился к стене. Лицо его было небритым, кожа старой, заветренной. Сказал тихо:
– Много зла в человеке.
– Из тебя доброта прет, как дым из нетопленой почки, – ответил я в общем грубо. Но Онисим был необидчив.
– Твои лета, Антон, молоды. Жизнь впереди. И вполне возможно, что светлая. Про меня так сказать нельзя. Ты меня вот старцем зовешь. Зови… Сам знаю – немолод. Зябко мне, тепла хочется, заботы, уюта. И спать в одиночку надоело. Отосплюсь один в могиле…
– Ето так, ето так, – кивал на печи дед Антон – равнодушно, словно и не собирался умирать.
– В кино ишь как красиво получается, – не унимался Онисим. – Пострадал человек, побродил по свету. Тут тебе и цветы, и музыка. А в жизни и цветы, и музыка чаще всего на кладбище… Ты мне закажешь, Антон, оркестр, чтоб с барабаном. И душевностью…
– Закажу, – пообещал я, наливая чай в металлическую кружку.
– Вот спасибо, – Онисим протянул руку за кружкой. Ногти у него были обкусанные и грязные.
20
Я очень серьезно полагал, что наступившее воскресенье будет моим последним воскресеньем в этом городе. На следующей неделе, не позже чем в пятницу, я собирался отбыть к теплым черноморским берегам независимо от того, найдется в земле банка Онисима или нет. Место, где, по расчетам старца, лежали его сокровища, практически было расчищено. Оставался лишь один штабель недорогих разносортных дров, которые я намеревался переложить на телеги самое позднее во вторник.
Значит, в среду нужно будет выпить со сторожем и, пока он станет сладко отсыпаться, прощупать лопатой землю. Вдруг да обнаружится та драгоценная банка – судьба старца, голубая мечта, надежда.
Онисим с утра ушел на рынок. День начинался не сырой, но ветреный. Трепыхались ветки, летели листья, пахло поздними яблоками, которые местные жители называли «черкесский розмарин». Яблоки отличались розовым боком, удлиненностью формы, сочностью, сладостью. Высокое дерево, не раскидистое, а скорее конусообразное, росло у деда Антона прямо за окнами. По утрам сбитые за ночь ветром яблоки усыпали землю заодно с листьями.
Дед Антон разделывал яблоки на терке, охотно ел эту быстро темнеющую кашицу с хлебом.
– Тебе не надо, – говорил он мне. – У тебя зубы крепкие… Кусай яблоко, хрумти, радуйся.
Онисим же предпочитал яблоки с чаем. Он резал их на тонкие дольки, складывал в кружку, заливал кипятком. Пил, причмокивая, как и ел.
– Жадный он, – говорил дед Антон. – На чемодан позарился. А ведь за чемодан и жизни могли лишить… Ты, тезка, расставайся с ним. Гусь свинье не товарищ…
– Сам знаю. Только учили меня умные люди, что начатое дело надо доводить до конца.
– Ежели дело доброе, тогда другой момент. Тогда надо…
Я не очень был уверен, что дело мое и старца доброе. Но и зла в нем, честно говоря, тоже не видел. Дело как дело. Человек положил банку на хранение, теперь хочет взять… Это же не клад, случайно найденный, который по закону нужно сдать государству. Мало ли кто чего в войну прятал.
На нашей улице соседи Хмельницкие, когда уезжали, зарыли в подвале посуду фарфоровую, хрусталь, ножи, вилки большой ценности – старинные. Зарыли кастрюли, сковородки и даже кровать никелированную. В сорок втором, в ноябре, как раз под праздники, попала в их дом бомба – небольшая, кассетная. Немцы такие бомбы, как горох, разбрасывали. Разнесла бомба дом – развалины, в общем, остались. Четыре года на них лопухи и полынь росли. А в сорок седьмом Хмельницкие из эвакуации вернулись. За лопаты – и все выкопали. Самое интересное, что ни фарфор, ни хрусталь в земле не пострадали. Кровать заржавела. А что делать? Сырости у нас много. Весной дожди, осенью дожди, зимой дожди. Снег один раз в пять лет выпадает…
Онисим принес с базара шляпу – велюровую, цвета «кофе с молоком». Я онемел от удивления. Дед Антон цокнул языком и тут же подсказал:
– Дряпа купить надо. Дряпа…
Онисим ответил без улыбки, но и без злости, собрав морщинки у глаз:
– На драп ныне кишка слаба. – Подумал, добавил спокойно: – Драп тоже будет. Обязательно…
– Ты померяй, – посоветовал я. – Брось взгляд в зеркало. Может, у тебя уши торчат.
– То есть как торчат? – забеспокоился Онисим.
– Натурально, – пояснил я. – Уши должны убираться в шляпу.
– Шляпа не шапка, – ответил Онисим и подошел к зеркалу. – Да и уши у меня совсем маленькие.
Зеркало висело над умывальником возле входа. Когда-то это было красивое зеркало, средних размеров, овальное, в деревянной раме с завитушками. Сейчас же, треснутое наискосок с верха до середины, оно наводило грусть рыжиной пятен и матовой мутью, похожей на туман. Лак, когда-то облагораживавший дерево, давно потрескался, в резьбе скопилась грязь, плесень…
Шляпа сделала Онисима неузнаваемым и, конечно, смешным. Нет, она была ему в самый раз и сидела совсем неплохо. Но то, что Онисим был в облезлой стеганке, грязных кирзачах, латаных солдатских галифе, лишь подчеркивало нелепость данного головного убора.
– Может, зазря я потратился? – спросил он неуверенно, умоляя взглядом о возражении.
– Любовь к женщине, как и к отчизне, требует естественных жертв, – высокопарно ответил я.
Дед Антон одобрительно кивнул головой. Сказал:
– Я помню, когдась влюбился, бычка на радостях зарезал. И съел…
– Один? – поинтересовался я.
– Не-е… С хлопцами. Но все равно расходы.
Онисим снял шляпу, повертел ее перед окном на свету.
– Сто шестьдесят целковых стоит, – сказал не без гордости. Облизал губы.
– Ты бы на отрез гроши копил, – посоветовал дед Антон. – С отреза пошить можно и портки, и пиджак…
– Деньги не копить надо, зарабатывать, – веско ответил Онисим. Повесил шляпу на гвоздь, рядом с полотенцем. Посмотрел на нас с дедом: – Между прочим, у меня сегодня день рождения, так считайте, сам себе подарок сделал.
Дед Антон шмыгнул носом, потер ладонь о ладонь. Была у него такая привычка. Напомнил:
– Поставить бы по такому случаю не грех…
– Вам бы все ставить… – Вынул из сумки бутылку белой. – Ладно, пользуйтесь моей сердешностью…
Окно было открыто. С улицы слышалось кудахтанье курицы. Тянуло свежим воздухом. Между корявым стволом груши и оранжевыми кустами смородины светилась паутина. Еще час назад, когда я распахивал раму, паутины не было. На упавших листьях то там, то тут розовели и желтели яблоки, издалека похожие на грибы. На заборе, выгнув спину, сидела кошка, смотрела на дорогу, по которой впряженные в телегу быки тащили воз с камышом…
Глаза Онисима светились. Они не делались от этого красивее, но какой-то таинственный свет шел из них: белый, будто припудренный. Была в нем сухость и даже жестокость и ненасытная жажда простора. Может, через нее, эту жажду, смотрели в распахнутое окно на дорогу, на быков, на телегу поколения степняков-кочевников, далеких предков Онисима, от которых у него только и остались одни глаза.
– Хочется весело отметить день рождения, – тихо сказал Онисим, все еще не видя нас. – Что-то очень хочется. Почему?
– От уважения, – бесхитростно объяснил дед Антон. – Уважительный ты человек, вот и бродит в тебе, как брага, желание учинить в нашем кругу праздник собственного появления в мир божий.
Повернулся Онисим. Света больше не было в его глазах, да и самих глаз тоже не было. Так, щелочки – и все. Сказал:
– Я человек не уважительный, осторожный я, это точно. А уважения ни к себе, ни к людям отродясь не испытывал.
– Думается тебе так, – упорствовал дед Антон, поглядывая на бутылку. – От великой скромности…
– Скромности? – переспросил, а скорее подумал вслух Онисим. – Может быть… Может быть, дед Антон, ты и угадал всю мою сущность. Только вопрос к тебе имею: а на чертовой матери на ентом свете нужна такая штука, как скромность?
– Для тишины, – ответил дед Антон.
Онисим не понял. Он даже повел плечами, похоже, от нетерпения.
– Чтобы птичек слышать, – продолжал дед Антон, – голос речки понимать, с лесом разговаривать…
– У нас в палате один такой лежал, – вспомнил Онисим. – С лесом разговаривал… В психбольницу за эти разговоры его отправили, очень запросто…
– Мои слова широко, обхватисто понимать надо, – обиделся дед Антон, насупив брови.
– Мои тоже, – равнодушно ответил Онисим.
21
Я проснулся среди ночи, словно меня толкнули в бок. Дед Антон легонько похрапывал на печке. Через незанавешенное окно перекинула белую ногу луна, уперлась в самое поддувало. Тикали ходики – суетливо, озабоченно. Под полом скреблись мыши. В глубине дома, где за невысокой из дубовых досок перегородкой спал Онисим, колыхалась дремучая темнота. Она колыхалась, не продвигаясь ни вперед, ни назад, подобно тому, как шагает взвод или рота по команде: «На месте шагом марш!»
Много раз я слышал эту и другие команды в сорок втором и сорок третьем, но больше в сорок втором, когда войска были на каждой улице, в каждом уцелевшем доме. Солдаты шли по четыре в ряд, а справа шел сержант или младший лейтенант. И вдоль улицы, побитых домов и ослепленных окон неслось:
– Раз! Раз, два, три! Рот-а-а!
На горе за нашим домом стояла зенитная батарея. Снаряды и разный провиант до середины улицы подвозили на крепких, выкрашенных в зеленое телегах. Потом разгружали и вьючили лошадей. Мы, мальчишки, помогали солдатам. Они давали нам сухари, крупяные концентраты. Случалось, попадался и какой-нибудь сердобольный молодой солдат, у которого можно было выпросить патрон к ППШ или немного артиллерийского пороха. Порох был разный, но всегда красивый на вид и горел потрясающе.