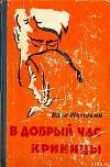Текст книги "Вдруг выпал снег. Год любви"
Автор книги: Юрий Авдеенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
1
Ночью Игорь поднялся с постели, набил поленьями затухающую печь. Поленья долго потом трещали, и отсветы пламени бледными пятнами метались по гостиничным стенам и на потолке.
За окном свирепствовала непогода. Жутковато завывал ветер, швырял в стекло охапки снега.
Игорь давно заметил за собой малоприятную особенность – мучился бессонницей, если приходилось спать не дома. Вообще-то долгое время он считал себя спокойным человеком. С прочной, как хороший канат, нервной системой. И другие считали так, когда он был мальчишкой, а потом курсантом военного училища.
В самом деле, Игорь в золотые годы молодости не знал чувства страха, беспокойства, тревоги. Он любил говорить, что к жизни нужно относиться философски. И в школе и в училище ребята звали его философом.
Влюбился Игорь поздно, в шестидесятом. Было ему уже двадцать семь лет. Она была из Львова. И звали ее Ладой. Поженились быстро, через месяц после знакомства…
А еще через месяц она погибла. Отец ее был известный на Украине инженер-строитель. Зять пришелся ему по душе. И когда часть Игоря отбыла в летние лагеря, Лада с отцом и матерью поехали на воскресенье к нему в гости. В Карпатах у машины почему-то отказали тормоза…
Поседел тогда Игорь, будто снегом запорошило голову…
Не мог вернуться в ту квартиру. Ночевал у друзей. Вот тогда и пожаловала к нему бессонница.
Один хороший врач сказал, что бессонница – следствие нехватки сахара в крови.
– Ты приготовь на ночь баночку с медом или вареньем. Стакан воды. Проснулся, прими ложку-две сладкого. Запей. И спокойно ложись…
Тогда он не послушал совета. Но теперь дома так и поступал… Возить же банку с вареньем в командировки он считал нелепым…
Повернувшись на бок, Игорь вновь увидел печную дверку, за которой уже не бился огонь, а лишь тлели угли, мягким светом своим образуя узкую малиновую рамку.
Крякина в постели не было.
«Видимо, Валентин вышел покурить», – подумал Игорь. И ему вдруг тоже захотелось встать и выйти в коридор. Покурить и потрепаться о чем-нибудь с Крякиным.
Осторожно, не желая разбудить Кутузова, Игорь оделся. Тихо ступая, подошел к печке, положил в нее оставшиеся три полена. Вышел в коридор.
В коридоре горел свет и было теплее, чем в номере, потому что железные печки из каждого номера одним боком выходили в коридор. Игорь решил, что Крякин курит в холле. Но холл был пуст. Свет в него попадал только из коридора.
Поравнявшись с дверью, где висела табличка «Дежурный администратор», Игорь услышал голос фотокорреспондента и еще услышал жизнерадостный женский писк. Игорь остановился, вначале намереваясь постучать в дверь, потом решил, что лучше этого не делать. Он повернулся, собираясь идти к себе, но там, в комнате дежурного администратора, раздался громкий телефонный звонок.
– Да, гостиница! – чистым и красивым голосом ответила женщина. – Одну минуту.
Несколько секунд спустя Игорь вновь услышал голос женщины, теперь уже негромкий, приглушенный. Она говорила Крякину:
– Дежурный по части просит к телефону полковника Кутузова или майора Матвеева.
Игорь без колебаний отворил дверь.
Крякин опешил, даже приоткрыл рот, обнажив ряд крупных золотых зубов. Дежурный администратор не удивилась, не растерялась. Женщина она была очень красивая, не обделенная уверенностью.
Игорь подошел к телефону.
– Майор Матвеев слушает.
– С вашей машиной ничего не получается, – голос дежурного был далекий-далекий. – На дорогах заносы. Как только пурга утихнет, вас доставят в район учений на вертолете. Пожалуйста, из гостиницы не отлучайтесь. Завтрак вам принесут…
2
Денис Васильевич Ерофеенко, прапорщик, старшина роты, очень любил выдумывать рассказы. Может, слово «выдумывать» не совсем точно употреблено здесь, но почти во всех его былях, случаях, происшествиях, которые он когда-нибудь рассказывал своим друзьям, знакомым, солдатам, жене Марии Ивановне, непременно присутствовал элемент выдумки. Он никогда не признавался в том никому, даже жене, говорившей ему при людях с удручающей прямотой:
– И все брешешь же, черт рыжий.
– Ну какая мне с этого корысть? – кричал он ей в ответ. – Что я, за это деньги получаю?
– Нет. Ты художественная самодеятельность. Ты за интерес брешешь.
– Мне бы грамотишки, – огорченно возражал Ерофеенко. – Я бы на тетрадках писал. И все посылал бы в газеты. В газеты…
И представлялось ему, как приходили бы в гарнизон газеты с его рассказами. И все прапорщики и наверняка многие офицеры говорили бы:
– Во дает, Ерофеич.
А он бы, конечно, радовался. Нос бы не задирал, но радовался… Однако судьба отрядила ему только четыре класса образования. Для писания рассказов этого маловато.
– Вот если бы, – говорил он однажды Марии Ивановне, – не писать мне эти истории, а рассказывать в телевизор, как Сергей Сергеевич Смирнов про героев войны… Вот тогда было бы интересно.
– Что же интересного, Денис Васильевич? – удивлялась супруга. – Смирнов про какие подвиги рассказывает? Исключительные!
– Война не состояла из одних исключительных подвигов, – укоризненно напоминал Ерофеенко. – На один исключительный приходилось десять тысяч обыкновенных.
– Согласна я, Денис Васильевич. Согласна я в этом… Но кто тебя на телевизор пустит? Да еще из такого глухого места, про которое на телевизоре и не знают.
– Они должны сообщение объявить. Так и так… Собирают к себе бывалых прапорщиков, которые интересные истории про военную службу могут рассказать. Меня бы командир полка и послал.
– А вдруг не тебя, Денис Васильевич?
– Меня, Машуля, меня. Кого же он еще пошлет? Петр Петрович Матвеев и человек и командир душевный. Поговаривают, в следующем году уйдет в отставку…
– Тебе тоже пора. Помнишь хоть, в каком году мы с тобой познакомились?
Помнит прапорщик, отчего не помнить.
В сороковом году.
Их летний лагерь располагался в семидесяти километрах от зимних квартир. Красивое место до войны было. В сорок третьем Ерофеенко через него на запад наступал. Ничего не осталось, кроме речки. А тогда тут и лесочек был, и березки. И трава зеленая.
Ерофеенко тогда уже два треугольника в петлицы получил. Младшим командиром, сержантом считался.
Бывало, дежуришь по роте. Ночь, словно песня, увлекла и кончилась. Утро тихое, ясное, только росинки поблескивают. Взглянешь на часы: стрелки шесть показывают. Кивнешь дневальному. Он наберет воздуха в легкие побольше и закричит зычным голосом:
– Подъем!
А если голос у него слабый, бывают и такие дневальные, поможешь ему. Потому что команда, да еще первая, должна крылья иметь, как птица.
Повыскакивают из палаток красноармейцы, выстроятся вдоль линейки. А это значит – лагерный день начался. И движется он по распорядку, где учтена каждая секунда.
Но однажды распорядок дня Ерофеенко был нарушен самым неожиданным образом. Вызывает его старшина:
– Вся рота в караул идет, а вы поезжайте в полк, привезите хлеб для столовой. А то у сержанта, который хлеб возил, приступ аппендицита случился.
Ерофеенко поехал…
У одного мосточка остановились: стадо навстречу шло. Девчата, доярки, Ерофеенко и шофера комплиментами, как цветами, засыпали. Шофер, парнишка совсем молодой, розовым сделался, словно малина. Ерофеенко отвечал, и не без успеха. Одна, такая быстроглазая, в пестрой косыночке, прямо заявила:
– Острить ты мастер, а танцевать – не знаю. Приходи к нам в клуб, покружимся!
Хотел ей что-нибудь запоминающееся ответить, но шофер дал газ. И оставили они хохотушек. Правда, просигналили им на прощание.
– Бывайте здоровы! Нам некогда! Едут дальше.
Вдруг шофер говорит:
– Не нравится мне, товарищ сержант, вон та тучка.
– Где же тучка? – возражает Ерофеенко. – Это облако, на барана похожее.
– Нет, – говорит, – я в степи родился, эти фокусы знаю. Быть грозе.
– Типун тебе на язык. Этого еще не хватало.
А шофер свое:
– Конечно, начальству виднее, но только гроза будет.
И верно.
Приехали на зимние квартиры. Погрузили хлеб. Смотрят на небо, а оно хмурое-хмурое. И тишина кругом тягучая, предгрозовая. Подсолнухи головы попрятали.
Вышел старшина-сверхсрочник, в тяжелом весе мужчина. Покрутил ус, сказал:
– Знатная гроза будет.
А Ерофеенко ему:
– Барометр смотрели?
– Какой там барометр! – говорит. – У меня свой барометр. На грозу суставы ломит.
Организм, он, конечно, не железка. Нервами чувствует. И тут, правда, как сверкнет молния, как ударит гром! И полил дождь. Льет, льет и кончать не думает.
А ручьи! Наперегонки спешат. И все к дороге. А дорога уже речкой стала, прямо судоходство открывай.
– Н-да, – говорит старшина, – не повезло вам. До ночи просидите. А как добираться будете, не ведаю. Поразмывало небось дороги.
И представьте себе, как в воду глядел. Ночь захватила их в дороге. Ехали тихо. Небо-то в тучах. Тьма-тьмущая. Дорога вся в ямах, словно черти на ней горох молотили. С ветерком не разгонишься. Шофер ворчит да баранку крутит.
Ехали так час. А может, больше. Вдруг – стоп! Остановка. И снова на том месте, где с девчатами разговаривали. Мосточек там раньше был, а теперь нет: уплыл мосточек. Одни сваи, как сиротинки, стоят. Что будешь делать?
Ситуация. Сидят Ерофеенко с шофером, затылки чешут. А время идет. Наконец шофер проявляет инициативу и держит речь:
– Я так считаю, товарищ сержант, что хлеб – это те же боеприпасы. Повернем в колхоз, попросим помощи? К завтраку, хоть разбейся, хлеб доставить нужно.
– Поворачивай, – ответил Ерофеенко. – Колхозники – свои люди.
Приезжают в колхоз. Луна из-за туч выглянула, улыбается, шалунья, да крыши серебрит. На улицах ни души. Собаки брешут, аж собственного голоса не слышно. Время – третий час ночи. Рассвет скоро… Стучатся в первую хату. Открывает дед в нижнем белье. Только вышел на порог, шофер как ударит его светом. Дед назад. Не понял спросонья, что это фары автомобильные. Закрыл на задвижку дверь и голоса не подает.
Ерофеенко шоферу:
– Выключи! Обалдел, что ли?
А он в ответ:
– Сами они включились. Замыкает где-то. Ерофеенко к деду:
– Отец, родной, выйди, а то от псов нет мочи отбиваться.
– А кто вы такие? – спрашивает.
– Красноармейцы.
Вышел дед.
– Чего вы испугались?
– Я, – говорит, – не испугался. Я думал, что начальство из района приехало, а потому портки надевать ходил.
Рассказали они тогда деду про беду.
– Ответственное дело у вас, ребятки, – говорит дед. – Хлеб, он как воздух всем нужен. А если прямо сказать, то хлеб – это жизнь. Ладно, возьмите мою лодку. Погрузите в нее хлеба столько, чтобы на завтрак хватило. И по течению. С рассветом у лагеря будете. А объехать здесь негде. Наш мост самый крепкий был…
– Хорошо, – согласился Ерофеенко.
И приказал шоферу остаться здесь, доглядывать за остатком хлеба и машиной. А сам нагрузил лодку и собрался отчаливать. Тогда дед вдруг говорит:
– Знаешь, сынок, чтобы не застрял ты в речке, она у нас хитромудрая, дам я тебе в провожатые свою внучку.
Душевный, в общем, человек оказался. Кликает:
– Машуля!
Прибегает девушка. Та самая, хорошенькая, на язык бойкая, которую они с шофером видели. Узнала.
– Ах, – говорит, – старый знакомый. Только не знаю вот, как зовут.
Брякнул тогда он:
– Денис Васильевич.
По молодости брякнул, по глупости. Загордился, наверное, сержантским званием.
Но с тех пор вот уже тридцать лет она его так и зовет.
3
Заметка из окружной газеты:
«Маскировка оборонительных позиций
Мотострелковый батальон занял оборонительные позиции на танкоопасном направлении. Время на проведение инженерных мероприятий было крайне ограничено, поэтому в помощь обороняющимся старший начальник выделил взвод под командованием лейтенанта Березкина. Воины образцово, с высоким качеством замаскировали командный пункт батальона, опорные пункты рот и взводов, артиллерийские позиции.
Перешедший в атаку «противник» начертания переднего края, систему огня обороняющихся выявил лишь тогда, когда попал под эффективный огонь с близких дистанций. Понеся ощутимые потери, «противник» был вынужден отступить».
4
У больного были все признаки перитонита, инфекционного, острого. И Жанна удивилась терпению человека, не вызвавшего «Скорую», а добравшегося до поликлиники своим ходом. Такой тщедушный, невысокого роста мужчина. С узким небритым подбородком.
– Вы полежите, – сказала Жанна как можно добрее, – я вернусь через минуту.
В коридоре возле ее кабинета сидела на стуле девушка. Блондинка. С длинными, спадающими на плечи волосами. Она была в брюках, из-под которых выглядывали туфли на высокой платформе, и в голубом свитере. Девушка пристально посмотрела на Жанну. Шагая по коридору, отделанному пластиком, из-за чего шаги каждого были слышны, как на солдатском параде, Жанна чувствовала, что девушка глядит ей вслед.
Борис Абрамович Вайнштейн был в кабинете один. Жанна сказала, что у нее больной с острым перитонитом, его нужно госпитализировать немедленно и на носилках.
– Вы уверены, что у него перитонит? – осторожно спросил Борис Абрамович, имевший сегодня вид усталый, измученный. Такое всегда случалось с ним после бурных ночных объяснений с ревнивой супругой.
– Да, – сказала Жанна.
– А что, если у него острая кишечная непроходимость, панкреатит или колик печеночный, почечный?
– Упорная икота. Язык сухой, обложен коричнево-черным налетом… Я думаю, это перитонит.
– Хорошо, – сказал Борис Абрамович, – проводите меня к больному.
Он вышел из-за стола, семенящей походкой направился к двери, худой, подвижный, похожий на кузнечика. Его курчавая голова, лысеющая на затылке, была словно присыпана пеплом. Идя впереди Жанны, он также обратил внимание на девушку в голубом свитере. Даже не обратил, а засмотрелся, потому что прошел мимо терапевтического кабинета, и Жанне пришлось окликнуть его:
– Борис Абрамович!
– Ах да, – махнул он рукой и повернул обратно.
…Осмотрев больного, Борис Абрамович согласился с диагнозом Луниной. Машина Кудлатого оказалась на месте. Больного, решительно отказавшегося воспользоваться носилками, осторожно повели к «Скорой помощи», и Кудлатый в сопровождении медсестры повез его в больницу.
Возвратившись в кабинет, Жанна спросила девушку в голубом свитере:
– Вы ко мне?
– Да, – кивнула девушка.
– Проходите.
Девушка неторопливо встала и несколько церемонно прошла в кабинет. Жанна, бросив взгляд на стол, где лежали медицинские карты больных, спросила привычно:
– Ваша фамилия?
Девушка молчала. Откровенно разглядывала Жанну, как разглядывают в музее скульптуру, пытаясь постигнуть замысел творца.
– Назовите, пожалуйста, свою фамилию? – мягко попросила Жанна. – И садитесь, пожалуйста.
Девушка села. Закинула ногу на ногу. Откинувшись на спинку стула, сказала:
– Меня зовут Лиля. Я дочь полковника Матвеева.
– Что с ним случилось? – терпеливо и участливо, как подобает врачу, сказала Жанна, но сказала так, словно никогда в жизни не слышала о полковнике Матвееве.
– Я пришла посмотреть на вас, – твердо ответила Лиля, потому что была уверена: в маленькой районной поликлинике не может быть двух врачей-терапевтов с одинаковыми именами и фамилиями.
– Ну и как? – спросила Жанна.
– Ничего…
– А вы совсем не похожи на него.
– Я похожа на мать.
– Ваша мать была красавицей.
– Она и сейчас неплохо выглядит… Гимнастика, массажи, косметика, диета…
– Секреты нехитрые, если есть что беречь.
– Я тоже так думаю, – согласилась Лиля. И сказала: – Мне хочется закурить.
– Здесь нельзя, – Жанна посмотрела на часы. – Но я уже окончила прием. И мы можем пойти пообедать в столовую. Но сначала зайдем ко мне домой. У меня есть немного спирту. Я думаю, граммов по тридцать за здоровье…
На коричневом одеяле с белыми разводами лежал луч солнца. Так могла лежать кошка, прижавшись к подушке, мурлыча и подремывая. Между солнцем и окном искрилась зелеными иголками сосна. Солнце прорывалось между ветками, падало на кровать Жанны веселым желтым клубком.
Где-то рядом работал бульдозер. Гул его мотора проникал в комнату. Это было еще хуже, чем пылесос в коридоре. Жанна даже выглянула в окно, однако ничего, кроме снега и грязной дороги, не увидела. Повернулась, предложила:
– Курите.
– Спасибо, – сказала Лиля. – Только не говорите отцу. Отец старомоден в этом вопросе.
– Он не вернулся еще с учений?
– Нет.
– Погода их не балует, – Жанна вынула из тумбочки пузырек со спиртом. – С водой, без воды?
Лиля пожала плечами.
– Вы когда-нибудь пили спирт? – спросила Жанна.
– Нет, – призналась Лиля и покраснела. Конечно, не от смущения. Она покраснела с досады. Эта женщина, которая была старше Лили всего лишь на шесть-семь лет, вела себя с ней как учительница с ученицей. Причем с ученицей посредственной, небрежно подготовившей урок.
– Тогда с водой, – сказала Жанна. И потянулась к графину.
– Лучше без воды, – заявила Лиля.
– Да? – В голосе Жанны было сомнение.
– Я хочу попробовать…
– Хорошо, – согласилась Жанна. В ее ответе Лиле послышалось такое безразличие, что захотелось встать и уйти.
«Она эгоистка, эта тетенька, – подумала Лиля. – Хотя почему бы ей не быть эгоисткой? Одинокой, живущей для себя. Разве я бы на ее месте была другой? Мне бы понравился вот такой визит дочери мужчины, который проявляет ко мне интерес? Как бы я вела себя? Как бы смотрела, говорила? Наверное, точно так же».
От этой мысли Лиле сделалось легче. Она улыбнулась. И Жанна улыбнулась ей. Сказала:
– Глотнешь, не дыши. Сразу запивай водой.
Получилось. Лиля не верила, что у нее получится. Но все вышло как нельзя лучше. И она была горда собой оттого, что не поперхнулась, не задохнулась, а только моргала длинными ресницами. И не просто длинными, но и густыми. Таких ресниц у этой врачихи не было и в шестнадцать лет. А сейчас у нее ресничка от реснички как телеграфные столбы на дороге.
«Девочка с характером, – думала о ней Жанна. – Капризная, избалованная. Понимает, что молода и красива. Выросла в достатке. Самоуверенная…»
– Вы учитесь? – спросила она Лилю.
– Нет, я тунеядка. – Ответ получился чистосердечным и веселым.
– Прекрасно, – сказала Жанна. – А мне не повезло. Я поступила сразу. Так что моя трудовая жизнь началась с семи лет. В школе как манну с неба ждала каникулы. Теперь отпуск…
– А я жду следующую осень, чтобы поступать вновь…
– Нужно стаж трудовой зарабатывать.
– Где? Я живу в гарнизоне.
– Хотите, я устрою вас в поликлинику? В регистратуру.
– Больничные карты разносить?
– Ага. Между прочим, не самая плохая должность.
– Я понимаю. Только очень далеко. Сорок минут автобусом. Да и ходит он всего четыре раза в день, если не сломается.
– Будете жить здесь. В этой комнате. Поставим вторую койку. Договорились?
– Я подумаю, – сказала Лиля. Она чувствовала легкость в теле, легкое головокружение. Чувствовала, что Жанна хочет с ней подружиться. И это нравилось Лиле. Она улыбнулась…
– Я попрошу Вайнштейна, – не отступала Жанна. – И он пробьет это дело. Ты произвела на него впечатление. Он даже мимо кабинета промахнулся, засмотревшись на тебя.
– Я подумаю… – повторила Лиля. – Я приехала сюда не за этим.
– Зачем же ты сюда приехала?
– Выяснить, кто ты такая. И вообще… – Лиля подыскивала слова. Долго.
Жанна не вытерпела:
– Что «вообще»?
– Ему сколько лет, а тебе сколько… – Лиля неопределенно развела руками, будто признаваясь в том, что нужного слова так и не нашла.
– Все ясно, – сказала Жанна. И добавила: – Что тебе ничего не ясно. Ты много раз влюблялась?
– Нет. Но случалось.
– В своих ровесников или на год-два старше?
– Примерно.
– Тогда слушай. – Жанна закурила, подвинула пачку с сигаретами Лиле. – У меня на этот счет такая теория. Жизнь состоит из нескольких полос. Полосы детства, юности, молодости, зрелости, старости… Именно внутри этих полос мы, как правило, ищем и не находим себе друзей. Я и Петр Петрович находимся сейчас на одной полосе. Это четвертая полоса. Полоса зрелости. Мы в разных концах этой полосы. Но полоса у нас одна. Поэтому возраст в данной ситуации не может быть предметом разговора. Как и в твоей полосе, Лиля, в нашей тоже важны чувства, совместимость характеров, взаимопонимание… И всякое другое. Я не знаю. Я не готова к этому разговору… Тем более что мы и встречались с ним всего три раза…
– Но по телефону разговаривали восемь.
– Да. Я звонила ему. Сама. Я звонила домой… Потому что, Лиля, твой отец болен. У него усталое сердце. Мне не нравится… Мне не нравится его нижнее давление.
– Тогда лечи.
– Ему нужен хороший отдых. Хороший отдых и совсем немного лечения. Медицина – она ведь палка тоже о двух концах.
– Отдых, – горько усмехнулась Лиля, покачала головой. – Ты представляешь, что такое гарнизон? Это махина. С сотнями задач и проблем. Поставь во главе электронную машину, и у той через день будут лететь предохранители.
5
От военторга дорога примерно с километр шла полем, не очень широким, но все-таки достаточно просторным, чтобы жители гарнизона могли сажать картошку. Поле лежало под снегом. Снег сейчас даже нельзя сказать что падал, скорее моросил, словно мелкий осенний дождь.
Софья Романовна Матвеева недовольно морщила лоб. Прикосновение мокрого снега к коже было неприятно, снежинки словно покусывали. Сосны и ели стояли приведенные, обындевелые, ветер покачивал их, и пласты снега срывались, сыпались белым водопадом, с шуршанием ложились на землю.
Гарнизон казался вымершим. Так бывало всегда в большие учения. Но Софья Романовна слишком долго жила в гарнизонах, чтобы поддаться первому впечатлению. Над трубами домов поднимался дым. Женщины готовили еду, стирали, занимались уборкой, заботились о детях. Многие ребятишки ездили на автобусе в школу.
В военторге очередь была не меньше обычной. Конечно, все и всегда охотно и вполне искренне предлагали Софье Романовне сделать покупки вне очереди. Но у старой женщины были свои строгие принципы, поэтому жены заместителя командира полка и начальника штаба не любили попадать в магазин вместе с Софьей Романовной. Сделать это было нетрудно: все три семьи жили в одном доме.
Придя в магазин, Софья Романовна становилась в очередь последней, охотно вступала в разговоры на самые различные темы, давала советы, приносившие несомненную пользу женам молодых офицеров, приехавших из столичных и малых городов.
Этим женщинам, избалованным городскими благами, небо здесь казалось в овчинку, а жизнь просто погубленной. Они не знали послевоенных гарнизонов, где жить подчас приходилось в землянках, а спать на нарах, где, естественно, не было телевизора и даже радиоприемника, потому что отсутствовало электричество. Транзисторы люди придумали несколько позже.
Впрочем, Софья Романовна понимала, что этим девчонкам, родившимся после войны, выпало иное детство, иная юность, иная молодость, что сравнивать поколение с поколением следует крайне осторожно, а может, не надо этого делать вообще.
Сегодня в магазине повстречала она Майю Соколову. Муж ее Любомир – парень с золотыми руками. И плотник и столяр. Такие люди в гарнизоне на вес золота. Майя – метеоролог. Сутки дежурит, двое дома. Хозяйственная.
Все эти сведения моментально всплыли в памяти Софьи Романовны, как только она увидела лицо Майи, грустное, печальное и даже заметно постаревшее.
– Случилось что? – спросила она тихо и заботливо.
– Спасибо, ничего, Софья Романовна. – Видно было, что Майя ответила неискренне.
– Говори правду, дочка. Так всегда легче.
– Я думала, наоборот.
Софья Романовна укоризненно улыбнулась, возле губ обозначились морщины.
– Не наговаривай, Майя, на себя. Ты совсем другая.
– Не знаю…
– Со стороны виднее.
– Правда, есть такая пословица… Только неверная она. Как можно узнать человека со стороны? У человека внутри столько всякого, что никто и не догадается.
– Глупые не догадаются, – наставительно, без тени раздражения сказала Софья Романовна. – Умный поймет. – Потом спросила после небольшой паузы: – Поругались с Любомиром?
– Ничего не поругались, – насупившись и сдвинув брови, ответила Майя. – С ним поругаться невозможно. Просто решила я уехать отсюда.
– Просто такие решения не принимают.
– Я приняла. Я нигде не пропаду. У меня специальность. Детей нет. И лицо не самое худшее на белом свете. Мальчишки из-за меня еще в седьмом классе драться начали.
– Так то в седьмом, – как бы вскользь заметила Софья Романовна.
Майя не смутилась:
– А сейчас мне драчунов и не надо. Мне надо, чтобы надежный парень был. И сильный. Чтобы мог постоять за свое. И взять, что ему положено.
– Выходит, Любомир ненадежный. – Софья Романовна пристально, словно испытывая взглядом, посмотрела в большие и темные глаза Майи. – Парень – умелец. Мастер своего дела. Ты же знала, что он не офицер, не инженер, зачем же шла за него замуж?
– Я не за офицера, не инженера. За человека… Я не за специальность замуж выходила. А по любви…
Последние слова Майя почти выкрикнула. И хотя разговор происходил не у прилавка, а возле нераспакованных ящиков с велосипедами, слова Майи, видимо, услышали в очереди, и несколько женщин обернулись.
Софья Романовна прикоснулась рукой к плечу Соколовой, жестом просила ее успокоиться.
Майя с минуту молчала, покусывая губы. Потом сказала с отчаянной решимостью:
– Нельзя же все время, и все старания, и все усилия отдавать только другим. И никогда от них ничего не требовать. Зачем такой муж, если мне поспать с ним негде? Четырнадцать метров на троих взрослых людей – это для могилы хорошо. А любить жене мужа и наоборот в такой комнате ой как трудно.
– Значит, все дело в квартире? – разочарованно произнесла Софья Романовна. И сделала это, конечно, зря.
– Извините, но вы ничего не поняли, – резко и зло возразила Майя. – Если бы дело заключалось только в квартире, то я давно бы нашла себе мужа в городе с трехкомнатной квартирой. И он бы бегал за мной по этим комнатам, как на стадионе, прежде чем положить в постель.
Майя прикрыла рукой глаза, затем провела ладонью по лицу, тяжело вздохнула:
– Вся глупость заключается в том, что я люблю Любомира. Ни за что люблю. Ни за что.
– Что-то, значит, есть, – тихо ответила Софья Романовна. Она чувствовала себя очень усталой.
Поле кончилось. Дорога резко повернула вправо и оказалась будто в туннеле: такими высокими были здесь сосны, а ниже сугробы на обочинах. Ветру тут негде было разгуляться, и снежинки не секли больше щеки. Стало легче дышать.
Впереди по дороге кто-то приближался на лыжах. Шел широко, мерно отталкиваясь палками. Зрение у Софьи Романовны было совсем не то, что в молодые годы. И она узнала лыжника только тогда, когда он, подняв над головой палки, приветствовал ее:
– Добрый день, Софья Романовна!
– Как же тебе не стыдно, Прокопыч. Все люди на учениях, а ты на лыжах разгуливаешь с нарушением формы одежды.
Прокопыч был в красном свитере, в спортивных синих брюках, в шерстяной шапочке с козырьком. Он улыбался и глубоко дышал.
– Что поделаешь, Софья Романовна, свою гауптвахту я на учении взять не могу. Вот если провинится кто там, всегда пожалуйста. Я у вас был, контрольную с Лилей делал.
Прокопыч приподнял немного свитер. За поясом брюк оказались тетрадь и какой-то учебник. По настоянию полковника Матвеева прапорщик Селезнев Григорий Прокопович учился в заочном строительном техникуме. Учился с ленцой, бесконечно откладывая сдачу контрольных работ, вымаливая в штабе письма, что он, прапорщик Селезнев, не может вовремя сдать контрольную работу по причинам, связанным с несением службы.
– По какому предмету контрольная? – спросила Софья Романовна.
– Физика.
– Ну смотри, молодец! Как говорится, с божьей помощью осилил.
Прокопыч засмеялся:
– С божьей или нет… А с помощью Лили точно. Она сейчас на примерку к Марии Ивановне Ерофеенко собирается. Потом пойдет в клуб на репетицию.
– Это все хорошо, – строго сказала Софья Романовна. – Только ты мне язык не заговаривай…
– Я нет. Я ничего… – смутился Прокопыч.
– У меня разговор серьезный есть. Доложи, дружок, как твои дела с Маринкой.
Прокопыч смутился пуще прежнего. Пробурчал:
– Дела как дела.
– Это не ответ.
– Я понимаю, Софья Романовна. Но какой из меня муж? Староват я ей в мужья… К тому же еще и учеба.
– Постыдился бы, Прокопыч!
– Я честное слово говорю…
– Ладно, – Софья Романовна поджала губы, – разговор этот не для улицы. Ужинать приходи.
– Хорошо. – Прокопыч вздохнул обреченно.
Ледок задиристо потрескивал под каблуками. И Лиле нравилось наступать на него, скользить, если, конечно, скольжение получалось, потому что дорога была изъезжена машинами и мороз сковал ее как была – ребристой, ухабистой. Однако тут и там попадались колдобины, заполненные в дожди водой и блестевшие теперь ровными матовыми проплешинами. Лиля радовалась им, как ребенок игрушкам.
Солнце набухало в далекой дымке. Его не было еще полчаса назад. Слева от дороги, что шла в Каретное, серел мелкий осиновый лес. Только чуть поодаль, за солдатской столовой, тянулись к небу высокие сосны, темные и золотистые, заслоняя собой полковой стадион, длинные скамейки вокруг поля и, конечно, дорогу.
Полковой клуб давным-давно, когда-то обосновался в старой финской кирке; далеко отовсюду в гарнизоне виден был цинковый купол, внушительный, солидный и никак не соответствующий затрапезной простоте деревянного сруба под ним на фундаменте из грубо обтесанного гранита.
Строевой плац для занятий, начинавшийся сразу за стадионом, был пуст, как всегда во время учений, и это тоже являлось характерной приметой гарнизонной жизни: обычным днем в эти дообеденные учебные часы плац бывал многолюден, как железнодорожный вокзал.
Миновав магазин военторга, возле которого с ней поздоровались пять или шесть женщин, знакомых ей только в лицо, Лиля вышла на узкую дорогу, упиравшуюся прямо в клуб, где над входом висело красное полотнище со словами: «Добро пожаловать!»
У ступенек, с которых розовощекий солдат без шинели и шапки сметал снег, стояли начальник клуба Сосновский и его жена Ольга, очень хорошенькая маленькая и хрупкая женщина, совершенно помешанная на любовниках, как правило, воображаемых, но совершенно необходимых, по ее представлениям, для ощущения полноты жизни. А полнота жизни, или комплекс полноценности, как она выражалась, была для нее то же, что артистизм, из слагаемых которого талант казался ей не самым главным.
Она увидела Лилю. И подняла руку, приветствуя ее чуточку кокетливо просто потому, что не могла иначе.
– Нет худа без добра, – сказал Сосновский и тоже улыбнулся. – Случись экзаменаторы во ВГИКе более проницательными, кто бы украсил наш праздничный концерт.
– Не будь эгоистом, Вадим, – ответила Лиля. И поцеловалась с Ольгой.
– Эгоизм – это как наследственность, – заявила Ольга. – От него не вылечишься.
– Видишь, Лиля, Ольга в своем репертуаре. – По смуглому, не очень тщательно выбритому лицу Сосновского вдруг рассыпались морщинки, и весь он сделался грустным, словно готовым расплакаться.