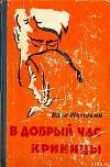Текст книги "Вдруг выпал снег. Год любви"
Автор книги: Юрий Авдеенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц)
– Терпение… Терпение… Терпение…
Я кивнул Майе Захаровне.
– А батя как? Совсем? – Она повертела пальцем возле виска.
– Периодами.
– Тогда жить можно, – сказала Майя Захаровна.
– Если с передыхом, то можно.
Она перегнулась через стойку, зашептала доверительно:
– Здесь на днях Заикин приходил. «Хванчкары» ему захотелось. Я и говорю: «Что же ты, любитель тонких вин, натворил? Человеку незапятнанную биографию испортил?» А он переминается с ноги на ногу, точно в туалет приспичило. И говорит мне, слышишь, мне говорит: «Торговля – это такое дело. За ней всякое случается». Это он говорит мне. Он знает, что такое торговля. А я не знаю.
За стеной на привокзальной площади хрюкнул репродуктор, потом пискляво заголосил:
– Поезд Краснодар – Адлер вышел с соседней станции и прибывает на второй путь.
– Сейчас начнется, – вздохнула Майя Захаровна. Спросила: – Шакун нем, как могила?
– Да.
– Корнилыч! – позвала Майя Захаровна.
Усатый дядька стукнул ребром ладони и, кинув на нее сердитый взгляд, сказал:
– Терпение!
– Заладил, словно попугай, одно и то же, – недовольно возразила Майя Захаровна. – Дело к тебе есть. Возьми парня на завод в ученики.
Усатый остановил на мне свои глубокие черные глаза. Спросил:
– Этот, что ли?
– Антоном его зовут.
– А кто он такой будет?
– Шуры Сорокиной сын. Продавщицы из второго магазина, которую посадили…
– Хороший человек была Шура, – мрачно сказал Корнилыч.
– Почему «была»? – спросил один из его друзей, горбоносый.
– Была человек, а теперча зэк.
– Перебрал ты, Корнилыч, – улыбнулась Майя Захаровна. Хорошо, Корнилыч не понял, что означала ее улыбка.
– Я никогда не перебираю, – сказал он с усилием. – Приходи, Антон, в понедельник. Без пяти семь. К проходной судоремонтного.
25
– Что это такое? – спросил Корнилыч, хитро прищурив правый глаз и напрягшись, словно для прыжка.
– Зубило, – спокойно ответил я.
Мы стояли возле длинного верстака, тянувшегося с одного края цеха в другой узкой дорогой, на которой тиски возвышались, как пирамиды.
– Так, – крякнул Корнилыч. – Ну а этот предмет какое название имеет?
Он подбросил на ладони железку, в общем-то похожую на зубило, однако имеющую более усложненную, изысканную форму.
Я пожал плечами.
– Это крейцмейсель. Повтори, – назидательно сказал Корнилыч.
– Крейцмейсель.
– Вот и хорошо… – Корнилыч удовлетворенно кивнул. Распахнул полы халата, вынул из заднего кармана бумажник, широкий и потертый. В бумажнике в особом отделении оказалась фотография, на которой был снят Корнилыч молодым еще человеком, в черном халате, с молотком и крейцмейселем в руке. – Тысяча девятьсот пятнадцатый год. Восемнадцать лет мне тогда было. Как тебе сейчас.
– Мне восемнадцать только через шесть месяцев будет, – возразил я.
Но Корнилыч пропустил реплику мимо ушей. Скрежет обрабатываемого металла, грохот портального крана, шум машин, снующих по территории завода, – не мудрено не услышать моих слов, тем более что говорил я негромко.
Конечно, не мудрено. Но скорее всего не зубила и напильники, не моторы и дрели были тому причиной… Посветлели глаза у Корнилыча, помолодели. Вспомнил он что-то такое хорошее.
Вспомнил и вздохнул.
Прошла минута, никак не меньше. Корнилыч тряхнул головой, повел непонимающими глазами, словно его внезапно разбудили. Увидел меня, шмыгнул носом.
– Так вот, зубило и крейцмейсель, – он аккуратно вложил фотографию в бумажник, – считаются режущими инструментами. Первый помощник в их работе – слесарный молоток. С помощью этой дружной троицы можно выполнить по крайней мере десять операций. Скажем, удалить излишки металла с поверхности заготовки, удалить твердую корку и окалину, обрубить кромки и заусеницы на кованых и литых заготовках, разрубить на части листовой материал. Можно при умении и старании произвести выравнивание кромок встык под сварку. Срубить головки заклепок, сделать смазочные канавки, шпоночные пазы… Стань, Антон, прямо. Вполоборота к тискам. Левую ногу чуть подай вперед, на полшага, правую назад. Ступни разверни, чтобы угол получился. Зубило держи без лишнего нажима, спокойно. Запомни нехитрое правило – во время рубки слесарь смотрит не на ударную часть зубила, а на рабочую. Баянист, он на басах втемную играет. Так и слесарь лупит по ударне молотком вслепую… Ударь! Нет, Антон. Так только посылки на почте заколачивают. А слесарь – он и молотком стучит по науке. Удары при рубке бывают кистевые, локтевые, плечевые. Давай отработаем удар с кистевым замахом…
Это же надо! Кто мог подумать, что удары молотком такие мудреные.
Паша Найдин невозмутимо сказал:
– Чему удивляться? В каждой профессии свои тайны.
26
– «Я искал утешение в изящной словесности; я нахожу в ней лишь сугубую причину для уныния…» Это Вольтер. – Станислав Любомирович шел быстрым шагом, опираясь на толстую ореховую палку. Ветер развевал полы его длинного плаща, выгоревшего и потому имевшего странный рыже-фиолетовый цвет. На плаще не было ни одной пуговицы, и ветер, врываясь под мышки, надувал плащ, как паруса. – Представляете, Антон, наша заведующая учебной частью Ирина Ивановна по внешним данным весьма импозантная женщина, однако чрезвычайно невежественная, путающая стоицизм со стойкостью. Вернее, не путающая, а отождествляющая. Трудно поверить, но, когда я тет-а-тет разъяснил Ирине Ивановне, что стоицизм – философское течение, основанное греком Зеноном в четвертом веке до нашей эры, подхваченное позднее в Риме Сенекой, Эпиктетом, Марком Аврелием, наша замечательная заведующая сузила свои красивые кошачьи глазки и сказала, что не потерпит в школе буржуазной пропаганды.
Дождя еще не было, но тучи надвигались быстро. Казалось, вершины гор спешат им навстречу, вверх и к югу. Пыль волнами вздымалась над улицей. Деревья качали ветками и шумели.
Возле ларьков стояли небольшие очереди. Из магазинов выходили люди с авоськами, полными продуктов. Чувствовалось, наступил конец рабочего дня. И если бы не тучи, солнце сейчас висело бы над самым горизонтом, розовое и большое.
– Сегодня же Ирина Ивановна устроила мне настоящую проработку. Пригласила к себе в кабинет. Спросила ледяным тоном, на каком основании я вспомнил на уроке про Вольтера. Разве Вольтер был великим путешественником? Или имя его есть в школьной программе? Я объяснил, что учащиеся задали вопрос, какого я мнения о современной литературе. Я позволил себе сослаться на Вольтера. В ответ Ирина Ивановна сжала кулачки и сказала, что я вообще очень много себе позволяю…
– Может, вам лучше уйти в другую школу, – предложил я.
– Вакансия есть только в железнодорожной. Им нужен историк в седьмые классы. Я бы смог вести историю. Но железнодорожная школа далеко, особенно зимой и осенью, когда дожди. С моей хронической простудой…
– Решать надо сейчас, пока сентябрь. К октябрю гороно кого-нибудь пришлет.
– Вполне возможно… – Он закашлял, прикрывая рот скомканным платком. Потом спросил: – Как ваши успехи на службе, Антон?
– Моя служба как дважды два… Напильники бывают плоские, квадратные, трехгранные, полукруглые, круглые, ромбические. Скоро буду сдавать на разряд.
Когда мы стали подниматься в гору, застучал дождь. Дружно, крупными каплями. Глина вдруг стала желтеть, словно выглянуло солнце. Подошвы скользили, как лыжи. Впрочем, я никогда не ходил на лыжах, потому что снег в наших краях редкий гость: один раз в три-четыре года. У нас свой парень – дождь: осенью, зимой, весной. Да и летом. С ним не соскучишься.
Я простился с Домбровским возле его калитки. Сам же бегом поднялся по улице метров на тридцать выше. Шмыгнул в наш двор, под защиту крыши из виноградных листьев, густых и широких, удобно устроившихся на рейках, перекинутых от столба к столбу.
Отец сидел у окна. Голова завязана белым полотенцем. Он посмотрел на меня тоскливым, нелюбопытным взглядом, не спросил ничего. Повернул голову к мокрому окну, из которого была видна соседняя гора, чуть ниже нашей. И домики на этой горе были как островки среди моря зеленых кустарников.
Я сказал:
– Домбровскому совсем худо.
– Возьми мой плащ, сбегай за неотложкой, – хмуро проговорил отец, продолжая смотреть в окно.
Дождь усилился. Лил с грохотом, треском. Вода извивалась между выступившими из глины красивыми камнями: темными, зелеными и даже розово-бежевыми. Тряхнула кудрями молния – рыжими, длинными – от горы до горы. Через шесть секунд зарычал гром. Шесть секунд – это шесть километров. Я всегда боялся грома и молнии – больше, чем бомбежек. Потому и считал секунды: близко ударила молния или далеко.
– Я не в том смысле. Станиславу Любомировичу плохо в переносном смысле.
– Пора научиться говорить, – отец строго посмотрел на меня. – Речь должна быть краткой и ясной. Как команда.
– Товарищ капитан, – я приложил руку к непокрытой голове, хотя хорошо знал, что в армии так не бывает, – учителя Домбровского несправедливо обижает заведующая учебной частью Ирина Ивановна Горик.
– Ладно. Я поговорю с ней, – вяло ответил отец. Он теперь вновь глядел на размытую гору сквозь стекло, по которому сплошным потоком лилась вода.
Возможно, по этой причине я не придал его словам значения. И зря!
27
Вопросов мне продиктовали три. Первый – рассказать о правилах эксплуатации напильника.
Правила так правила. За теорию я не очень боялся.
– Новый напильник, как правило, имеет острые зубья…
– Почему «как правило»? – спросил главный инженер, спортивного вида мужчина, возглавлявший аттестационную комиссию.
– Новый напильник имеет острые зубья, – не растерялся я. – Поэтому в начале работы этим напильником нужно обрабатывать мягкие материалы. Такие, как латунь, бронза. А уж потом, когда острая часть зубьев немного притупится, следует переходить на работу с более твердыми материалами.
Корнилыч, сидевший прямо под стенной газетой «Судоремонтник», одобрительно кивнул.
– Чугунные детали, имеющие корку, или поковки с окалиной обрубить или опилить напильником и только после этого обрабатывать новым. То же самое правило распространяется и на поверхности, загрязненные смазочными маслами, жирами и смолами.
– Хорошо, – сказал главный инженер. – А как вы будете опиливать узкие заготовки?
– Для предохранения зубьев от выкрашивания при опиливании узких заготовок нельзя применять напильник с крупным шагом; кроме того, необходимо надежно закрепить заготовку в тисках. Нельзя употреблять личные и бархатные напильники для опиливания мягких металлов, так как стружка быстро забивает впадины между зубьями и снижает режущую способность напильника.
…Потом меня спросили, для чего применяются спиральные сверла с цилиндрическим хвостиком, что такое плоскостная разметка по шаблонам… Оценили мою практическую работу – полукруглую скобу из полосовой стали. Быстро, словно боясь, что меня перебьют, я рассказал, как делал эту скобу. Вначале разбил на отдельные участки и подсчитал их размеры с учетом припуска на изгиб и припиловку. Потом отмерил на полосе длину скобы и отрубил заготовку; на месте изгиба лапок чертилкой нанес разметочные риски и зажал заготовку в тисках между двумя накладными губками… И так далее и тому подобное.
Словом, я рассчитывал на третий разряд. Мне же дали второй. Я воспринял это как вопиющую несправедливость и вместо того, чтобы идти в цех, прямо с аттестационной комиссии пошел на морской вокзал…
На другой день Корнилыч зря ожидал меня в цехе. К одиннадцати часам я пришел в отдел кадров и подал заявление об уходе.
– Иди работай, – сказали мне там. – В один день не увольняют.
– Не пойду, – заявил я.
– Под суд отдадим.
– Я несовершеннолетний.
– Из комсомола исключим, – пригрозили без всякой надежды.
– На комсомольском учете в школе состою, – пояснил я. – А там меня ни при какой погоде не исключат.
– Чего же ты хочешь?
– Третий разряд.
– Паразит, – сказала тетенька, по-моему замначальника отдела кадров. Мне всегда приходилось иметь дело с замами.
Я пошел на море. Погода была хорошая. Стоял бархатный сезон. Пляж тянулся длинный и почти безлюдный. Море золотилось, как чешуя. Над берегом звенели стрекозы – фиолетовые, с серебряными крыльями.
28
– Ходишь все, – осуждающе сказала тетка Таня, с силой выжимая половую тряпку из старой мешковины. Цемент ступенек, ведущих на захудалую террасу, незастекленную, обитую выгоревшей фанерой и дощечками из-под консервных ящиков, еще был мокрым, блестел, словно галька, смоченная волной.
– А что? – равнодушно спросил я.
– А то, – тетка Таня ожесточенно встряхнула тряпку, повесила ее на частокол забора. Не без злорадства сообщила: – Отца неотложка прямо в больницу увезла.
Солнце, скатываясь в море, уже поравнялось с нашей горой. И тени от деревьев распластались такие длинные, будто вообще не имели конца.
Последние дни отец чувствовал себя относительно здоровым, поэтому я испуганно спросил:
– Сердце?
– Не знаю, – тетка Таня подбоченилась. Шея у нее была такая короткая, что казалось, голова растет прямо из плеч. – Я с варениками связалась. Прокоша страсть как их любит. А отец твой из школы совсем плохой пришел. Как с креста снятый. Тут я побежала в «скорую помощь».
– Почему из школы? – не понял я, начисто позабыв обещание отца разобраться в связи с тем, что Ирина Ивановна Горик обижает учителя Домбровского.
Из рассказов очевидцев, со слов самого отца события представляются мне так.
Надев свой лучший бостоновый костюм цвета маренго, мягкую велюровую шляпу, лакированные полуботинки в тон костюму, прикрепив к лацкану пиджака длинный ряд боевых орденов и медалей, отец чинно отправился в школу.
Он шел с благой целью спокойно, по его словам, поговорить с заведующей учебной частью о том, что негоже обижать старого человека, участника революции, гражданской войны, наконец, просто порядочного, образованного педагога. Я не уверен, что подобная беседа принесла бы много пользы Домбровскому, ибо Ирина Ивановна Горик относилась к категории женщин, которую людская молва метко определяет емким, все объясняющим словом – стерва. Однако Ирина Ивановна была достаточно умна, чтобы не позволить себе грубость с человеком, на груди которого были ордена. Поэтому беседа с ней, если бы таковая состоялась, носила бы скорее всего корректный, спокойный характер. И безусловно не довела бы отца до больницы.
К сожалению, обстоятельства сложились иначе…
Еще весной, кажется на Восьмое марта, в школе сломалось пианино: треснула там какая-то дека. Говорили, что верхняя. И звуки получались совсем не те. Плохие получались звуки. Мастера, способного починить инструмент, долго не могли найти. И вот наконец, в тот самый злополучный день, когда отец направился в школу, кто-то из знакомых Ирины Ивановны позвонил и сказал, что есть очень хороший мастер по ремонту и настройке роялей и пианино, который прибыл на днях из города Жмеринки, что он готов прийти в школу посмотреть на инструмент и что зовут этого мастера Федор Иванович, то есть так же, как и моего отца.
Когда отец открыл дверь кабинета заведующей учебной частью, там находились несколько учителей и старшая пионервожатая. Увидев элегантно одетого мужчину, Горик смекнула, что это и есть знаменитый мастер из города Жмеринки, и вежливо спросила:
– Федор Иванович?
– Совершенно верно, – без всякого удивления ответил отец, не сомневающийся, что его знают все в городе.
– Люся, – сказала тогда Ирина Ивановна, обращаясь к старшей пионервожатой, – проводи Федора Ивановича в актовый зал.
Затем с милой улыбкой обратилась к отцу:
– Извините, я через несколько минут освобожусь. И подойду к вам.
Отец решил, что, видимо, особо почетных гостей в школе всегда принимают в актовом зале, поэтому безропотно последовал за старшей пионервожатой Люсей, терпеливо ждал в коридоре, пока она спустилась на первый этаж за ключом, совершенно спокойно вошел в пустой, пахнущий пылью актовый зал, где без всякого порядка стояли разномастные стулья. Между стульями лежал длинный красный транспарант, кисточка, банка с белилами. На транспаранте уже было написано: «Достойно встретим…» Отец не придал значения фразе, которую Люся бросила с порога, закрывая за собой дверь. А фраза состояла из трех слов:
– Пианино на сцене.
Люся ушла, оставив ключ в двери со стороны коридора.
Было тихо, потому что шли занятия. Отец бесцельно прошелся по залу. Посмотрел на сцену. Черные сатиновые занавеси были раздвинуты. На сцене справа действительно стояло пианино. Он подумал, что старшая пионервожатая, почему-то решив, что он играет на пианино, вежливо предложила скоротать время. Но поскольку отец мог играть только на патефоне, то, скользнув взглядом по инструменту, подошел к двери, ведущей на балкон. А надо сказать, что актовый зал нашей школы помещался на втором этаже и имел просторный балкон с крепкими бетонными перилами. В ожидании Ирины Ивановны отец вышел на балкон. Прикрыл дверь. Школа стояла на горе, и с балкона хорошо была видна центральная часть города. И море. И много неба. Погода была хорошая. И отцу было хорошо.
А между тем Ирину Ивановну внезапно вызвал директор школы и послал на какое-то срочное совещание в гороно. Заведующая учебной частью не страдала провалом памяти. Сказала директору, что пришел мастер из Жмеринки и чинит в актовом зале пианино. Директор пообещал заняться мастером лично.
Примерно в это же время уборщица Роза Маисовна, старая добрая армянка, шла по коридору второго этажа и случайно увидела ключ, торчащий в двери актового зала. Она открыла дверь и заглянула внутрь, удивляясь, кто может здесь быть, так как знала, что мальчик из десятого класса, пишущий транспарант, будет работать в зале после шестого урока. Отец в этот момент был уже на балконе. Роза Маисовна не увидела его, так как дверь на балкон была не стеклянной.
Через десять минут наступала перемена. Роза Маисовна подумала, что мальчишки могут забраться в зал, чтобы курить за сценой. Потом не загасят окурок, и сгорит школа. Роза Маисовна закрыла дверь и положила ключ в карман своего халата.
Минуты через три директор вспомнил о мастере и прошел к актовому залу, однако, увидев дверь запертой, решил, что мастер находится у завхоза. К завхозу надо было спускаться в подвал, и директор резонно решил: если он понадобится завхозу и мастеру, те сами придут к нему в кабинет.
Вскоре зазвенел звонок, началась перемена. Отцу справедливо показалось, что всякому ожиданию есть предел. В конце концов, дело не в церемонии, можно хорошо поговорить и в кабинете. Он решительно пересек зал, взялся за ручку двери, но дверь не открывалась. Отец дернул ручку раз, другой – безрезультатно. Тогда он начал стучать в дверь кулаком.
Но была перемена. Шум и гвалт в коридоре стояли невообразимые. Дети прыгали, бегали, кричали. Никто не обращал внимания на актовый зал, в который строго-настрого запрещалось входить без разрешения старших.
Отец подумал, что его заманили в ловушку и заперли. Мерзкая Ирина Ивановна таким подлым способом уклонилась от разговора. Вначале он хотел побить стекла стульями. Но вспомнил, как трудно сейчас со стеклом, и пожалел детей, которые на много месяцев останутся без актового зала.
Пожалуй, всю перемену отец метался из угла в угол. Потом его внезапно осенила блестящая идея. Схватив с пола транспарант, он скрутил его в жгут, привязал конец за бетонные перила балкона и начал спускаться вниз.
Я уже говорил, что актовый зал был на втором этаже. Но это были старые этажи, высокие. Кроме того, школа имела фундамент…
Дворничиха баба Соня увидела прилично одетого человека в шляпе, повисшего под балконом. Она решила, что человек прикреплял транспарант, нечаянно сорвался и потому теперь беспомощно висит на красном полотнище…
Баба Соня закричала в голос. Уроки были сорваны.
29
В раздевалке мне дали белый халат, короткий, маленького размера. Я набросил его на плечи и пошел к лестнице, которая спускалась в просторный холл, выложенный черно-белыми плитами. Здание городской больницы было старым, построено очень давно. Немцы усиленно старались разбомбить нашу больницу, потому что в ней, конечно, размещался госпиталь. Они исколошматили все вокруг, но в больницу не попали. Огромная фугасная бомба снесла школу номер четыре, заживо похоронив в подвале несколько десятков человек. Был превращен в руины кинотеатр «Орион», находившийся по соседству. Исчезла, став грудой битого кирпича, городская баня…
А больница уцелела. В ней все дышало добротностью, спокойствием, годами.
Отец лежал на третьем этаже, в тридцать второй палате. Там были еще две койки, в момент моего прихода пустые.
– Чего тебе принести? – спросил я.
– Счеты, – ответил он.
– Может, лучше баян?
– Нет, счеты, – упрямо повторил он. – Здесь, – он кивнул на койку у окна, – бухгалтер с печенью лежит. Ему квартальный отчет закончить надо. Хочу помочь. Финансы – они точность любят.
– Шел бы ты домой.
– Нет, – сказал отец. – Я в Краснодар поеду. Там врачи настоящие, А у нас одно название.
Он плюнул на пол, в угол, куда вечерний сумрачный свет не забирался. Потер ладонью сухой подбородок. Сказал:
– Ты к Шакуну сходи. Напомни про обещание.
– Шакун уехал в санаторий. На прошлой неделе.
– Далеко?
– Говорят, в Крым.
– Поспешил ты увольняться с завода. Погодить надо было.
То же самое сказал мне вчера и Женя Ростков. Повстречались по дороге домой. Женя нес авоську с картошкой и буханку хлеба в газете «Труд». Он усмехнулся:
– Привет, летун.
– Привет, – сказал я.
– Значит, ты и на судоремонтном не задержался, – без уважения смотрел на меня Ростков. Не то чтобы презрительно, а так… Как на курицу.
– Нет.
– Мало платят?
– Не разживешься.
– А может, обидели?
– Обидели.
– Разряд не тот дали.
– Все знаешь, точно справочный стол, – не без нахальства ответил я. Что делать? Надо же защищаться.
– А ты, Антон, не психуй, – похоже, что Ростков неплохо знал мой характер, потому и говорил теперь доброжелательно. – Не такая ты шишка, чтобы о тебе всем сообщали. Просто пил я пиво десять минут назад с Корнилычем. Говорил с ним. В том числе и про тебя пару слов было сказано.
– Спасибо, – вздохнул я.
– Не за что, – ответил Ростков. – Неплохой ты парень, но без царя в голове. И дружок у тебя фраер, между прочим.
– Это ты о ком? Про Витька, что ли?
– Угадал.
– Какой он мне друг! Знакомый. Иногда встречаемся.
– Ладно. Черт с ним… Ты о себе подумай, определись. Учиться так учиться, работать так работать. Время, сам видишь, какое. С разрухой забот еще не на один год хватит.
– Все я вижу. Это вы ничего не видите. А знаешь, Ростков, почему?
– Почему? – он даже остановился от удивления.
– Потому что вам гайки дороже человека. Были бы гайки, люди народятся. А вот фраер Витек считает, что самое главное под синим небом – это человек. Все остальное – приложение.
– Человеки тоже разные бывают, – возразил Женя Ростков. – Человек – созидатель. С таким определением я могу согласиться.
– Нет, Женя. Просто человек.
– Тебя не переспоришь, – сказал Ростков. – И все равно поторопился ты с увольнением.
Небо заметно наливалось синевой. Сквозь открытую форточку было слышно, как шумит ветер. Свежий воздух, сдобренный запахами сухой травы и желтых листьев, проникал в больничную палату, где пахло йодом, формалином и всякими другими лекарствами. И от этого горного, здорового воздуха щемило сердце и как-то очень остро чувствовалось грустное предназначение больничной палаты.
– Слушай, – сказал я отцу, – сегодня баню новую открыли. Парная там, говорят, пальчики оближешь… Может, сходим попаримся… Потом боржомчика попьешь, а я пивка…
Отец с тоской посмотрел на меня. Тихо, но все-таки неожиданно сказал:
– Я тоже пивка попробую.
Машины на дороге уже включали фары. Свет ударял в чугунную ограду, отскакивая на ветки, катился по окнам.
Москва транслировала репортаж о футбольном матче на первенство СССР между ЦДКА и «Динамо». «Солировал» Вадим Синявский.
30
Даша Зайцева махнула мне рукой. Я остановился. Разбитое здание Госбанка было огорожено досками. На въезде ворота не повесили – дыра в заборе, колея, продавленная машинами. И все. Солнце хозяйничало, поэтому обломки стен, заросший бурьяном двор, обшарпанный «студебеккер», на который рабочие носилками грузили осколки кирпича и штукатурки, не мутили душу, и смотреть на все это можно было без грусти.
Конечно же, Зайцева возвращалась из школы. Одетая в юбку салатного цвета и бежевую шерстяную кофточку, она несла свой большой старый портфель, который сама называла «министерским».
– Давай, – сказал я.
Она избавилась от портфеля с радостью. Мы не виделись давно. Пожалуй, месяц. С того самого дня, когда катались на яхте.
– Правда, что Баженов уехал в Одессу? – спросила она.
Я ничего не знал об этом. Витек больше не жил у Глухого. Времянка теперь целиком использовалась как фотолаборатория.
Баженов поругался с теткой Таней и с Глухим.
Последнее время вино из подвала Глухой наладился выносить в грелке. Разумеется, ему приходилось хитрить лишь в том случае, если тетка Таня не дежурила в диспансере. Ее бдительное око неотступно следило за супругом.
Необычный способ транспортировки волшебного напитка проникал своими корнями в почву не столь далекого прошлого, когда Глухой работал подсобником на городском винзаводе и обнаружил смекалку при общении с вахтерами на проходной. Нет, он, конечно, не думал, что настанет срок и ему придется тайком выносить в грелке собственное вино из собственного подвала. Увы, тетка Таня уродилась человеком нещедрым, к тому же как медицинский работник предубежденным против алкоголя.
Выпив обычно банку возле бочки, пахнувшей серой и пылью, Глухой вынимал из-за пазухи грелку, вливал в нее литра полтора, стараясь, чтобы вино из шланга бежало ровной, хорошей струей прямо в резиновое горло. Ему было приятно смотреть, как в скупом свете, что поступал в подвал лишь в щелку над дверью, играло оттенками густое красное вино, приятно было сознавать, что оно будет выпито им еще до наступления темноты.
Однажды часов в пять вечера, бедного на солнечный свет и хорошую погоду, во дворе перед домом тетки Тани разыгралась такая сценка. Баженов пришел из города продрогший, с синим лицом. Ворот пиджака был поднят. Может, он заболел или просто замерз, потому что ветер тянул из ущелий со стороны Новороссийска, зябкий, мерзкий. И гроздья поспевающего винограда – существа, чуткого на холод, – казались отлитыми из стекла.
Мать тетки Тани, бабка Акулина, которую и в хорошую погоду трудно было выманить из комнаты, сейчас почему-то ходила вокруг дома в поисках несуществующих младенцев мужского пола. Тетка Таня стояла у порога и молча психовала. Она давно поняла, что бабка Акулина «с приветом», и все пыталась устроить ее «на лечение». Но в больницу бабку Акулину не брали, потому что все врачи, узнав возраст пациентки – ей было 92 года, – как правило, говорили: «Господи, нам бы дожить до этих лет».
Тетка Таня сказала Баженову:
– Витек, поймай ее. И помоги затащить в комнату.
Витек вначале не побежал за бабкой. Он стоял, подзывая ее большим и указательным пальцами, как подзывал бы кошку или собаку. Но бабка Акулина лишь хитро скосила глаза и засеменила прочь, на этот раз к нашему дому. Витек крикнул мне:
– Держи ее!
А сам погнался за ней. Настиг. И поскольку бабка энергично вырывалась, не очень бережно обхватил ее за плечи.
И надо было случиться так, что именно в этот момент Глухой выбрался из подвала. Надо полагать, там, возле бочки, он вмазал не одну банку и, значит, был под приличным газом. К тому же дядя Прокоша был вообще туповатым человеком.
Словом, ему показалось, будто Витек пытается избить бабку Акулину. И хоть он не любил тещу, но действия Баженова вдруг обидели его. Поэтому, выпрямившись – дверь в подвале была низкая, и выбираться оттуда приходилось чуть ли не на четвереньках, – Глухой сжал кулаки и заорал, гундося:
– Бро-ось!
Баженов, который никогда не принимал Глухого всерьез, знал, что всем в доме командует тетка Таня, и поэтому продолжал придерживать бабку за плечи и подталкивать ее вперед к террасе.
Грелка, небрежно заправленная за пояс, оттопырилась под белым джемпером, и живот Глухого внезапно округлился, как на девятом месяце. Баженов захохотал. Озлобленный дядя Прокоша подбежал к Баженову, замахнулся на него кулаком. Витек уклонился от удара и, в свою очередь, пнул Глухого в живот. Он сделал это не сильно, скорее шутя. Но грелка лопнула. Возможно, она была старой, довоенной, возможно, ежедневно пребывающее в ней вино разъело резину. Только грелка не выдержала: рубиновая жидкость круглым пятном расползлась по белому козьему джемперу, зачернела вдоль пояса брюк.
Тетка Таня, стоявшая метрах в пятнадцати от мужчин, решила, что Баженов ударил ее любимого Прокошу ножом в живот. Округлив глаза – куда там совиным, – она закричала на всю улицу:
– Зарезал! Аферист зарезал!
Глухой с несчастным выражением лица держался за живот, словно боялся, что у него вылезут кишки…
После этого случая Витек забрал свой чемодан и ушел к Жанне.
– Ты заходи, – сказал он мне.
Но я так и не выбрался.
…И вот сейчас Даша Зайцева спросила, правда ли, что Витек уехал в Одессу. Я сказал:
– Об этом нужно говорить с Жанной.
– Но ведь Жанна уехала вместе с ним.
Грибок подросла за лето. Теперь, наверное, она не самая маленькая в классе. Теперь она девочка будь-будь. Оформилась, хоть скульптуру с нее лепи.
– Я к Марианне Иосифовне иду, – сказала Даша. – Нужно забрать контрольные по математике.
– Она заболела, – догадался я.
– Она часто болеет. Все-таки в Австрии другой климат, менее влажный. Если хочешь, проводи меня. – Даша улыбалась и облизывала губы. Волосы у нее были такие красивые и яркие, что мужчины пялили глаза и даже оборачивались.
Во дворе лесопилки, которая устроилась почему-то в самом центре города, противно повизгивала пила. Из ворот выехала машина. Кисло пахло опилками.
Я сказал:
– Мне торопиться некуда. Могу и проводить.
– Ты опять не работаешь? – спросила она с явным сожалением, потому что ответ ей был уже известен. И вопрос получился как холостой ход.
– Не работаю, – ответил я.
– А как здоровье твоего отца?
– Он в Краснодаре. Лечится…
– Опять?
– Опять.
Да, отец уехал в Краснодар. В тот вечер, когда я сказал ему, что в городе открылась новая баня и там есть парная. Отец соблазнился. Мне удалось увести отца из больницы, благо врачи и сестры, успевшие привыкнуть к причудам пациента, отпустили его без хлопот.
Отец изъявил желание париться немедленно. Я привел его в баню, пахнущую свежей краской и играющую новым кафелем. Сказал отцу:
– Ты парься. А я сбегаю домой за бельем и полотенцами.
– Захвати мои коричневые туфли, – он кивнул на свои лакированные штиблеты. – Эти маленько жмут в мысочках. А если нога распарится, босиком придется домой идти.