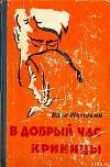Текст книги "Вдруг выпал снег. Год любви"
Автор книги: Юрий Авдеенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц)
– Дыхни, – сказал я. – Вдруг от тебя пахнет?
– Меня дома не обнюхивают, – пожала мокрыми плечами Даша. Улыбнувшись, пояснила: – Разве только собака. Но она на привязи.
– Я провожу тебя. Ты не убегай. Обещаешь?
– Обещаю. Однако тебе и самому домой пора: ругать будут.
– Кто меня может ругать? Старец Онисим? Он добрый. Он никогда никого не ругает. Говорит: «Занятие сие не по моим материальным возможностям».
– А знаешь, ты все-таки пьяный.
– Плохо?
– Плохо.
– И когда я стану твоим мужем, ты будешь ругать меня за это.
– Как только ты станешь моим мужем, тебя ругать будет не за что.
– Ну и характер у человека!
– Моя бабка была разбойницей.
– Настоящей разбойницей?
– Настоящей, – засмеялась Даша.
Даша жила недалеко от центра. Однако улица ей досталась очень захудалая, немощеная. И по ночам не освещалась… Когда мы расстались возле калитки, дождь уже перестал. Мне можно было не торопиться, и я не торопился. Шел, насвистывая какую-то дребедень. А вокруг все блестело, сверкало. И звезды появились в небе, и луна…
Как всегда после грозы, воздух был свежий, бодрящий. Силы рвались из меня. Я почему-то подпрыгнул. Ловко, высоко. Но приземлился крайне неудачно – прямо на колени. В центре у фонаря разглядел – брюки моего шевиотового костюма облепила густая серая грязь… Расстроился, жестоко расстроился.
Уже возле дома, поравнявшись с крыльцом Глухого, подумал: «Стыдно будет перед Онисимом, если он увидит, что я вернулся грязный как свинья. Начнет мне старик на уши свою захудалую философию наматывать. Слушай его потом». Снял брюки, повесил их через руку, словно плащ, и смело постучал в свою дверь.
Заскрипели половицы. Онисим обычно ходил мягче. Видимо, «нагрузился» сегодня ночью.
Вспыхнула лампочка над входом. Загремела задвижка, рывком отворилась дверь. В коридоре стоял отец. Заспанный, худой, бледный, он удивленно смотрел на меня, на мою одежду. Даже качнул головой, словно подумал, что это все ему снится.
– Ты уже выздоровел, папа?
– Барбос, – глухо ответил отец. Плюнул в помойное ведро и пошел спать.
16
Я проснулся от крика. Где-то рядом треснула доска. Кто-то пробежал мимо окна: земля чавкнула у него под ногами.
Солнце проникало в комнату сквозь прикрытые ставнями окна. Узкие яркие полосы лежали на полу, высвечивали стену. Дверь в коридор, кажется, была открыта: с кровати не видно. Но запах свежей зелени и теплой земли вползли в комнату оттуда, с порога. И я понял, что дверь на улицу, конечно же, открыта. Вскочил и как был – в трусах, в майке и босиком – выбежал на крыльцо.
Отец в галифе, голый по пояс, в старых галошах на босу ногу стоял посредине двора с большим грязным камнем в руке. Грязь стекала по пальцам, канала на тропинку. Отец, собрав на лбу морщины, хмуро к чему-то прислушался.
Онисим, одетый, но без шапки, сидел у стола под грушей, ел хамсу – брал ее пальцами из мятого газетного кулька. Тут же на столе лежал нарезанный крупными кусками черный хлеб.
Отец сказал:
– Я их всех перебью.
Онисим облизал губы, возразил:
– Капкан надо. С капканом оно без шума и пыли. Щелк – и головой в нужник.
– У меня и камнями получается, – ответил уверенно отец. Аккуратно положил булыжник на тропинку, вытер руки о галифе и, не взглянув на меня, пошел к столу.
– Кот был Таньки Глухой, – улыбнулся Онисим.
– Мне без разницы. – Отец сел на табурет, разломил кусок хлеба.
– Цирлих-манирлих, у женщины этой глотка что граммофон. Разорется – до самой нижней улицы слышно.
– И ей голову оторву, – пообещал отец.
Онисим покладисто кивнул. Не удивился грозному обещанию. Чавкал громко, точно собака, сказал завистливо:
– Мне бы твои справки.
– Я за эти справки пять месяцев взвод водил в атаку, двадцать три месяца роту. Одиннадцать месяцев в госпиталях лежал, потому как ранен и контужен четыре раза.
– Да что тут говорить, – вздернулся Онисим. – Великомученик ты. Лицо-то у тебя худющее, хоть икону пиши.
– Ничего, отъемся.
Отец перевел взгляд на меня, смотрел без злобы, но и без внимания, как на стену. Я подумал, что он пообещает мне оторвать голову, но он не пообещал. Сказал равнодушно:
– Козу купить надо.
Я был совершенно потрясен этими словами, однако, помня о своем вчерашнем возвращении, безропотно кивнул.
– Молоко пить буду, – пояснил отец.
Я опять кивнул. Над соседней горой низко висел туман. Судя по солнцу, по тени, времени было около девяти утра. Из дворов тянуло дымком: кто-то жарил картошку.
Опираясь на палку, вышел Домбровский. Он был в старой куртке с облезшим плюшевым воротником. Я громко сказал:
– Здравствуйте, Станислав Любомирович.
– Доброе утро, Антон. Что это у вас сегодня так шумно?
– Отец из больницы приехал. Котов бьет.
– Нынешней весной развелось чрезвычайно много животных, – сказал Домбровский. – Спать не дают.
Отец встал с табурета, поклонился Домбровскому.
– Совершенно верно говорите, Станислав Любомирович. Два дня срока – всех ликвидирую. Одного Маркиза на развод оставлю.
– Как ваше здоровье, Федор Иванович? – спросил Домбровский, подходя к забору. – Лучше?
– Так точно. Припадков уже сорок один день не было, – с радостной улыбкой отрапортовал отец.
– Условия в больнице хорошие? – негромко кашлянул в кулак Станислав Любомирович. Мне показалось, что ему нездоровится.
– Так точно. Три этажа, тридцать девять палат. Окна выходят на юго-запад. Высота палат четыре метра двадцать сантиметров. Питание четырехразовое. Расклад меню…
– Меню для вас, – перебил отца ошеломленный цифрами Домбровский, – самое лучшее – свежий воздух, солнце, море.
– И козье молоко. Шестьсот граммов утром, четыреста вечером…
– Это точно, – вздохнул Онисим. – Шестьсот граммов утром, четыреста вечером… Премного извиняюсь, пан учитель, вы, случаем, вино не давите?
– Недосуг, – сухо ответил Домбровский.
– Жаль. Соседка Танька давит. Но и дерет за него, словно не вино это, а Христовы слезы.
– Ладно, – сказал отец. – Обстановка следующая. Сейчас одеваемся. Следуем на базар, там принимаем пищу. Покупаем козу. Ориентиры: длина козы не менее ста сорока сантиметров, рога – от двадцати пяти до тридцати.
– Цвет? – спросил Онисим. – Какой цвет?
– Цвет не имеет значения, – заявил отец. И добавил: – Антон, захвати рулетку.
Нельзя сказать, что базар в нашем городе был захудалый, однако толкучка собиралась только по воскресеньям. Продавали разную чепуху, мало кому нужную. А в основном громко говорили, спорили, пытаясь выдать черное за белое, старое за новое, немодное за модное…
Перед базаром в рядочек выстроились фанерные ларьки. Каждую весну их красили яркой краской, преимущественно желтой и голубой. Вдоль тротуара росли мимозы. Они бросали хорошую тень. А в ларьках продавалось свежее пиво и другие прохладительные напитки, поэтому здесь всегда толпилось много мужчин. Вдоль забора, что виднелся между ларьками, тетки с огромными чувалами продавали кубанские семечки, меряя их ведрами и пол-литровыми банками.
Онисим задушевно сказал:
– Пиво у вас в городе – просто очень высокого качества. И что очень важно – не мутное.
– Мутным бывает не только пиво, – ответил отец, не замедляя шага.
– Справедливо отмечено, – кивнул Онисим и придержал меня за руку. – Но вот читал я, где читал – не помню, или кто мне рассказывал, что литр пива заменяет тарелку супа. А суп нам, подтверди, Антон, варить не из чего, потому как не имеем мы ни картошки, ни лука, ни масла. И морковки не имеем тоже. В наличии у нас банка соли и немного хамсы.
– Работать надо, – сказал отец. – Работать или побираться. Ты же, старец, хочешь святым духом жить и не молиться.
– Если хочешь знать, Федор, я этими руками могу корабль построить. – Онисим растопырил пальцы, резко вытянув вперед руки.
Шедшая навстречу нам баба в стеганке и кирзачах шарахнулась в сторону, выкрикнула злобно:
– Попробуй цапни!
На нее никто не обратил внимания. Отец сказал:
– Ты лучше самолет построй. И лети туда, где на деревьях булки растут и конфеты тоже.
– Конфетам я не едок, – покладисто объяснил Онисим. – А кружечка пивка нам бы не повредила.
– Мне алкоголь нельзя, – заявил отец и болезненно сморщился. Козырек его офицерской фуражки съехал набок. А китель заметно провисал в плечах: все-таки здорово похудел отец в больнице.
– Между прочим, – не унимался Онисим, – в этом голубом киоске, окромя пива, очень хорошая вода есть, по прозвищу «боржоми».
Отец резко остановился. Повернулся налево, щелкнув каблуками, точно на строевой подготовке. Сказал, понюхав воздух:
– «Боржоми» можно. «Боржоми» нужно купить целый ящик.
– Сначала козу, – уныло подсказал я.
– Так точно, – подтвердил свое прежнее решение отец.
Качнувшись будто маятник, старец Онисим прошмыгнул между двумя отчаянно спорившими адыгейцами и торопливо засеменил к киоску, видимо опасаясь, что отец вновь передумает и заспешит на рынок за козой.
Но духота сгущалась, влажная, жаркая. Мысль о стакане холодного «боржоми», конечно, не могла уже оставить отца так просто, вдруг. Выпятив худую грудь, он пошел вслед за Онисимом.
Когда мы втиснулись в низкий и тесный киоск, где было еще более душно, чем на улице, там уже сдували с кружек пену четверо мужчин. Онисим потирал руки у прилавка, вкрадчиво говорил:
– Я прошу тебя, хорошая, налить две кружки. Чтоб, как по законам советской торговли, пена, цирлих-манирлих, клубилась в пределах нормы… И еще попрошу тебя, хорошая, налить в чистый стакан холодного «боржоми».
– У меня все стаканы чистые, – прорычала «хорошая».
Подвинула кружки рывком, без всякого уважения. Пены в них – ровно половина. Онисим заморгал глазками – наивный ребенок, – ладонью отстранил свою кружку:
– Богато жить будешь, хорошая.
– Уж конечно не бедно, – посмотрела на старца, как плюнула.
– На казенных харчах, – пояснил Онисим.
– Ты, видать, пробовал?
– Все пробовал, хорошая.
– Понаехало вас, бродяг… Куда милиция смотрит? – «Хорошая» нагнулась, взяла из ящика зеленую бутылку без этикетки, поставила на прилавок.
– Это «боржоми»? – спросил отец.
– Что же еще? – Она развела руками. – На стаканы не продаю. Хочешь, открою бутылку.
– Открывай, – сказал отец.
Пить мне хотелось ужасно. После вчерашней выпивки я не держал во рту даже глотка воды. Поэтому, не дожидаясь результата поединка Онисима, я поднос к губам кружку и стал жадно пить.
Отец, наоборот, вначале понюхал стакан. Сделал глоток, сказал:
– Это не «боржоми».
– Как не «боржоми»? – позеленела «хорошая».
– Не может быть, чтобы в этой воде были катионы: литий, натрий, калий, аммоний, магний, кальций, стронций, барий, железо. Кроме того: хлор, бром, йод, сульфат, бикарбонат…
«Хорошая», ошарашенная познаниями отца, засуетилась. Подумав, быть может, что имеет дело с крупнейшим специалистом по части безалкогольных напитком, сказала, оправдываясь:
– Вот накладные.
В накладных минеральная вода значилась как «боржоми». Но отец настаивал, что ящики перепутали:
– А на железной дороге случается, что груз весом в сорок семь тонн, ценой в двести двадцать четыре тысячи пятьсот одиннадцать рублей отправляют в противоположный конец страны, что в конечном счете вызывает непредвиденные затраты…
«Хорошая» ошарашенно кивала.
Пена в кружке Онисима успела осесть, и продавщица, уловив укоризненный взгляд старца, безропотно долила пиво в его кружку, на этот раз явно больше нормы. Онисим благостно вздыхал и улыбался.
…Козу мы не купили. В углу рынка, возле развалин портового жилого дома, которые лишь этой весной начали расчищать, существовал так называемый «животный ряд». Продавали там молодых поросят, кроликов, гусей, кур, уток, коз, а иногда – крайне редко – даже коров.
Мы с Онисимом выпили все же по две кружки пива, чтобы заменить тарелку супа, и потому пришли на рынок в хорошем настроении. Отец же после инцидента с «боржоми» был мрачен и взвинчен. Едва мы увидели коз, как он потребовал от меня рулетку. Коз, если не изменяет память, продавалось штук пять или шесть. Отец сразу начал их измерять, вызвав своими действиями переполох у торговок, которые подумали, что он налоговый инспектор и что налог со скотины теперь будут брать согласно ее размеру. Тут еще Онисим протокольным голосом попросил предъявить колхозные справки, разрешающие продажу мелкого рогатого скота…
Старушка, торгующая кроликами, быстро накрыла корзину мешковиной и подалась в толпу. Женщины нервно шушукались.
Не знаю, чем бы все кончилось, не появись на рынке тетка Таня.
– Федор, родимый! – чуть ли не завопила она по своей привычке. – Что ты тут ищешь?
По ее красному круглому лицу катились слезы радости.
– Мученик ты великий! Оклемался, значит. Ой, горе-то какое, – похоже, она лезла к нему обниматься.
Поскольку такое проявление чувств могло окончиться для нее физическими увечьями, я сам обнял тетку Таню и прошептал ей на ухо:
– Не кричи. А то ударит.
Она посмотрела на меня вначале удивленно, но быстро все поняла: сообразительная женщина. Сказала нормально:
– Чего делаешь тут, Федя?
– Хочу козу купить, – голосом мученика ответил отец.
– На кой леший тебе коза? – всплеснула руками соседка.
– Молоко пить буду.
– Молоко… – Тетка Таня кивнула головой. С большим пониманием кивнула. И вдруг поинтересовалась: – А коза зачем?
Я шепнул Онисиму:
– Заслони.
Он оттер плечом тетку Таню от отца. Она сморщилась, спросила старца:
– Чегой-то от тебя так пахнет?
– Хамсу ел, – признался Онисим.
– Руки мыть надо, – подсказала тетка Таня.
– Спасибо, соседка, что напомнила.
Отец между тем не проявлял признаков агрессии. Он стоял разочарованный, обескураженный и терпеливо слушал разговор Онисима с теткой Таней. Наконец они умолкли, и отец заискивающе сказал, обращаясь к тетке Тане:
– У тебя много знакомых.
– Полон город, – кивнула тетка Таня.
– И в селах, наверное, есть.
– Господи, где только нет!
– Помогла бы козу купить породистую.
– И охота тебе с ней возиться!
– А чего с ней возиться? Выгнал в стадо – и все.
– Выгнал в стадо, – передразнила тетка Таня. – А когда дождь? А дождь всю зиму. А козу кормить надо и поить. Подохнет она у тебя, породистая.
– Мне козье молоко пить врачами велено, – грустно пояснил отец.
– Так покупай его… Вон Снещиха трех коз держит. Она сама домой будет приносить. И утром, и вечером.
Отец задумался. Поправил фуражку. Повернул голову ко мне:
– Может, верно? И утром, и вечером…
– Обмыть это дело надо, – сказал Онисим.
– Так точно, – согласился отец. – Антон, купи кусок хозяйственного мыла. И большую мочалку…
17
Заметка из городской газеты «Ударник» от 2 июня 1949 года:
«Боцман с буксира.
Кто не знает широкоплечей фигуры Нестора Ивановича Семеняки? Когда уверенной походкой боцман буксира «Орион» идет по причалу, его уважительно приветствуют матросы и грузчики. Нестор Иванович со всеми внимателен. Его открытая улыбка свидетельствует о широкой морской душе.
Война застала боцмана в Севастополе. Пятьдесят рейсов совершил Семеняка из Севастополя в Новороссийск под огнем противника.
На «Орионе» боцман служит уже три года. Много сил и старания уделяет Нестор Иванович Семеняка воспитанию молодого поколения. «Замечательный человек», – говорит о нем начальник порта товарищ Шакун.
З. Акопов,наш внешт. корр.».
18
Кусты ожины тонкими колючими ветками нависали над дорогой, прорубленной в горе – неглубоко, может на полтора-два метра в ширину и глубину, и метры эти уползали вверх, под акации и тутовник, где трещали кузнечики и бабочки скользили легко, бесшумно.
Голубело небо, густое-густое, будто и не светило, не слепило, не парило солнце. На горе – с северного, с южного склона – неподвижно сомкнулись деревья. Жарко.
Я стянул с себя майку и бросил ее на ветку. Глухой уже давно голый по пояс. Его загорелое тело сплетено из мышц. Сильный дядька.
– Спортом занимался, дядя Прокоша?
Глухой не понял. Растопырил ладонь, приставил к уху, точно передразнивая:
– Чего, чего?
– Земля, говорю, твердая.
Я ткнул лопату в сухую, каменную глину и закатил глаза к небу: дескать, тяжело копать.
Глухой оживился:
– Я Федору объяснил, что это не Кубань. На Кубани и погреб недолго выкопать… А у нас – земля? Нет… У нас пять сантиметров земли. Под ней – грунт скальный.
Глухой с силой ударил ломом, и звук получился тупой, как от удара о камень. Радости мало. Нам с дядей Прокошей предстояло продолбить в этом грунте траншею шириной двадцать сантиметров, глубиной тридцать сантиметров, зато длиной целых сто метров. На дно траншеи будет положена водопроводная труба, и тогда вода поднимется прямо к нашему двору. Это будет равноценно чуду, ибо, сколько я себя помню, вся улица, гремя пустыми ведрами, спускалась вниз к единственной водопроводной колонке, вокруг которой ухмылялась такая большая лужа, что в ней даже плавали утята.
– Здешний грунт взрывать надо, – заключил Глухой.
– Слишком шумно получится, – ответил я и приналег на лопату…
С тех пор как отец вернулся из больницы, прошло около месяца. За все эти дни он ни разу не вспомнил о матери. Разговоры, которые у нас возникали, носили случайный характер, начинались внезапно и внезапно оканчивались. Отец охотно возился во дворе. Посадил много цветов, кое-что из овощей: горький стручковый перец, лук, чеснок. Потихоньку чинил дом. Собирался окрасить его в желто-розовый цвет, но нигде не мог купить розовой краски. Я посоветовал взять в хозяйственном магазине «парижскую зелень». Отец посмотрел на меня одобрительно, сказал, что «парижская зелень» ему по душе, но розовый цвет веселее.
Будучи инвалидом Отечественной войны второй группы, отец получил пенсию – тысячу сто пятьдесят рублей[1]1
Масштаб денег 1949 года.
[Закрыть]. О том, чтобы ему где-то служить или работать, не могло быть и речи.
Станислав Любомирович Домбровский сказал мне:
– Война для вашего отца, Антон, продолжается. И будет продолжаться до самой смерти. Шрамы души вечны, как шрамы тела.
Когда я уходил в первую смену, отец еще спал. Однако, возвращаясь, я заставал теплую кастрюлю с едой, накрытую полотенцем и старым ватником. Готовил отец вкусно.
– Я бы поваром пошел, – признался он однажды. – Всегда мечтал быть поваром. Только не в столовой, а в ресторане. Ко мне бы специально со всего побережья знатоки приезжали. – В глазах у него появилась искренняя, почти детская радость. Он шмыгнул носом и далее крепко потер переносицу. – Когда готовишь, фантазировать надо.
– Ваш отец прав, Антон, – говорил Домбровский. – Фантазия – это прежде всего творческое начало. Без оного невозможно никакое серьезное деяние… А что касается мечты, то, увы, мечта сбывается нечасто.
– И ничего нельзя сделать?
– Делать и только делать. Ибо созидание породит, и не только породит, но и осуществит новую мечту. Сделает ее плотью. А первая мечта, заветная мечта останется голубой дымкой юности. Каждый человек должен иметь такую дымку. Это счастье, Антон, что она есть у вашего отца…
…Дня через два, как ушел Онисим, мы сидели с отцом, ужинали горячими варениками с картошкой и пили душистый крепкий чай. Отец вначале рассуждал о смысле жизни человека, подобного старцу. Кстати, Онисим пошел осматривать ближайшие аулы и обещал непременно заглянуть на обратном пути. Отец говорил:
– Онисим человек, который ищет. И знаешь, что он ищет?
– Какие-то сокровища, – ответил я, прожевывая вареник.
Отец раздраженно замахал руками:
– Глупости. Хреновина там, а не сокровища.
– Я сам видел – крест с бриллиантами.
– Один крест ничего не значит, – отец стукнул ребром ладони по доске стола. – Может, он ему от деда или от бабки достался… А ищет Онисим сам себя.
– Что он, тоже контуженный? – без особого такта спросил я. Но отец не обратил внимания.
– Это разные вещи. Если человек ищет, то он ищет. А вот ты не ищешь ничего.
– Неправда. Розовую краску ищу.
– Вот, вот… А есть парни – спортом увлекаются. Со мной один лежал, можно сказать, чахоточный. Кожа да кости. А он рисует. День и ночь рисует…
– В темноте?
– В мозгах… У меня в роте помкомвзвода был. С Украины. Писал. Всем солдатам письма писал. Говорил: «Вернусь домой, товарищ старший лейтенант, письменником стану…» Черепок ему снесло под Каунасом. А ты вот рисовать не умеешь, – значит, в художники дороги нет. В писатели – тоже…
– В писатели почему?
– Почерк плохой! – ответил отец.
– Ротному писарю почерк хороший нужен. А для писателей пишущие машинки есть.
Отец задумался, смотрел на стол внимательно. Свет лампочки искрился в стаканах чая.
После паузы отец глубокомысленно заметил:
– Пишущая машинка не коза. Представляешь, сколько она стоит? Да и где ты здесь ее купишь?
– В Сочи.
Отец с уважением кивнул:
– В Сочи… Там, конечно, есть… Только ты, того, серьезно?
– Почему такой разговор? – осторожно спросил я.
– Уходишь на работу хмурый. Приходишь с работы хмурый. Лицо землистое.
Меня удивила его наблюдательность, но все равно я возразил:
– Нормальное лицо. Просто грязное.
Отец сказал, глядя в стену:
– Без любви ты там железки отливаешь. И Ростков то же самое говорит.
– Сам-то он сгорает страстью, – разозлился я.
– Было бы тебе пятьдесят лет, разговор не состоялся бы. К чему, когда жизнь прожита? У тебя все впереди. Определяться надежнее надо. Потому как для мужика самое главное не рост, не глаза и не размер носа. Самое главное для него – надежность.
– Я в моряки, отец, хочу.
– В матросы? – спросил он недовольно и хрипло. На глаза его нашла желтизна и на щеки тоже.
– Для начала можно и в матросы. – Во мне уже закипало раздражение. – Капитаном сразу не возьмут.
– На капитана учиться надо. – Отец, как всегда, оставался глух к чужим чувствам.
– Жизнь – лучший учитель.
– Лучший учитель – брючный пояс, да сил у меня нет, чтобы с тобой справиться… Давай-ка завтра вместе к Шакуну сходим.
– К Шакуну? – удивился я. – Так к нему не пустят.
Отец твердо ответил:
– Меня пустят. Я в его бригаде шесть лет грузчиком работал. У нас, у грузчиков, свое братство.
– Очень вы сегодня на грузчиков похожи, – что ты, что он. Один как палка, другой брюхо в машину не умещает.
Валентин Сергеевич Шакун занимал должность начальника порта. Действительно, до войны и первые месяцы войны он был бригадиром грузчиков. Но потом его выдвинули на высокий пост, видимо за то, что крепкими у него были не только плечи, но и голова.
В городе его любили. «Шакун сказал…», «Шакун обещал…» – все это произносили с уважением и верой в то, что так оно и будет.
Станислав Любомирович Домбровский сказал мне однажды:
– Особенностью эпохи, нашей эпохи, является величайшее обновление. Эпоха дала не только новые идеи, но и новых исполнителей этих идей, активных деятелей, порожденных и выдвинутых массой… Октябрьская революция застала меня в Петрограде. Я не был членом никакой партии, но сочувствовал большевикам… Поэтому, когда Анатолий Васильевич Луначарский, бесконечно умный, эмоциональный человек, пригласил меня к сотрудничеству в первых шагах Наркомата просвещения, я понял, какая гигантская, казалось бы, непосильная работа стоит перед партией большевиков. Я, Антон, проникся буквально мистическим уважением к ее лидерам. Наряду с интеллигентами там были представители самого простого народа. Скажем, Дыбенко, Крыленко…
– Никогда не слышал эти фамилии, – признался я.
– Первые народные комиссары по военным и морским делам…
Я не поверил, спросил с сомнением:
– Станислав Любомирович, а вы не путаете? Первым военным наркомом был Климент Ефремович Ворошилов. И еще Буденный.
Домбровский подошел к полке, где стояли покрытые пылью непривлекательные разноформатные книги. Вынул одну из них, старую, желтую. Раскрыл, торопливо перелистал страницы. Потом сказал:
– Состав Совета Народных Комиссаров, утвержденный Вторым Всероссийским съездом Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, был следующим: Председатель Совета Народных Комиссаров – Владимир Ульянов (Ленин). По делам военным и морским – комитет в составе народных комиссаров В. А. Овсеенко (Антонов), Н. В. Крыленко и П. Е. Дыбенко. Народный комиссар по делам торговли и промышленности – В. П. Ногин. Народного просвещения – А. В. Луначарский… и так далее. Да… Но мы отвлеклись от темы, Дыбенко был простым матросом. Крыленко – простым солдатом. Но и первый и второй могут служить яркими примерами того, как богата самородками наша земля. Книга, которую я держу в руке, написана американским коммунистом. Он похоронен на Красной площади в Кремлевской стене. Я прочитаю тебе маленький отрывок. Из главы, когда нарком Крыленко пришел в полк броневиков – в полк, который сомневался, поддержать ли ему революцию или остаться нейтральным. Вот что сказал Крыленко:
«Товарищи солдаты! Я не могу как следует говорить, прошу извинить меня, но я не спал целых четыре ночи…
Мне незачем говорить вам, что я солдат. Мне незачем говорить вам, что я хочу мира. Но я должен сказать вам, что большевистская партия, которой вы и все остальные храбрые товарищи, навеки сбросившие власть кровожадной буржуазии, помогли совершить рабочую и солдатскую революцию, – что эта партия обещала предложить всем народам мир. Сегодня это обещание уже исполнено!
Вас уговаривают оставаться нейтральными, оставаться нейтральными в тот момент, когда юнкера и ударники, никогда не знающие нейтралитета, стреляют в нас на улицах и ведут на Петроград Керенского или еще кого-нибудь из той же шайки. С Дона наступает Каледин. С фронта надвигается Керенский. Корнилов поднял текинцев и хочет повторить свою августовскую авантюру. Меньшевики и эсеры просят вас не допускать гражданской войны. Но что же давало им самим возможность держаться у власти, если не гражданская война, та гражданская война, которая началась еще в июле и в которой они постоянно стояли на стороне буржуазии, как стоят и теперь?
Как я могу убеждать вас, если ваше решение уже принято? Вопрос совершенно ясен. На одной стороне – Керенский, Каледин, Корнилов, меньшевики, эсеры, кадеты, городские думы, офицерство… Они говорят вам, что их цели очень хороши. На другой стороне – рабочие, солдаты, матросы, беднейшие крестьяне. Правительство в ваших руках. Вы хозяева положения. Великая Россия принадлежит вам. Отдадите ли вы ее обратно?»
Домбровский закрыл книгу. Говорил, глядя вверх, точно сам с собой.
– Такая речь украсила бы и дипломата с двумя университетскими дипломами. А там ее произнес простой солдат.
– Как называется эта книга?
– «Десять дней, которые потрясли мир».
– Дайте мне ее почитать.
– Ты прочитаешь ее после. Она обязательно будет переиздана. Сам Ленин написал к ней предисловие.
19
С Пашей Найдиным мы одно время ходили заниматься в секцию бокса. Но он бросил это дело намного раньше меня из-за близорукости. К тому же кожа у него была какая-то нежная, и он постоянно не расставался с синяками, что чрезмерно раздражало его мать, женщину неприятную и нервную.
Паша любил лазать по горам, а я нет. И, возможно, по этой причине мы не стали настоящими друзьями, хотя отношения между нами всегда были хорошими.
– А ведь нам еще в армии служить надо, – сказал Паша. Он пришел ко мне в воскресенье утром и терпеливо дожидался, пока я «расчухаюсь», чтобы идти на море.
Мне, честно говоря, идти на море не хотелось. Но не хотелось и обижать Пашу, поэтому я ходил по дому взад-вперед, ссылаясь на неотложные хозяйственные дела.
– Послужим, – сказал я.
– Ясное дело, – кивнул Паша. – Но я не об этом. Я о другом. Какой смысл рваться тебе на буксир, когда через год ты все равно уйдешь в солдаты?
– С буксира я уйду в матросы.
– Вполне возможно. Однако на флоте служат больше, чем в сухопутных войсках.
– Чудак ты, Пашка! Я на флоте готов всю жизнь служить. Всю-всю!!!
20
Ворота на завод всегда стояли распахнутыми, и, если не моросил дождь, не хлестал ветер, вахтер Кузьмич, толстый облезлый старик, сидел возле проходной на изъеденном шашелем, побуревшем от древности табурете и смотрел сквозь узкие щели глаз на заплывшем лице. За воротами виднелась дорога, разбитая тягачами и машинами, сама гора с белым карьером, где когда-то давным-давно рубили камень, чахлый кустарник над ним, а выше по склонам – каштаны, дубы, грабы, ясени. Небо клином падало в щель между двумя вершинами. А по той щели катила воды мелкая, но холодная речка, прохлада от которой чувствовалась даже в самые знойные дни.
Богатырскими плечами Кузьмич обтирал стену проходной, обшитую хорошо подогнанными досками, крашенными коричневой краской. Но видел он не только гору, карьер, дорогу, коршунов, парящих над ущельем. Цепким и зорким взглядом старый вахтер встречал и провожал каждого входящего на завод или выходящего с завода. А поскольку память на лица и фамилии у него была феноменальная, пропусков мы никогда не предъявляли. Если какой-нибудь новичок, не знающий порядков, приближаясь к проходной, вынимал из кармана картонку с фотокарточкой и красной надписью «Пропуск» и протягивал ее вахтеру, Кузьмич совершенно закрывал глаза и кивал важно-важно, чуть опуская и поднимая подбородок.
В то утро я впервые услыхал его голос:
– Сорокин, в отдел кадров.
Слова были сказаны тихо, но чисто и строго. Веки Кузьмича загорелые, как и все лицо, сливались, образуя линию, тонкую, будто лезвие бритвы. Солнце освещало его целиком. Оно висело над ущельем. Тени гор перекрывали дорогу, речку. Туман над речкой не клубился, а легкая слоем, как масло на куске хлеба.
Отдел кадров имел два входа – один с улицы, другой с территории. Я прошел на территорию. Рядом, у механического цеха, стояла цистерна с пивом. Торговля шла бойко. На заднем крыле цистерны лежал рыжий кот и прислушивался к разговорам. Куча стружек – синих, золотых, фиолетовых – египетской пирамидой устремлялась ввысь, не сверкая лишь потому, что ее прикрывала тень, отбрасываемая токарным цехом. Пахло железом.
В отделе кадров стояли запахи бумаги и клея, чернил, дешевых женских духов. Стучала пишущая машинка.
– Я Сорокин. Кузьмич сказал, что меня вызывают.
Девчонка за крайним столом, пробивающая дыроколом какие-то документы, кивком показала на дверь замначальника отдела. Ответила:
– Зайди. Ростков уже там.
Я постучал в дверь, затем открыл ее, не дожидаясь ответа.
Женя Ростков сидел у стола, читал свежий номер многотиражки. Замначальника ругался по телефону.
Ростков неприветливо протянул мне руку, потом опять уткнулся в газету. Я мял в руке кепку и стоял: второго стула в кабинете не было.
– Сорокин, что ли? – спросил замначальника, окончив телефонный разговор.
– Сорокин, – подтвердил я.
– Что же это ты, Сорокин, в самый ответственный период, когда страна наша, понимаешь, и наш город поднимаются из развалин, почему же ты, Сорокин, дезертируешь с трудового фронта? Комсомолец, наверное?
– Комсомолец, – кивнул Ростков.
– Билет забрать у тебя надо, – сказал замначальника.
– Вы мне его не давали, – огрызнулся я.
– Знаем, кто давал. Мы всё знаем. – Замначальника был постарше Росткова, черноволосый. На гимнастерке без погон – два ряда колодок. Первой шла Красная Звезда, а потом какие-то медали. – Сейчас в горком позвоню, и все дела.