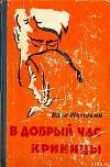Текст книги "Вдруг выпал снег. Год любви"
Автор книги: Юрий Авдеенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 30 страниц)
– Постоянство, Вадим, на дороге не валяется, – попыталась отшутиться Лиля.
– Какое счастье, что ты здесь. Без тебя бы гарнизон осиротел.
В зрительном зале свет горел только на сцене. Худенькая девочка в трико – школьница восьмого или девятого класса, опираясь тонкими руками на рояль, тщательно повторяла большой батман, закидывая назад ногу, которая никак не хотела выпрямляться в колене.
Розовощекий солдат без шинели прошел мимо них. Открыл дверку одной из двух печей, которыми отапливался клуб, и стал подкладывать в печь дрова.
Лиля сказала Сосновскому:
– Ты бы лучше вместо этого розовичка-боровичка Игнатова при клубе оставил. Он бы тебе и печку топил, и мне на гитаре аккомпанировал.
– С Игнатовым одно горе, – поморщился Сосновский. – Поперек артистической карьеры Игнатова старшина Ерофеенко стоит. Настырный мужик. Говорит, клуб – это баловство…
– Авторитет у тебя слабый, – пренебрежительно пояснила Ольга. – Капитан, а со старшиной не справишься.
– «Справишься»! – Сосновский подскочил как ужаленный. – Всему начальству на него жаловался. С него же точно с гуся вода. Служака есть служака!
– При чем тут служака? – возразила Ольга. – Супруга всех начальниковых жен обшивает.
– Тебя тоже, – огрызнулся Сосновский.
– Куда же мне деться?
– Ладно, – сказала Лиля. – Чем сегодня займемся?
– Пролог будем готовить. – Сосновский говорил с обидой. И хмурился. – Я стихотворение подобрал…
…Из клуба Лиля и Ольга шли вместе. Так и не потеплело, хотя солнце светило ярче, чем полтора часа назад, и земля, покрытая снегом, и даже голые осины над нею, и черепичные крыши деревянных домов глядели весело, точно не ноябрь стоял, а март или апрель месяц.
Ольга держала Лилю под руку, прижималась к ней, будто к самой близкой, сердечной подруге и выбрасывала в морозный воздух не менее ста слов в минуту. Лицо Ольги светилось – свежее, молодое, жизнерадостное. Красивые глаза под накрашенными ресницами улыбались, и ничего другого о них нельзя было сказать. Даже цвет назвать невозможно было, потому что они меняли оттенок в зависимости от цвета неба, одежды хозяйки и даже ее настроения.
Злословие не было слабостью Ольги. Слабость у нее была одна – мужчины. Поэтому, не осуждая никого, она постоянно заводила разговор о молоденьких взводных, которые в большинстве своем пребывали в холостяцком положении, а также о ротных, из которых мало кого не повязали узы Гименея. Ольга была на пять лет старше Лили и через каждые семь-восемь фраз не без зависти повторяла:
– Мне бы твои девятнадцать!
Дружба этих двух женщин началась с клуба – единственного места (кроме военторга, куда, как известно, ходила бабушка, а не Лиля), где можно было с кем-то встретиться, поговорить, повеселиться, посмеяться. Умение Лили петь, не говоря уже и об особом положении – дочери командира полка, сделало ее после двух (октябрьского и новогоднего) концертов звездой гарнизона, предметом грез солдат и лейтенантов. Ей передавали записки, встречали на тропинках, на лыжне, звонили по телефону, если твердо знали, что полковник Матвеев не дома, а в штабе.
Это волшебное чувство – быть постоянно в центре внимания, быть предметом желаний и даже страстей приятных и в общем-то хороших молодых людей – скорее всего уместно сравнить с состоянием легкого опьянения. И Ольге тоже ведомо было это приятное состояние…
– Смотри, кадр новенький. Нет, все-таки дуры мы, бабы. Дуры, – глубокомысленно заключила Ольга.
Движение воздуха шевелило лишь самые тонкие, верхние ветки осин. Ели и сосны стояли неподвижные. Белки прыгали по верхушкам, и тогда вдоль стволов сыпался снег, золотой, мелкий.
– Вот пей, пей. Это лучше всякого анальгина, – говорила Софья Романовна, ставя перед внучкой большую чашку с крепко заваренным чаем.
– Чай не поможет, – жалобно сказала Лиля, кутаясь в мохеровую шаль.
Софья Романовна повернула голову, высоко держа маленький подбородок, сощурилась осуждающе. Заявила:
– Простуда. Нельзя зимой ходить в нейлоновых колготках.
– Открытие века, – сказала Лиля. Отхлебнув из чашки, добавила: – Нужно немедленно запатентовать.
– Грубить бабушке у тебя голова не болит, – Софья Романовна произнесла эти слова без обиды. Добродушно причмокнула.
– Я от скуки, бабуля. От скуки человек способен даже повеситься. Очень много примеров в жизни. И потом, сегодня понедельник. А понедельник, давно известно, тяжелый день…
– Тебе работать надо.
– Кем?
– Кем угодно.
– Заметано, бабуля… Только что дальше? У нас в гарнизоне безработица. Как в Соединенных Штатах Америки.
– Болтушка, – Софья Романовна попробовала ладонью внучкин лоб. Удовлетворенно заметила: – Температуры, между прочим, нет.
– Это ничего не значит, – вздохнула Лиля. – Наука, наоборот, приветствует температуру как защитную реакцию организма. А у меня защищаться и сил нет…
– Бедный ребенок, – проворчала Софья Романовна. – Погибает во цвете лет.
– Вот, вот… Придется воспользоваться твоим советом. Сама плакать будешь. – Лиля дурашливо кривила лицо.
– Каким советом? – насторожилась Софья Романовна.
– Хорошим.
– Я плохих не даю… – Чутье подсказывало бабушке, что внучка не шутит.
– Работу мне предложили в поликлинике. – Лиля удовлетворенно, не двигаясь, смотрела на бабушку.
– В санчасти, – поправила внучку Софья Романовна, поправила без всякой надежды, потому что знала: ребенок, выросший в гарнизоне, не спутает санчасть с поликлиникой.
Лиля покачала головой:
– Нет, в поликлинике. И знаешь где?
Софья Романовна молчала. Она собиралась с мыслями. Она только делала вид, что не знает о ночных телефонных разговорах сына с Каретным, о том, что он по крайней мере три раза ездил туда.
– Кто эта Жанна? – спросила Софья Романовна не характерным для нее робким голосом.
– Человек. С ногами, с руками… И всем остальным прочим, способным взволновать мужчину.
Не торопясь, словно контролируя каждое свое движение, Софья Романовна отодвинула стул, села, взяла заварной чайник с ярким, веселым подсолнухом на пузатом боку и налила в чашку темной, терпко пахнущей заварки.
– Бабушка, ты злоупотребляешь чаем. От него бывает желтый цвет лица.
– Если в кого-нибудь влюблюсь, буду румянить щеки, – невозмутимо ответила Софья Романовна и свысока посмотрела на внучку.
Отблеск электрических ламп, спрятанных в три цветных колпака абажура, ложился на стекло окна, которое казалось бы совершенно темным, если бы мокрый снег не налипал снаружи на стекла.
– Хоть бы скорее окончились учения, – кисло сказала Лиля.
Однако Софья Романовна не откликнулась на пожелание внучки.
Лиля капризно заявила:
– Что я, каторжная? Должна сидеть в этой берлоге. И дохнуть от скуки.
Она постучала ложкой о чашку, будто призывая невидимое общество мобилизоваться и обратить внимание на ее девчоночьи нужды. Но, кроме кота Василия, который дремал возле печки, никто не отреагировал на сигнал бедствия из-за стола, потому что Софья Романовна отличалась железным характером и выслушивать нытье внучки считала такой же рядовой неизбежностью, как уборка квартиры и кухонные хлопоты. Кот Василий приподнял правое ухо, хотел было открыть глаза, но явно передумал: ресницы дернулись чуть заметно. И все.
Софья Романовна назидательно сказала:
– Каретное далеко… Чем там, лучше уж нигде не работать. Пой, читай… Вяжи, шей…
– Мне не семьдесят лет, – горячо возразила Лиля. – Ты в моем возрасте уже орден Красного Знамени имела…
– Опережаешь события на целых пять лет, – возразила Софья Романовна. – Орден я получила в двадцать четыре года.
– Очень преклонный возраст, – хмыкнула Лиля.
– Тебе пока еще девятнадцать…
– Думаешь, в двадцать четыре я заслужу хотя бы медаль?
– Ты нытик. И виновата в этом исключительно я, – самокритично призналась Софья Романовна. – Когда мать твоя махнула подолом и со своим любимым скрипачом обосновалась в Ленинграде, я проявила слабохарактерность, спасовав перед такой чудовищной непорядочностью. Виновата я.
– Да, – улыбнулась Лиля. Она была рада, что бабушка переменила тему разговора. – Ты меня разбаловала. Ты мне ни в чем не отказывала. И ты должна баловать меня впредь. Знаешь, чего я хочу?
– Бросить нас. Уехать к Игорю в Москву.
– Нереальное желание. Игорь холост. Ему жениться надо, – махнула рукой Лиля. Наклонилась к бабушке. И прошептала: – Давай я скажу тебе на ушко.
Эта игра у них была давняя. Лет с шести. Софья Романовна мягчела сердцем в таких случаях. Педагог, обычно присутствующий в ней, прятался тогда в самые дальние закоулки души. Она превращалась в обыкновенную бабушку, всем слабым сердцем своим любившую единственную внучку.
– Расскажи мне про свою молодость… – Лиля шептала, теплое дыхание ее было слышным, как и слова.
– О молодости по просьбе не рассказывают.
– Почему?
Бабушка повела зябко плечами, поправила воротник халата. Затем взглянула на часы, что стояли на серванте между фарфоровыми статуэтками, вздохнула:
– Если ты доживешь до моих лет, то поймешь: молодость – это только молодость. Самое важное начинается потом.
Лиля тоже вздохнула, совсем как бабушка. Спросила тихонько:
– Бабушка, а старость – это страшно?
– Если замечаешь, наверное, да.
– Грустный ответ.
– Наоборот, обнадеживающий… Весь фокус в том, что старости никто не замечает.
– И ты могла бы любить, как в девятнадцать лет? – Лиля сощурила правый глаз и даже нетерпеливо потерла переносицу, ожидая, что же ответит бабушка на коварный вопрос.
– К сожалению, должна разочаровать тебя, внучка… Говоря твоим языком, девятнадцать лет – это не тот стандарт, на который следует ориентироваться.
– Фью-юту! – присвистнула Лиля. – Во сколько же лет можно сильнее всего любить?
– В любые лета… – улыбнулась Софья Романовна.
Лиля с удивлением покачала головой.
– Ты даешь, бабуля!
Софья Романовна развела руками – нет, не оправдываясь, может, она просто хотела сказать: «Такова жизнь», но побоялась, что внучка ответит: «Банально, бабушка».
Часть вторая
ГОД ЛЮБВИ
ГЛАВА ПЕРВАЯ1
Лазоревый занимался восход. Стена деревьев от края до края стояла серебристо-белая, холодная, лишь самый верх ее теплел чуть-чуть, едва заметно, но и это обнадеживало: день придет. Дым костров, как обычно, донес бы сейчас запахи сосновой смолы, свежей хвои… Но ни самих костров, да и дыма тоже не было видно. Машины штаба полка стояли замаскированные. Караульным, несшим здесь службу, естественно, разводить костры не позволялось.
Рядовой Истру, караульный на втором посту, хорошо видел машину полковника Матвеева. Разводящий сержант Лебедь, оставляя его на посту, предупредил:
– Будьте осторожны. В машине много начальства. Надо полагать, там происходит нечто вроде ученого совета.
– Военного, – поправил Истру.
– Это одно и то же, – невозмутимо ответил Лебедь. И повел караульную смену дальше.
Мишке Истру в его армейской биографии всего третий раз выпала почетная задача нести караульную службу. Но он думал так, что если бы кому-нибудь или всем сразу великим физикам выпала доля морозной ночью два часа отстоять на посту, они убедились бы, что эти два часа в силу совершенно таинственных причин способны растягиваться как резина. Два часа превращались отчего-то в двадцать.
Почему-то там, в родном Кишиневе, время обладало противоположной особенностью. А вечерами на свиданиях с девушками сжималось с непостижимой силой.
Мучительно захотелось курить. Но даже он, Мишка Истру, вольно толковавший положения устава, придерживающийся традиционного мнения «устав не догма, а руководство к действию», понимал, что о курении на таком посту не может быть и речи.
Единственным утешением было сознание, что учения не вечны. Через пару дней наступит им конец. И тогда гарнизон, теплые казармы… «Окно в Европу» – полковой клуб… «Какая-никакая, а отдушина», – думал Истру.
Мишка никогда в жизни не имел привычки врать. Он имел привычку несколько приукрашивать события, возвеличивая в них свою собственную роль. Но в конце концов каждый видит мир по-своему, и тут уж, как свидетельствует наука, ничего не поделаешь… Истру действительно носил за оператором кинокамеру и кассеты к ней на киностудии «Молдова-фильм». Оператор был занудный, старый. И житье у Мишки было совсем не райское. Но факт причастности к искусству кино имел место в его биографии. Поэтому не кривя душой, честно глядя в зачумленные глаза начальника клуба Сосновского, Мишка внятно и проникновенно мог известить:
– До службы я работал на киностудии «Молдова-фильм».
Несмотря на все усилия, праздничный концерт трещал у Сосновского по швам. Лучший из танцоров, светло-русый, голубоглазый, но почему-то носивший высокотитулованную восточную фамилию Шакбекханов, был внезапно отозван в ансамбль песни и пляски военного округа. Аккордеонист-виртуоз, душа и надежда самодеятельности, прыгая через коня на занятиях по физкультуре, вывихнул ключицу и теперь лежал в санчасти, закованный в гипс. Лиля Матвеева, хотя и начала репетиции с гитаристом Игнатовым, из-за своего характера была солисткой столь же надежной, как и прогноз погоды. Голосок жены Сосновского Ольги, даже усиленный микрофоном, оставлял желать лучшего. Начальник клуба понимал обреченность ситуации, и у него даже будто бы побаливала печень. Хотя он точно знал, что печень здорова. Однако минутами ему хотелось жалеть об этом.
Мишка вырос перед ним словно из-под пола. Еще секунду назад в полутемном клубе Сосновский не видел никого, а теперь тут рядом навытяжку стоял рослый, красивый с лица солдат и заявлял, что он друг рядового Игнатова и до армии работал на киностудии «Молдова-фильм».
– Кем? – с надеждой спросил начальник клуба.
Мишка предвидел: первым вопросом будет именно – кем. Он не мог соврать старшему по чину, он бы презирал себя за это. Мишка решил сказать лишь половину правды:
– Артистом-дублером.
На самом деле однажды во время съемки кинокомедии он прыгал в воду с трехметровой вышки. Прыгал четыре дубля. И Мишка совсем не виноват, что в фильм попал пятый дубль, когда прыгал сам актер.
– Хорошо, – кивнул Сосновский. И предположил: – Вы желаете участвовать в художественной самодеятельности?
– Желаю, – выдохнул Мишка.
Он сам удивлялся, почему желание участвовать в солдатской самодеятельности так долго дремало в нем. Пробудил желание старшина Ерофеенко. Не так давно вечером он вошел в расположение второго взвода и радостно, словно весть о внезапной демобилизации, объявил, что сейчас пять человек отправятся на кухню чистить картошку, потому что машина, именующаяся картофелечисткой, сломалась по неизвестной причине. Ерофеенко назвал фамилии, среди которых была фамилия Славки Игнатова. Славка шустро вскочил и сказал:
– Разрешите доложить, товарищ прапорщик. Мне нужно в клуб на репетицию художественной самодеятельности.
– Опять двадцать пять, – смурно пробурчал Ерофеенко, но вдруг оживился. – Тогда вместо вас на кухню – рядовой Истру.
Сурен даже подпрыгнул от восторга. Наблюдательный Ерофеенко удовлетворенно кивнул и тут же принял соломоново решение:
– Рядового Асирьяна назначаю вам в помощники.
Сидя над ведром с картофельными очистками, Истру почувствовал неодолимую тягу к искусству. Мысли его были далеко, взгляд, как у странника, блуждал между пропахшими солдатскими щами стенами кухни и яркими огнями, ведущими в лес, к дороге, за которой был клуб. Как после признавался Сурен, ему показалось, что с минуты на минуту Мишка Истру разразится монологом Гамлета.
– Ваше амплуа? – не без страха спросил Сосновский, опасаясь ответа – художественное слово, потому что для посредственного чтения стихотворений он мог бы набрать целый взвод, роту, а при небольшом усилии и батальон.
– Конферанс, сатира, юмор, – почему-то в нос, с французским акцентом произнес Истру. Снисходительно добавил: – Мелодекламация.
– На чем играете?
– Играет мой друг – рядовой Слава Игнатов.
– Да-а… – несколько разочарованно протянул Сосновский. – Надо послушать.
– Сами понимаете, – доверительно, как профессионал профессионалу, пояснил Истру. – Конферанс следует готовить; если бы на неделю меня освободили от занятий, я бы непременно успел к празднику.
– Да-а, – снова неопределенно протянул Сосновский. – Может, пока почитаете сатиру?
Мишка степенно кивнул, объявил неторопливо:
– Видите ли, я не только читаю сатиру, но и сам ее сочиняю… Прежде чем идти сюда, к вам, я, можно сказать, провел бессонную ночь… Сложилось кое-что… С учетом армейской специфики. Но вещь еще нуждается в доработке…
– Я понимаю, я понимаю, – нетерпеливо прервал его Сосновский, которому время было идти обедать: Ольга очень не любила, когда муж опаздывал.
Истру несколько сместил события. Ночью он спал как убитый, ибо еще на кухне вспомнил одну историю, слышанную им однажды на студийном «капустнике». Правда была лишь в том, что он действительно несколько приспособил ее для армейской аудитории.
Сняв шапку, Истру решительно поднялся на сцену. По мере возможности изобразил старика – согнул свои широкие плечи, наморщил лоб – и вдохновенно начал:
– «Колхоз в селе Кузькине я возглавляю уже десять лет. Первые годы особенно трудно было. Хлопот по хозяйству, забот, как говорится, под самую завязку. На третью осень голова чистой стала, что бильярдный шар… Потом крепнуть начали, на ноги подниматься… И вот прошлой осенью приходит ко мне директор клуба Кузьма Игнатьевич и говорит:
– Скучно живем, Илья Петрович. Заели танцы: среда, суббота, воскресенье. Не поспешаем за духом времени. Как ленивые кони бредем. А надо бы по культурной линии рысцой, рысцой…
– Хорошо, – говорю, – начальник культуры. Что предлагаешь?
– Самодеятельную киностудию организовать…
Киностудию так киностудию. Не то чтобы я загорелся этой идеей. Но почему не организовать? Современно, модно… Материальные возможности имеются. Отпустили для этой цели деньги. Дело завертелось…»
Далее Мишка, нещадно эксплуатируя свои сатирические способности, поведал забавную историю про самодеятельную киностудию «Кузькин-фильм», за которой угадывался, конечно же, не только «Кузькин-фильм».
– Ничего, – сказал Сосновский. – Даже неплохо. Только для эстрады немного длинновато… И потом, начальник клуба глуповатый.
– Не начальник, а заведующий, – поправил Истру.
– Да, да, заведующий.
– Я над этим образом поработаю.
– Вот, вот!
Сосновский повернулся и чуть ли не бегом направился к двери, где светилась красная надпись: «Запасный выход».
– А как насчет освобождения, товарищ капитан? – крикнул Истру.
– Служи пока, служи… Потом чего-нибудь придумаем.
Мишка почесал затылок. И надел шапку…
Дверь штабной машины отворилась. Первым вышел подполковник Хазов, за ним начальник штаба Пшеничный. Четырех других офицеров Истру не знал. Пшеничный кинул взгляд в сторону Истру, словно хотел убедиться, что часовой на месте. Не сказал ничего. Пошел к дороге, опустив голову. Возможно, боялся поскользнуться. Хазов замешкался, похоже, хотел вернуться, но передумал. Остальные закурили. Мишка Истру позавидовал им.
Полковник Матвеев вышел минут десять спустя. Посмотрел в сторону восхода. Сказал:
– Холодно.
– Так точно, товарищ полковник, – ответил Истру.
– Синоптики уверяют, что будет еще холоднее.
– Плохо.
– Сами вы откуда?
– Из Кишинева.
– Там другой климат… – Полковник Матвеев словно раздумывал, куда ему идти.
– У нас есть такая притча, – сказал Истру. – Когда бог делил землю, молдаванин к дележу опоздал. Потом прибежал, просит бога, дескать, дай мне клочок земли. Бог говорит: «Нет у меня земли». Но молдаванин оказался настойчивым. Просил и просил. Тогда бог сжалился и сказал: «Земли нет, возьми себе кусочек рая».
– Не приходилось там бывать, – пожалел Матвеев.
В это время послышалось урчание мотора, а на дороге появился командирский «газик». Коробейник вышел из машины. Пнул носком сапога переднее колесо. Он был чем-то недоволен.
Матвеев натянул перчатки. Подошел к машине, что-то сказал Коробейнику. Мишка Истру не расслышал. Мишка думал, что все-таки неплохо быть командиром полка. Это, конечно, должность. Здесь тебе и почет и уважение. И все встают при твоем появлении.
Мишка подумал, а не податься ли ему в военное училище… Снег задиристо и бодро поскрипывал под его валенками. Утро светлело и будто бы обещало погожий день. Мишка помечтал о теплой лесной избушке, сухом вине, жареной баранине. И чтоб гитара была, и девочки… Вздохнул. И твердо решил: командирская должность не для него.
2
Прапорщик Ерофеенко убедился: ночлег прошел благополучно. Обмороженных не было. Правда, рядовой Асирьян из второго взвода прожег шинель. Новую шинель. Обидно. Но здесь уже ничего не поделаешь. В мастерской починят.
– Товарищ прапорщик, – говорил Асирьян, – я не виноват. Совсем не виноват. Ветки клали, уголек полетел. Пожар всегда считался стихийным бедствием.
– Пожары и по глупости бывают, – мрачно возразил Ерофеенко. – А стихийными бедствиями считаются наводнения, землетрясения…
– Утопления, – подсказал Асирьян.
– Утопления, – повторил Ерофеенко. Потом вдруг задумался. И подозрительно спросил: – Какие утопления?
– Ну если кто утоп. – Асирьян серьезно и преданно смотрел прапорщику в глаза.
Ерофеенко потер пальцами обросший подбородок, сказал не очень уверенно:
– Утопленники тоже разные бывают.
Асирьян вспомнил:
– Вот у нас на Севане один сапожник утонул. Трижды.
– Не говорите глупостей, Асирьян.
– Нет, правда, товарищ прапорщик. Он первый раз утоп, его откачали. Он на другой день опять утоп. Его опять откачали… Через неделю он снова утоп, и уже бесследно. В тот день «бормотуху» в магазин завезли. От нее никто не всплывает.
– Шутник вы, Асирьян, – вздохнул Ерофеенко.
– Нет, правда… А у того сапожника еще любимая песенка была. Он ее жене пел… Коль не купишь «бормотухи», я уйду к другой старухе…
– За завтраком вы со мной пойдете, – сказал Ерофеенко. – Это точно.
Асирьян улыбнулся. Ему, разумеется, не хотелось тащить на себе термос с кашей. Но, увы, приказы не обсуждают.
Позиция, которую занимала рота, находилась на значительном удалении от дороги, куда подходили полковые кухни. Кормить же солдат горячей пищей, по крайней мере, два раза в сутки при таких морозах нужно было обязательно.
Каждый взвод выделял по два человека. И они, став на лыжи, под командой Ерофеенко уходили к пищеблоку.
Конечно, Ерофеенко мог вместо себя направить кого-нибудь из сержантов, но прапорщик по старой солдатской привычке не очень доверял поварам. Считал необходимым лично проследить, чтобы норма, положенная роте, была выдана сполна.
3
– Ваш полк я по-прежнему буду держать в резерве, – сказал генерал, повернувшись спиной к карте. Генерал был молодой. Служба давалась ему легко. Это было заметно сразу.
«Он в сорок лет стал командовать дивизией, – подумал Матвеев. – Да и полком командовал всего три года. За три года не прирастешь душой к солдату. А гарнизон не станет родным домом».
– Я люблю иметь надежный резерв, – продолжал генерал, строго глядя в глаза Матвееву. От генерала пахло каким-то тонким одеколоном. Запах этот раздражал Матвеева, который предпочитал всем одеколонам «тройной», да и тем пользовался лишь после бритья.
– Ваш полк надежный? – В голосе генерала был вопрос.
– Безусловно, товарищ генерал, – уверенно ответил Матвеев и почувствовал легкое головокружение. Скорее всего от жары. Машины штаба дивизии стояли на площади перед сельской школой. Но сам генерал занял домик, на котором Матвеев, поднимаясь по ступенькам, прочитал вывеску: «Районное отделение Союзохоты».
– Это хорошо, что безусловно, – заметил генерал. – Потому что условия могут возникнуть самые неожиданные.
– Я понимаю вас.
Генерал прошел к маленькому столу, похожему на школьную парту, где ничего, кроме телефона, не стояло. Сел на край стола. Спросил:
– Полковник Матвеев, вам не тяжело переносить полевые условия?
«Трудный человек, – подумал Матвеев. – Все-таки людская молва не всегда обманчива. Как только слух о назначении дошел до дивизии, уже все знали – умный, грамотный, но подозрительный и жестокий».
– Нет, не тяжело. Я привык.
– Хорошая привычка.
– С военных лет. Я ведь воевал, товарищ генерал.
– Я знакомился с вашим личным делом, – кивнул генерал. И тут же добавил: – Быстро летит время. Стареют ветераны…
Матвеев хотел сказать, что стареют не только ветераны, но и те, кто не успел попасть на войну. Но в глазах генерала было столько тяжести и власти, что Матвеев счел за лучшее промолчать.
– Вы холосты? – спросил генерал.
– Разведенный.
– Это плохо. Это очень плохо. Все-таки семья, она греет. Создает уют, что, в конце концов, продлевает жизнь и здоровье.
– Со мной вместе живут моя мать и дочь.
– Я слышал, она очень красивая.
– Мне трудно судить.
– Это верно. – Генерал встал со стола. – О себе и своих близких судить непросто.
Он подошел к Матвееву, протянул ему руку:
– Ладно, полковник, выполняйте задание. Берегите людей и себя. Признаться честно, я никогда не любил зимние учения…
В детстве зимы не было. Нет, она обозначена была на календаре. И существовала где-то там, далеко, со снегами и морозами. А у них, как и весною, как и осенью, нудно и непрерывно лил дождь, вымывая комки из желтой глины.
Он, Петя Матвеев, несколько раз терял галоши, которые были чуть великоваты и прилипали к глине, словно это был клей. Приходилось возвращаться след в след, но тогда промокали ботинки. И наваливалась простуда… Мать давала ему аспирин, аспирин вызывал пот – лежать на подушке под теплым ватным одеялом было тяжело и противно. И сны снились тяжелые и противные. Какой-то темный длинный туннель с ярким, но не солнечным светом в конце. Пробуждение начиналось со слабости, с нежелания шевельнуть рукой или ногой. Мать приносила горячее молоко в большой чашке с синими цветами. Однако в молоке плавало масло. И пить его можно было, только закрыв глаза и задержав дыхание. Отец шутил подбадривая:
– Терпи, казак, атаманом будешь!
А за окнами по-прежнему лил дождь. И горы стояли хмурые, черные. Даже не верилось, что там знакома каждая тропка, каждый обрыв…
Полковник Матвеев вышел из дома, спустился с крыльца. Сощурился от яркого солнечного света, блестящего на снегу, точно на экране. Возле школы по-прежнему стояли машины штаба, где-то за ними его «газик». Над избами тянулись вверх дымки. В сарае справа за кривым забором, утонувшим в снегу, как в болоте, отчаянно кудахтала курица.
– Петро!
Из-за дома вышел Игорь, с ним суховатый полковник с не по-зимнему загоревшим лицом и еще мужчина, штатский, в дубленке, обвешанный фотокамерами.
Братья расцеловались. Игорь представил:
– Мои коллеги по журналу. Полковник Кутузов Василий Дмитриевич, заведующий отделом. И фотокорреспондент Крякин Валентин Георгиевич.
– Можно просто Валентин, – сказал Крякин, пожимая руку Матвееву.
– Хорошо быть молодым, – улыбнулся Матвеев. – Правда, Валентин?
– Правда, Петр Петрович.
– Ну что, товарищи журналисты, – сказал Матвеев, разводя руками, – милости прошу в гости. Машина со мной. Полк пока находится в резерве. Места красивые. Подледную рыбалочку для вас организовать можно. Банька финская настоящая в лесничестве есть.
– Рыбалка и банька – это хорошо, – поморщился в улыбке Кутузов и потер перчаткой о перчатку.
Крякин мрачно вздохнул. Сказал с тоской в голосе:
– Мне в резерв нельзя. Мне на главное направление нужно, чтобы были танки, вертолеты. Стрельба и взрывы… Я к вам попозже приеду.
Матвеев ответил:
– Попозже, Валентин, мы и сами можем оказаться на главном направлении.
4
Тепло осязаемо и густо шло от сушильного колпака. Жанне стало казаться, что у нее расплавится голова.
Зеркало, которое висело на противоположной стене салона, отражало ее всю, прикрытую белой простыней до самых коленей. Но колени, полные и круглые, были открыты. И ноги были обуты в сапожки, привезенные отцом из туристской поездки по Скандинавии.
Мастер в белом халате, коренастый и лысенький, но очень знаменитый в Каретном, накручивая на бигуди волосы другой клиентки, изредка поглядывал на Жанну. И тогда ей хотелось натянуть простыню пониже, однако, увы, простыня была короткая.
Жанна заболела. Считается, что врачи не могут болеть. Но Жанна заболела самым честным образом. Термометр показал температуру 38°, и Жанне выписали больничный лист, поставив в графе «Режим» слово «постельный».
Из поликлиники Жанна вышла с благими намерениями. Предполагала зайти в магазин, купить чего-нибудь съестного и потом залечь в своей комнате, как медведь в спячку. Она прошла до конца улицы, заснеженной и красивой, с большими деревьями и веселыми домиками финского типа, как вдруг налетела метель, такая сильная, что Жанна едва устояла на ногах. Дверь парикмахерской была в десяти шагах. Жанна сделала эти шаги вслепую. Отдышалась у гардероба. Подумала, ну когда ей еще удастся выбраться в парикмахерскую, если она шесть дней в неделю то принимает, то уезжает по вызовам.
Она заглянула в салон. Знаменитый мастер сидел в кресле и читал газету. Жанна кашлянула. Мастер поднял голову. Расплылся в улыбке. Сказал:
– Раздевайтесь.
Жанна сняла шубу и шапку.
Сушильный колпак свирепствовал. Она хотела подать знак мастеру, чтобы он пришел на помощь, но вдруг подумала: «Может, вот такое интенсивное тепло и есть самое лучшее средство в борьбе с простудой. Почему бы нет? Чем глотать таблетки, лучше потерпеть».
Однако мастер потому и слыл знаменитым, что обладал редчайшей способностью угадывать мысли клиента. Он подошел к Жанне. Просунул руку под колпак. Спросил вкрадчиво:
– Не жарко?
– Терпимо, – бодро ответила Жанна.
– Чудненько. Через пять минут я займусь вами.
Он вернулся к клиентке, которая сидела по соседству, страшная как черт и чертовски желавшая быть красивой. Жанна подумала, что все женщины мечтают о красоте. А интересно, как мужчины? Страдают ли мужчины из-за больших ушей или кривого носа? Наверное, страдают. А может, нет. Может, им наплевать. Вон сколько красивых баб любят и узколобых и большеносых. Рожают им детей. И чувствуют себя счастливыми.
Бывший муж Жанны был красивый мальчик. Картинка, с которых делают рекламные фотографии для парикмахерских. И девочки засматривались на него. А он на них. Особенно на тех, кому едва исполнялось восемнадцать.
– Смотри, глаза косить начнут, – предупреждала его Жанна.
Он счастливо улыбался и говорил:
– Ревнуешь?
Ревновала ли она? Трудно ответить. Прежде следует разобраться, что означает слово «ревность». Едва ли оно однозначно. Это скорее всего комплекс чувств. Тут и обида, и досада, и разочарование, и мстительность. И что-то, может, еще другое, о котором сразу и не вспомнишь, сидя здесь под колпаком.
Четким было только разочарование. Остальное если и присутствовало, то лишь в самом зачаточном состоянии.
Мастер щелкнул выключателем, поднял колпак. Легко потрогал ее волосы. Сказал: