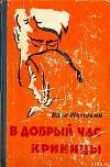Текст книги "Вдруг выпал снег. Год любви"
Автор книги: Юрий Авдеенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц)
Я ушел. Вечер теперь обрел силу. На столбах ожили фонари. Двухэтажное здание бани высилось между старыми акациями, щедро раздаривая огни окон листьям, колючкам, шершавой коре стволов.
Ходьбы до нашего дома около десяти минут. В доме я тоже не задержался. Словом, через полчаса я вновь оказался возле здания бани. Еще издали увидел, как от входа укатила карета «скорой помощи». В вестибюле застал десятка два взбудораженных клиентов, одетых кто в чем, и работниц бани – немолодых женщин в белых халатах. В бане теперь пахло не свежей краской, а гарью и лекарствами. Из разговоров, а также возмущения понял: какой-то псих так усердствовал в парилке, поддавая пару, что взорвал чугунную печь, неумеренно обрушивая на нее из шайки холодную воду. Я почти не сомневался: во всем городе подобным образом мог париться только мой отец.
Его увезли на «скорой» с ожогами и нервным шоком. Но когда я минут через сорок принес в больницу одежду, отец потребовал у меня бумагу и карандаш. Сказал:
– Я буду писать жалобы вплоть до Москвы, потому что чугун в парилке был бракованный.
На другой день у него начались головные боли и судорожные приступы. Поскольку он был убежден, что лечить умеют только в Краснодаре, просьбу его удовлетворили.
Вскоре он прислал короткое письмо:
«Мне сдеся лучше пока належу пачени третью ступеньку на крульце гвозди возьми в железной коробки где уголь коробку полажи на место устраивайся на работу узнай приехал ли Шакун сабщи здоровье ката Маркиза отец».
Третью ступеньку я починил, и четвертую тоже. Шакун из санатория вернулся, но уехал на совещание в Одессу. Я хотел дождаться Шакуна и только потом решить, устраиваться мне на работу или нет. Кот Маркиз ходил отощавший. Иногда орал без причины, видимо вспоминая веселые ночи и веселых кошек.
На днях повстречался Заикин. Предложил поработать в магазине подсобным рабочим. Я, наверное, позеленел от злости, однако Игнат Мартынович пояснил невозмутимо:
– Заведующим тебя не оформят.
– Дайте лоток, – дурачась, попросил я. – Пирожками торговать буду.
– Не сезон, не сезон, – торопливо ответил Заикин, который теперь уже был не директором магазина, а заместителем управляющего Курортторгом. – Впрочем, киоск галантерейный могу дать. Тот, что на рынке.
– Рядом с фотографией.
– Вот-вот. Осилишь?
– Там же этот… лысый и кучерявый, – я повертел пальцем над своей головой, изображая завитушки.
– Абрамсона мы послали завстоловой в доме отдыха «Прибой».
– Надо подумать, – сказал я.
– Только не вечность. Срок неделя. У нас точка простаивает. А план с нее, между прочим, никто не снимал.
На другой день я пошел к Майе Захаровне за советом.
– Да ты что, деточка? Посадят! – всплеснула она руками. – Через три месяца посадят, а может, и через два.
– Абрамсон же работал.
Она выпустила из себя воздух, как паровоз выпускает пар:
– Абрамсон! Абрамсон в этом деле съел не только волка. Он съел и волка, и козу, и капусту, и лодочника, и лодку, на которой бедолага должен был перевезти всех этих тварей. А ты говоришь: «Абрамсон!»
Портфель Грибка весил прилично, словно там лежали камни. Мне не хотелось менять руку: еще подумает Зайцева, что я слабак. И я чувствовал, как немеют пальцы, затекает рука. Улица, где жила учительница математики Марианна Иосифовна, называлась Красный Урал. Это была одна из немногих ровных улиц в городе, потому что ей выпало место между двумя горами, и выражение «улица утопала в садах» соответствовало ей в буквальном смысле: сады справа и слева были над улицей до самого неба. Зеленая река среди других рек.
Марианна Иосифовна жила в небольшом, но отдельном доме с синей террасой, похожей на лодку. Хозяева дома погибли во время бомбежки. Две сестры – пожилые, бездетные женщины. Бомба не попала в дом – врезалась в сарай с дровами, что стоял через площадку от дома. Бомба килограммов на сто разметала и сарай, и дрова, а дом крепко побила осколками. Обе сестры были убиты на террасе – они торопились в щель, вырытую возле калитки.
С сорок второго по сорок пятый год дом и сад стояли заброшенные, как многие дома и сады на этой и других улицах. Потом горкомхоз произвел ремонт. Марианне Иосифовне дом достался в чистом, приличном виде.
Я остановился возле калитки, а Даша по выложенной плоским камнем тропинке поднялась на террасу. Постучала в дверь. Марианна Иосифовна жила одна. Она сказала радостно:
– О, Зайцева! О, проходите!
Говорила она с заметным акцентом, но не путала ни слова, ни окончания. Немецкие военнопленные, которые сразу после войны ниши в Доме культуры моряков, обнесенном по этому случаю колючей проволокой, говорили по-русски много хуже.
– О, Сорокин! – Марианна Иосифовна увидела меня. – Проходите!
Я поклонился и сказал, что лучше обожду здесь.
– О, то есть как? – спросила Марианна Иосифовна громко. Она совсем не выглядела больной. – Русское гостеприимство!
Раз гостеприимство, да еще русское, то я поплелся вслед за Грибком. Как и в большинстве здешних домов, прихожей у математички не было. Комната начиналась сразу за террасой. Средних размеров комната, обставленная крепкой дубовой мебелью, которую я видел только на страницах переводных книг. Были в комнате и ковры, и много хрусталя. Был саксонский фарфоровый сервиз – золотистый, с пузатыми дяденьками и грудастыми тетеньками на чашках и блюдцах. На стенах висели картины, изображавшие охоту, замки, битую дичь.
Марианна Иосифовна угостила нас кофе, при этом дважды потрясла меня. Первый раз тем, что сварила его на спиртовке, прозрачной, видимо из стекла, нежного розоватого цвета. Второй раз тем, что подала нам его в чашках маленьких-маленьких, похожих на игрушечные. Кофе оказался густым, горьким и противным. Собравшись с духом, я осилил его исключительно из вежливости.
Даша и Марианна Иосифовна говорили о какой-то муре: про погоду, про контрольные. Я терпеливо молчал. Потом Даша взяла тетрадки, и мы ушли.
За калиткой я предложил:
– Надо бы собраться… Как тогда у Жанны.
– Мне тогда мать всыпала. Сказала: еще раз запах вина учую, пеняй на себя.
Я посоветовал:
– Скажи матери в субботу, что поедешь к тетке в Лазаревскую, а проведешь ночь у меня. К тетке же смотаешься утром.
– Нет, – возразила Даша. – У тетки язык что помело. Она обязательно проговорится, когда я приехала, когда уехала…
– Это плохо, – согласился я. – Но все равно ты должна прийти ко мне в гости.
– Лучше я приду к тебе днем. Днем мне удобнее. Скажу, что пошла в библиотеку готовиться к сочинению.
– Скажи сегодня, – попросил я.
– Нет. Сегодня в четыре часа я пойду с мамой к портнихе. – Даша немного подумала и сказала: – Если только сейчас…
– Можно и сейчас, – согласился я. – Зачем терять время?
Мы повернули направо и пошли через переулок, узкий, горбатый, в острых камнях и сухой глине, прямо к нашей улице. Даша была спокойна, словно действительно шла в библиотеку. Я подумал, что не знаю ее совсем, хотя учились мы в одном классе почти четыре года.
Голуби белой стаей кружили над горой и садами, уже тронутыми желтизной осени. Где-то рядом, за заборами, поросшими ожиной и лопухами, давили виноград. Вино еще не пахло хмелем, потому что было молодым. Хмелем пахли бочки. Они всегда пахли так.
Капитан Щербина шел проулком навстречу нам. Он был в милицейской форме, что случалось с ним редко. Он подмигнул мне и сказал:
– Привет, Антон.
– Здравствуйте, дядя Вася.
– Отец что, опять в Краснодаре? – спросил Щербина.
– В Краснодаре.
– А ты?
– Да вот хочу проситься к вам в уголовный розыск, – пошутил я.
– Ну-ну, – ответил он. – Заходи…
Щербина возглавлял городской уголовный розыск с первых дней войны. Ему было что рассказать о своей работе. А напиши он книгу, уверен, получилась бы не хуже, чем о Шерлоке Холмсе. Но Щербина не писал книг, не рассказывал о себе, больше улыбался…
– У тебя такие знакомства, – тихо сказала Даша, когда Щербина был уже метрах в пяти за нашими спинами.
– Гордись! – ответил я.
– Нет, а серьезно… Откуда ты его знаешь?
– Дядя Вася довоенный приятель отца…
– А сейчас? – любопытствовала Даша.
– Сейчас они не дружат, – сказал я. – Отец, когда вернулся, начал ревновать мать совершенно ко всем… А так дружить нельзя. Понимаешь?
– Понимаю, – ответила Даша.
Я молил бога, чтобы во дворе не оказалось тетки Тани или Глухого. Несдержанная на язык соседка растреплется всей улице, что я приводил к себе девчонку. Глухой может прогундосить какую-нибудь шутку, но, поскольку юмор у Прокоши получается мрачный, лучше бы нам остаться незамеченными.
В траве у забора блаженно грелся на солнце кот Маркиз. Мирно копошились в земле куры. Хрюкал поросенок. Двор был пуст, окна квартиры Глухого завешены гардинами.
Мы спокойно прошли через двор, повернули налево и оказались возле нашего крыльца, которое кисти винограда украшали, как игрушки елку. На крыльце, подперев ватником дверь и свесив обутые в пыльные кирзачи ноги, улыбался старец Онисим.
Описывать то, что я испытал при виде его физиономии, – мартышкин труд. И так все ясно. Я спросил, ворочая непослушным языком:
– Что принесло тебя сюда?
– Не что, а кто, – заморгал Онисим. Чихнул и вытер нос рукавом гимнастерки. – Господь бог крылья мне приделал. И говорит: не оставляй одного Антошку… Соскучился я по тебе, отрок.
– Сходил бы ты в парикмахерскую, – зло посоветовал я, хотя Онисим, как всегда, был хорошо выбрит и подстрижен.
– На парикмахерскую только и работаю…
– Перетрудился?! – Мне хотелось схватить его за шиворот и вышвырнуть с крыльца, чтобы он бежал до конца улицы, не оглядываясь.
Я забыл, что Онисим может читать мысли. А он сказал:
– Ты не злись, Антон. Знаю, что помешал, да не по силам идти мне нынче. Гудят ноги заместо проводов на ветру… А злиться все равно не нужно. От злости болезнь по имени рак бывает. Это вредно.
– Я пойду, – скучно сказала Даша и взяла у меня портфель.
– Иди, голубушка, иди… И не торопися. В подоле принести дело нехитрое. Ты себя к трудному готовь, а простое само собой случится…
Даша уходила, нагнув голову и покусывая губы. Солнце прорывалось сквозь виноградные листья яркими пятнами размером с кулак, они колотили Дашу по спине. И Даша согнулась и больше не была стройным и высоким созданием, на которое засматриваются мужчины. Она казалась мне прежним Грибком, тем, из школы…
– Ну чего ты от меня хочешь? – опустошенно спросил я.
– Помощи, – твердо ответил Онисим.
Часть вторая
СОРОК НОЧЕЙ ПОД ЧУЖИМИ КРЫШАМИ
Выше всяких добродетелей в человеке следует ценить порядочность.
Сосед Домбровский
Первое и самое важное для человека – желудок. От него здоровье зависит, хорошие желания.
Старец Онисим
1
Струя пара с хрипотцой и шипящим свистом ворвалась под колеса паровоза. Нищий свет лампочки, плавающий над перроном в синеве ночи, вдруг проник в пар роем мелких сверкающих точек, который начал перемещаться вдоль рельсов, оставляя на асфальте перрона с самого-самого края узкую черную полосу.
Над горами небо было светлее, чем над морем.
Люди с чемоданами, корзинами, мешками кинулись к вагонам.
Онисим крикнул:
– Поспешай!
Я вцепился в скользкий, холодный поручень. Было около четырех часов утра.
2
Накануне вечером я пил чай у Домбровского.
Станислав Любомирович сидел на своей любимой скамеечке, ворошил старой чугунной кочергой жар в печи. Красный отблеск падал на жесть, прибитую перед печкой, на кисть руки учителя.
– Птенцы улетают из гнезда, – Домбровский покачал головой. – Это не просто красивая фраза. Мой старший сын Михаил в тридцать седьмом году внезапно уехал в Тихорецк и поступил в техникум путей сообщения. Ему тогда не исполнилось и семнадцати.
Он никогда не говорил о своих сыновьях, во всяком случае со мной. А с кем еще он разговаривал, откровенно разговаривал, на этой улице, в этом городе? У него было два сына. Младший – Георгий. Он погиб в июле сорок первого на Украине. Жена Зоя Владимировна умерла от тяжелых ранений в августе сорок второго. Старший сын Михаил был убит в Германии в апреле сорок пятого. В июле газеты опубликовали Указ о присвоении Михаилу Домбровскому звания Героя Советского Союза (посмертно).
Михаила я почти не помню. Если он уехал в тридцать седьмом году, то мне тогда было только шесть лет. Я еще не ходил в школу. Георгия я знал. Георгий играл в футбол и вертелся на перекладине. Перекладина – врытые в землю столбы и водопроводная труба между ними – была во дворе Домбровских, рядом с домом.
– Я запросил военное министерство. Мне любезно прислали некоторые копии архивных документов, касающихся Михаила. Ты можешь их посмотреть…
3
Из личного дела Домбровского Михаила Станиславовича № 039684[3]3
Номера документов, воинских частей и фамилии командиров вымышленные.
[Закрыть], стр. 7:
«Боевая характеристика на командира 463-го стрелкового Висленского полка майора Домбровского Михаила Станиславовича.
Удостоверение личности серия XII 000001, № 133745, 1920 года рождения, уроженец РСФСР, Краснодарского края, город Туапсе, поляк, член ВКП(б) с ноября 1943 года, образование: общее – техникум путей сообщения, город Тихорецк; военное – Краснодарское военное пехотное училище в 1941 году. В Красной Армии с 1939 года, участник Отечественной войны с августа 1941 года. Имеет два ранения и одну контузию.
В занимаемой должности командира полка с 15.8.1944 года, до этого исполнял должность заместителя командира полка.
Участник боев за рубежи рок: Молочная, Днепр, Ю. Буг, Днестр, Висла.
В самых сложных условиях наступательного боя умеет организовать взаимодействие и управление приданных поддерживающих средств, оборону строит умело и продуманно. Принимает смелые и продуманные решения.
В бою на Висленском плацдарме в районе местечка Сборув (Польша), когда противник бросил крупные силы пехоты и танков, пытаясь окружить полк, майор Домбровский во главе арьергардной группы смелым маневром отвлек главные силы противника и дал возможность дивизии развернуться и занять оборону, нанеся противнику тяжелые потери.
В период боев на левом берегу реки Одер (Германия) полк под командованием майора Домбровского переправился через реку Одер, с ходу атаковал противника, теснившего действующие на плацдарме части и угрожавшего городу Олау, овладел населенными пунктами Штановец, Мерцдорф и восстановил положение.
Развивая наступление на плацдарме, полк майора Домбровского занял 17 населенных пунктов, превращенных немцами в сильно укрепленные опорные пункты. В результате чего плацдарм был расширен и полк представлен к наименованию Одерского.
Дисциплинирован. Исполнителен. Тактически грамотен. Над повышением своих знаний работает, боевые действия полка строит на изучении предыдущих боев, в бою находчив, принимает неожиданные для противника дерзкие решения, навязывая ему свою волю.
Требователен к себе и подчиненным. Пользуется заслуженным авторитетом среди личного состава.
За умелые боевые действия и личное мужество награжден двумя орденами – Александра Невского, Отечественной войны 2-й степени – и медалью «За отвагу».
Идеологически выдержан. Морально устойчив. Физически здоров.
23 марта 1945 года.
Командир дивизии гвардии генерал-майор Сухинин.Командир корпуса гвардии генерал-лейтенант Лебедев».
4
Звуки, которые колеса извлекали на стыках, не отличались четкостью и ритмом, возможно по той причине, что вагон был старый, болтался из стороны в сторону. Дребезжали стекла. По-нудному. Так нудно пищит комар, жужжит осенняя муха. Табачный дым настойчиво льнул к лампочке, заслоненной выпуклым грязным колпаком, словно хотел погреться там, под потолком, где было тепло и душно.
Онисим лежал на третьей, багажной полке справа от меня. Нас разделял проход, заставленный понизу мешками, оклунками, сапогами и ботинками. Люди сидели тесно. Пахло табаком, потом, старой одеждой. Голоса и грохот вагона сливались в общий гул, ни на что не похожий. Обалдеть от него можно было и за четверть часа, а мы ехали целых два.
За окном напротив мельтешили деревья. Иногда поезд словно взмывал в небо. Это, значит, железная дорога уходила в гору. И тогда лощины долго разворачивались с севера на запад, плоские в скупом на солнце, дождливом рассвете. Кто-то за перегородкой, в соседнем купе, громко пел:
Зачем тебя, мой милый, я узна-а-ла?
Зачем ты мне ответил на-а любо-о-овь?
Посапывал Онисим, бездумно глядя в коричневый потолок.
– Ты сам-то любил кого, Онисим? – громко спросил я. Но, конечно, никто, кроме старца, меня не услышал.
– Я люблю людей вообще, – повернулся на бок Онисим. – Я так думаю, что мне по моим скромным возможностям ни к чему вылезать из собственной шкуры ради одного человека. Я всех люблю, Антон: и тебя, и отца твоего, и вон ту вонючую бабу, что сидит в проходе на мешке с семечками. Я такой…
– И тебе никогда не хотелось иметь женщину, которая была бы матерью твоих детей?
– Мать твоих детей… Это важно. Это суть жизни. Но есть и вторая суть. Вдумайся: Иисус был зачат девой Марией непорочно.
– Ты это видел? – спросил я с насмешкой.
Онисим захихикал и вновь лег на спину.
Домбровский, когда около года назад я спросил, что такое любовь, словно между прочим, поправляя дрова в печке, сказал:
– На этот вопрос нельзя ответить, как нельзя ответить, за что любят. Эти два вопроса относятся к категории непознаваемых, что является большим счастьем. Я уверен, люди будут жить на земле не до тех пор, пока не погаснет солнце, а до тех пор, пока не узнают, что такое любовь и за что они любят.
Ах, лучше б я тебя не узнава-а-ла…
Онисим закашлялся. По-стариковски. Долго искал по карманам носовой платок, в конце концов невозмутимо вытер рот рукавом засаленной телогрейки.
– Откуда ты родом, Онисим? – Меня щекотало его спокойствие.
Он махнул рукой в сторону запруженного вещами прохода:
– Оттуда, – и добавил: – Со степей.
– Каких?
– Черноземных, черноземных… – Онисим закрыл глаза и сложил на груди руки.
– На фронт как попал? Стариков-то у нас не призывали.
– Попал, попал… – нехотя ответил Онисим. Его губы недовольно удлинились.
Я удовлетворенно сказал:
– Темная у тебя, старец, биография.
Онисим, натурально, огрызнулся:
– Моя биография меня и касается.
5
Из личного дела Домбровского Михаила Станиславовича:
«Пребывание в госпиталях:
ноябрь 1941 года – госпиталь Юго-Западного фронта;
февраль 1942 года – апрель 1942 года – госпиталь г. Махачкала;
февраль 1943 года – май 1943 года – госпиталь Южного фронта».
6
Пилили в саду за высокими кустами самшита, темно-зеленого, с маленькими плотными листьями, на которых целый день, как улыбка, расплывалось солнце. Собака, лаявшая на нас вначале злобно, потом лениво, будто для собственного успокоения, к вечеру наконец угомонилась и только время от времени гремела ржавой цепью, пробегая вдоль покосившегося к соседям забора, где над самой землей была натянута стальная проволока толщиной в палец.
Хозяйка, вернувшаяся с работы, торопливо разогрела борщ на медном примусе, который, если бы его хорошо отчистили, мог бы блестеть не хуже, чем золото. Налила нам борща по большой миске и велела есть тут же под навесом, что тянулся у стены над высоким бетонным фундаментом.
Онисим, скребя нестрижеными ногтями по потной майке, безнадежно и устало сказал:
– Винца полагается.
– Не держим, – равнодушно ответила хозяйка.
– Винограда бочки на две хватило бы, – заметил Онисим, достав из кармана свой знаменитый кисет.
– Давить некому. – Хозяйка говорила небрежно, словно отмахивалась от мухи.
– Сам-то где?
– Под Брестом закопан.
– В первые дни? – Онисим, поколебавшись, протянул кисет мне.
– Нет, – сказала хозяйка, – на обратном пути.
– Ежели на обратном, то непременно закопан. – Онисим вздохнул, видя, что мой щипок получился большим: махорки убавилось. Чиркнул зажигалкой и почему-то повторил: – Ежели на обратном…
– В сорок четвертом, – ответила хозяйка. – Извещение есть…
– А вас саму, извините, как зовут? – спросил Онисим.
– Алевтина Владимировна…
– Хорошее имя.
…Хозяйкин сын, подросток лет четырнадцати, бледный очкарик, провожал нас до гостиницы. Однако повел не к центральному входу, где на куске фанеры давно выгорели слова: «Гостиница «Восток», – а через двор, мимо кучи угля, в котельную.
Там мне предстояло провести ночь, первую ночь вне дома.
Да, первую…
В тот злополучный день, когда Даша ушла и Онисим сказал, что ждет от меня помощи, я спросил:
– Ну чем я могу тебе помочь, черт старый? Сам сижу без работы и без копейки. Жду у моря погоды. Жду, пока Шакун даст указание какому-то боцману Семеняке, чтобы тот смилостивился и взял меня на буксир. Матросиком…
– Матросиком, – поморщился Онисим. Спокойно сказал: – Ты не суетись… Помнишь, однажды разговор у нас с тобой про друга моего был, за которым будто бы должок есть? Ты тогда еще думал, что у меня шарики заскакивают.
Онисим смотрел серьезно, хитро. Мне, наверное, следовало выслушать его внимательно, без психа. Но я устал от неопределенности, устал до трясучки.
– Нашел друга?! – выкрикнул я. – Хочешь сказать, что нашел…
– Почти. – Онисим теперь уже не видел меня. Глаза его отяжелели и потускнели, словно налились свинцом. – Я никогда никому про это дело не рассказывал. Нужда заставляет. Нужда, она как короста: сколько ни чешись, все будет чесаться… В сорок втором воевал я тута, в краях здешних. Осенью маяться пришлось. Брюхатая дождями она была, собака… Стрельба, бомбежки. Нас то на машинах куда-нибудь отвозят, то на своих двоих в гору лазим. Когда поспишь, когда поешь… Все перемешалось. Попал взвод наш ночью в одно село или маленький городишко. Конец октября уже подваливал, холодновато, стало быть, было. Слышим, команда – ночевка здесь. Обрадовались. Распределили наше отделение в один дом, с самого края села над речкой стоял. Большой, но старый: крыша седлом прогнулась. В окнах темно. Понимаем, светомаскировка, потому как из трубы дым валит. Скуповато, но валит: знать, хозяева дрова берегут.
Стучимся. Старуха открывает. Говорим: «Добрый вечер, бабуля. На постой военными властями к тебе определены. Свободно?» Она говорит: «Свободно-то свободно, да вот тут дед один эвакуированный со вчерашнего дня хворает. На печи лежит. А хворь его, как сейчас помню по одна тысяча девятьсот девятнадцатому году, сыпняком называется. Кто им только не болел, говорит, и белые, и красные, и зеленые. Сотнями за день хоронили, вот те крест». Солдатики про сыпняк услышали и задом, задом по другим домам разошлись. А я и еще один рядовой – Ахметом звали, парикмахером на Кавказе он до войны работал, – я и Ахмет, значит, остались. Ахмет вообще бесстрашный был. А я подумал: ну заболею сыпняком – вылечат, сейчас не девятнадцатый год, зато в госпитале поваляюсь.
Заходим в дом. Комната просторная. Печка русская. На столе керосиновая лампа. Старой работы, трехлинейная, только светит самую малость. Все понятно: керосина где взять?.. На печи человек тяжело дышит. Слышно, а видать – не видно. Нам он и без надобности. Мы к столу. Жратву из вещевых мешков достаем. Как псы голодные. Мечтаем желудок наполнить да поспать в тепле. Ахмет от удовольствия руки потирает и громко поет такую песню:
А по субботам мы не ходим на работу,
А суббота у нас каждый день.
Если бы Ахмет эту песню не запел, ничего бы потом больше не случилось. Но Ахмет безотказный человек был, и, когда товарищи из милиции приглашали его постричь или побрить кого из провинившихся, он, значит, добросовестно исполнял просьбы. И там песен таких наслушался, а некоторые даже запомнил. И вот как только он пропел про субботу, старик повернулся на бок и спросил с печи: «Адвентист ты?» Ахмету послышалось, что старик сказал: «Отвинтись ты?» Потому решил, что дед бредит. Но я-то все понял, и предчувствие во мне потом выступило. Я к печи на полусогнутых и говорю на память первую заповедь адвентистов: «Я господь бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим».
Смотрю, зрачки у старика расширились. Стали как по три копейки. Рот от удивления приоткрылся.
Я ему тогда вторую заповедь: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я господь бог твой, бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода…»
Когда я до четвертой заповеди дошел, сектант заплакал: «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота господу богу твоему…»
Сектант через силу говорит: «Узнаю вас, истинно обращенные… Я диакон. Со мной имущество общины. Его нужно передать в Ашхабад…» – и сует мне в руки смятую бумажку с адресом. «Имущество-то где?» – спрашиваю я. «Вон, под лавками», – отвечает старуха.
Я нагнулся. Увидел два больших фанерных чемодана. Уголки металлические…
7
Очкастый подросток привел нас в котельную гостиницы «Восток». Подвал невысокий. Чугунная печь с распахнутой дверкой. Возле печи сидит дед, в руках – совковая лопата.
– Дедушка Антон, – сказал подросток, – это те самые люди, о которых говорила мама.
– Люди так люди, – тоненько ответил дед Антон. – Пусть ночуют.
Подросток кивнул:
– Спасибо. – И быстро ушел.
Дед Антон безголосо и тихо затянул:
Скачет галка по ельничку,
Бьет хвостом по березничку…
Онисим вынул из кармана бутылку «сучка», сказал:
– Давайте знакомиться.
Дед Антон радостно закивал. Суетливо нагнулся к покрытой угольной пылью тумбочке, распахнул скрипнувшую дверку. Достал чистые граненые стаканы…
Онисим захмелел. Сняв носки, лежал в углу на тулупе, заложив руки под голову, и похрапывал с легким свистом, как всегда.
Дед Антон сидел возле топки на маленькой скамейке, выкрашенной в желтый цвет. Голова деда медленно-медленно склонялась на полосатую тельняшку, обтягивающую его широкую костистую грудь. Едва подбородок касался груди, дед вздрагивал, выпрямлялся и с минуту осовело смотрел на приоткрытую дверку топки, где над красными изломанными углями благодаря веселой тяге трепыхались фиолетовые лепестки.
Где-то наверху, на воле, куда вела лишь узкая, но зато распахнутая настежь форточка, сквозь которую мне, как из колодца, хорошо было видно синее небо и целых шесть звезд, играла радиола. Под какой-то странный для моего слуха джаз мужчина громко, игриво и нетрезво пел:
У самовара я и моя Маша,
А за окном давным-давно темно.
И с каждым взглядом крепнет дружба наша,
А ветер сыплет листьями в окно…
Дверь за трубами отворилась, и по ступенькам, пригибаясь, спустилась женщина в белом халате. Когда она пригибалась, ее длинные распущенные волосы закрывали лицо. У меня даже похолодело под сердцем: до того страшной, похожей на ведьму показалась она.
Потом женщина выпрямилась, повела головой. Волосы послушно ушли за плечи. Открылось лицо. И большие глаза на нем. И припухлый рот не очень взрослого, добродушного человека.
– Дед Антон! – крикнула она и остановилась: увидела меня.
– Добрый вечер, – сказал я. Поднялся, покряхтывая: все-таки в пояснице ломило после «шабашки».
– Ты как сюда попал? – спросила она.
– Меня тоже зовут Антоном, – сказал я. – А вот это чучело – Онисим. Мы пришли сюда спать.
– Нашли местечко, – удивилась она. – Лучше не придумаешь.
– Извините, вас зовут Машей?
– Нет, Катей. А почему спрашиваешь?
– Любопытный я человек, Катя. От самого рождения.
– Не так давно оно и было, – ухмыльнулась она.
– Семнадцать годочков назад. И даже немножко больше.
– Розовое детство.
Я еще не был уверен, что вызвал у нее интерес к своей персоне, но было ясно: она уже кокетничала.
– Как считать, – ответил я. – С двенадцати лет воюю: Брянские леса, Северная Нормандия, Варшава, Вена.
– Брось трепаться, – махнула она рукой.
– Не веришь? А ведь я орденом французским награжден. – Я полез в свой вещмешок, вынул странную коробку со значком-брошью, которую выменял у пьяного в Тихорецкой. – Орден Подвязки. Мне во Франции и в Англии рыцарские звания положены. Сэр – это в Англии.
– А во Франции?
– Сир.
– Трепаться ты горазд, сир. Во Франции всех мусью называют.
– Темная ты личность, Катя. Мусью – это мусью, а сир – это сир.
– Голь ты, а не сир, – добродушно-ласково и покровительственно сказала Катя. Она была года на три старше меня – это точно. – Продай брошку. Она мне под цвет глаз подходит.
– Если под цвет глаз, то бери на память. Вспоминай Антона – ветерана, кавалера и рыцаря. У меня еще много орденов есть, только они в камере хранения.
– У нас в городе нет камеры хранения.
– В Ростове есть. В Ростове-на-Дону.
– А… Ты из Ростова, – обрадованно протянула она. – Жулик?
– Почему так решила?
– В Ростове все жулики. И в Одессе тоже.
…После душного подвала на улице дышалось хорошо. Чувствовалась близость реки, рыбы, баркасов… Наверное, до гостиницы доносился бы шум речной воды. Но играла радиола – на всю мощь затыкала рот всем и вся:
Маша чай мне наливает,
А взгляд ее так много обещает,
У самовара я и моя Маша
Вприкуску чай пить будем до утра.
Катя привела меня в душ:
– Мойся. Воды много…
Это было блаженство. Я намылился в третий раз и терзал волосы пальцами сколько было сил. Я чувствовал, как ногти впиваются в кожу, как вода скатывается с затылка и бежит вниз, к ногам, по спине. Хотелось петь, приплясывать.
– Потеснись, – услышал я голос Кати. Раскрыл глаза… и рот. Но вода лилась, и сквозь нее я видел все как в тумане или во сне. Колыхнулась мысль, что у меня просто распарились мозги и теперь мне мерещатся разные разности.
– Захлебнешься, – усмехнулась Катя, отстраняя меня из-под струи рукой. И шагнула под душ сама…
– Мы поженимся? – спросил я, глядя не на нее, а в окно, где небо уже серело от рассвета, но звезды еще оставались яркими, хорошими.
Она зевнула:
– Всю ночь женились, пора и разводиться…
Кажется, сердце остановилось, а может, застучало сильнее от разочарования.
– Одевайся и без шума вали к деду Антону. Если заведующая наша, Алевтина Владимировна, узнает, где и с кем ее дровосек провел ночь, обоим в работе откажет. Она у нас насчет морали злая: восемь лет с мужчинами не спала…
8
Завтракали на рынке. Купили пшеничного хлеба, по банке квашеного молока с запеченным каймаком, килограмм яблок.
– Сальца бы, – облизнулся Онисим.
Нежное, местами розоватое сало лежало на прилавках, разрубленное ровными четырехугольными кусками. Корочки на кусках выделялись, точно покрытые воском.
– Не ем сала, – с удовольствием ответил я. Пусть Онисим знает, что вид торговцев в белых фартуках и весь этот «свиной ряд» не вызывают у меня зависти и притока слюны.
– Зазря, – серьезно сказал Онисим. – В сальце сгусток тепла и силы, что по-школьному называется энергией.
– Сам-то в школе учился?
– Я всему учился. Везде. В школе и за школой… Большим бы мог стать человеком, только счастье мне не выпало. – Он запрокинул голову, выпивая из банки остатки квашеного молока. Потом посмотрел на банку – молоко еще оставалось на стенках. Пожалел, что нет ложки, и запустил в банку пальцы.