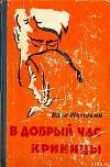Текст книги "Вдруг выпал снег. Год любви"
Автор книги: Юрий Авдеенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
С дерева улица виднелась далеко: уползала на край неба с маленькими домиками, собачьим лаем, кудахтаньем кур, дымками печек, потому что, хотя день и стоял теплый, люди у нас уже с октября отказывались от примусов и керосинок, готовили еду на печах.
Я нарвал виноград в кепку. Кепку зажал в зубах и той же дорогой, через окно, вернулся в комнату.
– Значит, подавился старец чемоданом, – сказал Баженов. Он сидел на диване, закинув ногу за ногу, и курил. Когда он прошел в дом, я даже не заметил.
– Не чемоданом, а дровами, – поправил я.
– Как понять?
– Понимать надо буквально. На старца обрушился штабель дров, когда он попытался выкопать под ним ямку.
– Сдалась ему эта ямка, – Баженов взял из кепки кисть винограда.
– Сдалась.
– Ты серьезно?
– Вообще да. Было такое мнение у старца, что семь лет назад зарыл он там некоторые вещички.
– Интересные вещички?
– Будто бы кадило золотое, панагии с драгоценными камнями. Мелочишка разная – типа царских золотых червонцев, колец, брошек, крестиков…
– И ты всему этому верил? – осторожно спросил Витек.
– И да и нет… Вполне возможно, что все это у старца от контузии.
– Трезво рассуждаешь, кладоискатель. Трезво. Между прочим, клады и в вашем городе есть.
– С меня довольно, – сказал я. – Ищи сам… А за чемодан тебе рожу набить надо.
Баженов обиделся:
– Спасибо, герой. Чемодан, он мой был. Кореша моего. Даже не кореша, а его тетки.
– Ладно, дело прошлое. Только впредь меня за придурка не принимай. Понял?
– Лучше некуда, – улыбнулся Витек. – Есть предложение пойти пообедать.
Я вздохнул и вывернул карманы пиджака.
– Мероприятие финансирую, – заверил Баженов.
В правом кармане была обширная дыра. Я сказал:
– Может, копеек двадцать завалилось под подкладку.
Запустил пальцы в дыру. Что это? Дрожь пошла у меня по телу. Вынимая руку, я уже догадался, но пока не смел верить. На моей ладони в пятне света, падающего из окна, лежал золотой с бриллиантом крестик Онисима.
Витек ошалело присвистнул.
Каким путем крестик Онисима попал ко мне в карман? Я сообразил сразу: вариант мог быть только один. Сам Онисим положил его тогда, ночью, когда уходил откапывать свой клад. Старец был уверен, что найдет сокровища. С ними он не собирался возвращаться в дом деда Антона. Может, в нем вдруг заговорила совесть, а может, справедливость, и он решил, что за наши совместные скитания, за штабеля дров, погруженные на подводы и машины, я заслуживаю вознаграждения. И тогда он великодушно опустил свою единственную дорогую вещь в карман моего пиджака.
Я поднял крестик. А Витек встал с дивана, и мы молча смотрели, как играют золото и бриллиант на моей вспотевшей ладони.
– Это деньги, – сказал Витек. – Если с умом продать, солидные деньги.
– Может, я не захочу продавать.
– А зачем он тебе? Не станешь же ты носить его на шее.
– Не стану, – согласился я.
– О чем разговор? Покупателя я беру на себя.
Глаза у Баженова блестели нехорошо – жадно. И коверкотовый костюм, и тонкая белая рубашка, сквозь которую просматривались линии матросской тельняшки, не придавали ему больше ни солидности, ни уверенности. Наоборот, суетливость и беспокойство присутствовали во всем его облике, как если бы он видел на дороге кошелек, но еще не знал, есть ли там деньги.
– Не приставай, – сказал я. – Мне нужно подумать.
– С пустыми-то карманами, – возразил он тяжело, словно давился слюной.
Я сжал ладонь и опустил руку в карман. Стоял так, не вынимая руки. Казалось, Баженов может ударить меня, избить, отнять крестик.
– Это память об Онисиме, – по тону голоса можно было подумать, что я оправдываюсь.
– Нашел святого старца.
– Старец не был святым. Но и простофилей не был. Он имел свои соображения на жизнь.
– Обдури ближнего.
Он, конечно, сказал не «обдури», а другое слово, но смысл был похожим.
– Не спорю, в жизни старца были моменты, когда он дурил ближних. Понимаешь, он считал, что путь к счастью длиннее человеческой жизни. Он думал, что счастливым человек может стать лишь случайно. Потому искал этот случай, хитрил, путался…
– Мягкая у тебя душа, – как бы сожалея, сказал Баженов. Вернулся на диван, достал пачку «Казбека».
– Не стыжусь этого, – ответил я.
– Старец твои был набитый дурак. – Баженов чиркнул спичкой и ловко, почти любуясь, выпустил клуб дыма. – Никакой дороги к счастью нет. Счастье здесь, рядом, может, как дымок, плавает в этой комнате. Но вся загвоздка в том, что оно маленькое. Пока еще маленькое. Но, возможно, через сколько-то лет оно станет большим. А сегодня маленькое. И его нельзя разделить на всех. Не хватит! Потому и говорят: счастье достается смелым, тем, кто за него борется.
– Каждый борется за него по-своему.
Баженову понравились мои последние слова. Он кивнул и выразительно сжал кулак, будто демонстрируя, чем именно нужно бороться за счастье.
– Не очень-то помогает тебе твой метод, – насмешливо сказал я. – Живешь как собака, не имея собственной крыши над головой.
Баженов обиделся. Это было видно по глазам. Но было видно и другое: он не хотел со мной ссориться. Покривил рот в улыбке, сказал после многозначительной паузы:
– Зачем птице крыша? Для нее небо крыша.
– Тебе стихи писать надо, – посоветовал я.
– Может быть, я и пишу. Для души, для сердца. – Баженов вдруг резко встал. Хлопнул меня дружелюбно по плечу: – Ладно, капиталист, пойдем обедать. Мое предложение остается в силе.
– Нет, – сказал я. – Мне не хочется.
– Как знаешь, – пожал плечами Баженов. – В Одессе в таких случаях говорят: не хочешь есть, сиди голодный.
5
Из сообщения городского радиоузла от 4 ноября 1940 года:
«…В связи с досрочным выполнением высоких трудовых обязательств, взятых по случаю XXXII годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, Указом Президиума Верховного Совета СССР орденами и медалями награждена группа передовых тружеников Краснодарского края.
Среди награжденных орденом «Знак Почета» – наш земляк, бригадир стерженщиков машиностроительного завода Евгений Михайлович Ростков.
Сегодня наш корреспондент побывал в литейном цехе и попросил Евгения Михайловича рассказать о планах его бригады. У микрофона Евгений Ростков:
«Вся наша бригада, как и весь советский народ, с большим воодушевлением трудится в честь коликой даты – XXXII годовщины Октября. Мы взяли дополнительные обязательства – выполнить годовой план к 5 декабря – Дню Конституции. В этом нашему рабочему коллективу большую помощь оказывает инженерно-технический состав цеха. Наука при социализме служит высоким гуманным целям».
…По 20 часов отработали ученики старших классов школы № 5 на строительных работах по восстановлению разрушенного бомбежкой правого крыла здания. Со второй четверти занятия в школе будут проводиться не в три смены, как прежде, а в две… Новые светлые классы после праздников примут учеников…»
6
– Здравствуй, – сказал я.
Грибок вздрогнула. Она стояла в дверях. Между нами были крыльцо, четыре ступеньки и сизый сумрак угасшего дня, сдобренный дымком, морской пылью и просто холодом.
– Тебя отпустили? – спросила она.
– Да, – сказал я. – Представь себе.
– Не представляю, – призналась она.
– Почему?
– Подожди одну минуту.
Она действительно вышла через минуту в пальто и желтом берете. Я взял ее под руку, и мы пошли вниз по Приморской улице, которая выходила на Приморский бульвар, у самого-самого моря.
– Там страшно? – спросила она.
– Страшно, – согласился я, пытаясь догадаться о правилах игры, которую она предлагала.
Фонари на улицах попадались редко. Ветер сбивал листья и даже гнул ветви. Люди шли быстро. Хлопали двери магазинов.
– Где же тебя? – Даша глядела укоризненно.
– Как где? Тут.
– Неужели? – спросила она почти испуганно.
– Пошли ко мне, – сказал я.
Она покачала головой.
– Я уже была у тебя однажды.
– Сегодня нам никто не помешает.
– Ну и что? – спросила она с сомнением и сделала шаг назад. Я не мог больше держать ее за локоть. Отпустил руку, сказал:
– Я один, совсем-совсем один… У меня целая ваза винограда.
– И больше ничего?
Мы стояли возле скамейки на пустом сквере. И листья гуляли по скверу, как снег по полю.
– Больше ничего.
– Ты обедал? – спросила она тихо.
– Аж четыре раза.
– Врешь…
– Нет, правда. Четыре раза взбирался на вишню, пока не оборвал весь виноград.
На этот раз она взяла меня под руку, и мы пошли обратно. Мне немного хотелось плакать, и я был твердо уверен, что люблю ее.
– Тебя не били? – она говорила нежно, как мать.
– Нет, – сказал я.
– Зачем ты это сделал?
– Что сделал? – взмолился я. – Что?
– Пошел воровать, – ответила она твердо.
– Ради спортивного интереса. Острых ощущений захотелось. – Мне стало спокойно. Теперь я понимал смысл разговора.
– Что ты еще знаешь? – спросил я.
– Ты украл в поезде чемодан. И тебя арестовали, – объяснила она заученно, как могла объяснять теорему.
– Откуда информация?
– В школе слышала.
– От кого?
– Не помню, – она совсем не умела врать или не старалась. – Все говорили.
– А может, от Баженова?
Она остановилась. Вызывающе посмотрела мне в глаза. Сказала упрямо:
– Ну, может.
Теперь мне казалось, что я не люблю ее. Ветер дул прямо в лицо, резал глаза, студил рот. Я рывком прижал Дашу к себе, стал целовать губы, щеки, лоб, волосы. И оттого, что я не любил ее, поцелуи придавали мне силы и уверенность в своем превосходстве над этой глупой смазливой девчонкой.
– Дурак ты, дурак, – вырываясь, шептала она.
– Идиотка, – я целовал ее сильнее и сильнее. – Как ты поверила этому подонку? Я вор? Я убью его, сволочь. Я больше месяца вкалывал на дровяном складе и ничего, кроме мозолей, себе не нажил.
Наконец она вырвалась из моих объятий. Растрепанная, поправляя берет, тяжело дышала. А глазищи у нее были как чашки.
И я с ужасом почувствовал, что опять люблю ее. Люблю больше всех на свете.
– Пойдем ко мне, – слова прозвучали умоляюще.
Она улыбнулась. Покачала головой, сказала:
– Я всему верила. Всему… Паша Найдин заявил, что этого не может быть, это чушь! Но все равно… Если бы ты знал, что со мной творилось!
И она теперь сама поцеловала меня – долго и нежно.
– Пойдем ко мне, – повторил я.
– В другой раз, – Грибок удрученно вздохнула. – Мне нужно решать задачи по геометрии с применением тригонометрии. Это такая пакость…
7
– Женя, поздравляю тебя с орденом, – сказал я. – А это мой друг Ахмед.
Ахмед гордо вскинул голову, до синевы натянув кожу на подбородке. Сказал:
– Здравствуйте.
За камнями шипело море – протяжно, тревожно. И хотя я не видел волн, но представлял, как наползают они на берег длинными белыми змеями, проваливаются в песок, словно в норы. Черная скала выпирала над зеленью – горб, а не скала. Какая-то птица, похоже нырок, смотрела с вершины выжидающе, напряженно, готовая к прыжку в солнечный свет, по прихоти осени рассеянный над морем.
Ростков держал в руке удочку и тощую сумку, где, наверное, лежали банка с наживкой, грузила и другие рыбацкие штучки.
– Разгулялось море, – огорченно сказал он. Протянул Ахмеду руку, представился: – Ростков.
– Приезжайте к нам в горы, – пригласил Ахмед. – Я поведу вас на форель.
– Много слышал о ловле форели, но самому ловить не приходилось, – признался Ростков.
– Это просто, – улыбнулся Ахмед. – Только успевай вытягивать.
– Тогда обязательно приеду. Спасибо за приглашение.
С сортировочной станции в порт потянулся пыльный товарняк. Пыхтел паровоз, опираясь на клубы пара. Вдоль линии, словно столбы, стояли пирамидальные тополя, на которых зеленых листьев было ничуть не меньше, чем летом. Высоко над горами стаей, похожей на тучу, летели птицы. Они, конечно, издавали шум, но мы не слышали его из-за шума моря. Фиолетовая полоса длинным шарфом разматывалась над ущельем, по которому убегали далеко-далеко на Москву железнодорожные пути.
– Ахмед хочет у тебя работать, – сказал я со вздохом.
– Если один Ахмед, то пожалуйста, – ответил Ростков. Пояснил – не поймешь, шутя или серьезно: – Дезертиров обратно не принимаем.
– Дезертиры себе на уме, – парировал я.
– А ты как думаешь, Ахмед? – спросил Ростков.
Это точно, Ахмед не обрадовался вопросу. Он даже поморщился и коснулся пальцами глаз, словно их резануло светом. Наконец он ответил:
– Я думаю, дорогой Женя, нет на свете людей, которые прожили бы жизнь и никогда не сделали ошибок. Я думаю, дорогой Женя, что ошибка во имя мечты есть не только ошибка, но еще и поиск. А как утверждал мой великий дедушка Ашот, если бы люди не искали, они бы до сих пор жили в каменном веке.
Ростков с любопытством выслушал Ахмеда. Кивнул с улыбкой, соглашаясь.
– Дорогой Ахмед, я не сомневаюсь, что из тебя получится прекрасный литейщик. Но я не сомневаюсь и в другом: из тебя мог бы получиться и прекрасный адвокат.
Из овощного магазина, что стоял прямо за железнодорожными путями, вышел доктор Фелицын со своей неизменной сумкой из дерматина. Старик сильно сдал за последние четыре года и совсем не был похож на того шустрого и неутомимого человека, который в войну обслуживал чуть ли не все население города.
– Здравствуйте, доктор, – остановился я.
Фелицын тоже остановился.
– Здравствуйте, молодой человек. Как здоровье вашего отца?
– Пишет, что улучшается. Приступов не было уже несколько недель.
Фелицын одобрительно кивнул:
– Поверьте мне, у него все будет хорошо. Покой. Посильный физический труд на свежем воздухе. Растительная пища. Воздержание от алкоголя и курения. Это восстановит его силы и здоровье.
– Спасибо, доктор.
– До свиданья, молодой человек.
Ростков с Ахмедом ушли недалеко, но, когда я нагнал их, они уже разговаривали на деловую тему.
– Тогда я приду после праздников, десятого числа.
– Прямо в отдел кадров. Я обо всем договорюсь.
– Спасибо, дорогой Женя.
– Рад был познакомиться.
Прощаясь со мной, Ростков сказал:
– Зашел бы как-нибудь в гости, рассказал бы о своем житье-бытье. Все же вместе работали…
– Зайду, – пообещал я, не очень веря в обещание.
Потом я проводил на поезд Ахмеда. Было четыре часа дня, но та фиолетовая полоса, похожая на шарф, обернулась громадной тяжелой тучей, и хотя пока не брызгалась дождем, но мрачно висела над городом, не предвещая ничего хорошего.
Когда поезд ушел, я заглянул в павильон Майи Захаровны. Там был час пик, и к стойке невозможно было пробиться. Пришлось повертеться. Майя Захаровна увидела меня и, как всегда, воскликнула:
– Деточка!
Я кивнул ей. Наливая стаканы, подавая бутерброды, принимая деньги, Майя Захаровна разговаривала со мной громким, грубоватым голосом, перекрывающим шум и гам:
– Давно вернулся?
– Два дня назад.
– Отец пишет?
– Поправляется.
– Дома как? Не обокрали?
– Нет. Полный порядок.
– Бедная деточка!
– Ничего. К Шакуну пойду после праздников.
– Ты, Антон, ко мне подойди. У меня отгулы будут. Вместе к Шакуну сходим. Я его сто лет знаю. Когда-то постоянным клиентом был.
Я кивнул: дескать, подойду.
– Есть хочешь?
– Нет, – сказал я, хотя жрать хотел как собака. Ахмед привез мне в подарок голову козьего сыра и литровую банку кизилового варенья. Но я постеснялся при парне наброситься на еду.
Майя Захаровна подала мне два бутерброда с украинской колбасой и стакан фруктово-ягодного вина. Я сказал:
– Ну зачем?
– Деточка! Я своих друзей, не угостив, не отпускаю.
– Отходи, малый, отходи, – толкали меня в спину.
– Спасибо, – сказал я.
Вино и бутерброды взбодрили меня. Я, конечно, не чувствовал себя сытым «от пуза», но ноюще-тоскливое ощущение голода исчезло. Я вышел из павильона с хорошим чувством уверенности, а это было сейчас главным.
Голова работала четко. Виделись проблемы, требующие неотложного решения. Основная задача – устроиться на буксир. Вторая задача – денежная.
К Шакуну я намеревался идти после праздников. А сегодня было только пятое число. Значит, до девятого числа нужно было прожить полных три дня, не имея ни копейки. Я слышал, что матросы питаются на буксире казенными харчами, и не боялся, что в ожидании аванса мне придется перебиваться с хлеба на воду.
Получалось, что зачисление на буксир решает одновременно и мою финансовую проблему. Спрашивается, зачем мне тогда откладывать визит к Шакуну на после праздников? Вспомнился совет отца, и я решил позвонить Шакуну прямо домой.
Опустив в телефон-автомат десять копеек, я услышал голос телефонистки:
– Город.
Я сказал:
– Девушка, с вами говорит специальный корреспондент газеты «Кубанская правда» Сорокин. Я попрошу соединить меня с квартирой Валентина Сергеевича Шакуна.
– Одну минуточку, – ответила девушка.
В трубке, как водится, раздался щелчок, потом длинные редкие гудки. Наконец трубку сняли. Голос был женский:
– Алло!
– Здравствуйте. Это квартира Шакуна?
– Да.
– Можно к телефону Валентина Сергеевича?
– Папа в Новороссийске. А кто его спрашивает?
– Сын друга. Некто Антон Сорокин.
– Куда вы исчезли?
От этого вопроса я немного опешил.
– Алло! – она подумала, что нас разъединили.
– Если не ошибаюсь, вас зовут Надя.
– Да, Антон, меня зовут Надя.
– Вы учились в цирковом училище.
– Совершенно верно. Но верно и другое: папа разыскивал вас, а вы сбежали, извините, или просто уехали самым таинственным образом, не поставив никого в известность.
– Был такой грех, Надя.
– Вы почему вздыхаете?
– Когда вернется Валентин Сергеевич?
– Обещал седьмого… Антон, что вы сегодня делаете?
– Ничего.
– Давайте сходим в кино. Идет фильм с поэтическим названием «Мост Ватерлоо».
Ох уж это плодово-ягодное вино! Конечно же по его милости я стал храбрым.
– Хорошо.
– Я жду вас, приходите к семи. Вы знаете наш адрес?
– Знаю.
8
Кафе не имело официального названия. Однако размещалось оно в подвалах, где в годы войны было бомбоубежище, и местные остряки окрестили его словом «метро».
В «метро» пахло вином. Присутствовал и запах табака. Но запах красного виноградного вина, короткой струйкой рвущегося из тупорылого крана, придавленного длинной деревянной ручкой, почерневшей от давности и грязи, перебивал все другие запахи. Лампочки были спрятаны в белые плафоны – я видел такие раньше в коридорах краснодарской больницы, куда однажды в прошлом году приезжал проведать отца. Для больницы плафоны были вполне подходящими, но здесь, где потолок висел низко и серели бетонные колонны, большие белые плафоны выглядели так же нелепо, как галстук на купальщике.
– Ха-ха, – тихо сказала Надя Шакун, оглядывая зал.
Она могла кричать и топать ногами, все равно никто бы не услышал, не обратил внимания. Все столики оказались занятыми. Дым вздымался над ними, как над кострами. Нечленораздельная речь напоминала мне шум бетономешалки, которая с весны работала на набережной с утра до вечера всю неделю, кроме воскресений.
Увидев, как из-за столика у стены за колонной поднялись сразу три человека, я схватил Надю за руку и потащил к этому столику между стульями и потными спинами, лысинами и стрижками «под бокс» и «под польку».
– Дно, – сказала она, когда мы соли за стол, украшенный объедками шашлыка и пустыми стаканами с потеками красного вина.
– Что? – не понял я. В груди было хорошее напряжение. И в руках, и в ногах тоже.
– О таких злачных местах я читала только в книгах, – сказала Надя и брезгливо отодвинула тарелку. – Таверна «Золотой петух» в порту Ливерпуля… Одноглазые пираты, бочонки рома…
Мне вспомнились сорок третий и сорок четвертый годы, когда я еще совсем мальчишкой приходил к Домбровскому за книгами. Дни почему-то всегда были дождливыми, и я прятал книгу под рубашку, за пазуху, чтобы книга не намокла, пока я буду бежать из двора во двор…
– Здесь не ром, а портвейн, – сказал я. – И еще фруктово-ягодное.
– Каждому времени свои песни.
– Вы пили ром? – спросил я.
– Нет.
– Я тоже. Интересно, на что он похож?
– Не знаю. Скорее всего, на ликер.
– Неужели пираты были сластенами…
Официантка, невысокая и толстенькая, убирала посуду быстро, точно заводная. На лице ее были равнодушие и усталость. Конечно, она вымоталась за смену.
– Бутылку рома, – попросил я.
– Чего-чего? – удивилась официантка. И сказала совсем по-матерински: – Не придуривайся.
– Тогда водки, – вздохнул я.
– Много?
– Полную бутылку.
– Антон, вы ошалели, – сказала Надя Шакун, когда официантка унесла поднос с грязной посудой. – Зачем нам целая бутылка?
– Не будем думать зачем. Давайте весь вечер не будем думать.
Она молчала и сосредоточенно разминала папиросу, потом сказала:
– Попытаемся.
– Гуляй, Ванька, ешь опилки, ты директор лесопилки, – вспомнил я любимую присказку Онисима.
Баженов накануне, давая мне двести рублей, спросил:
– А для чего тебе столько денег?
– Не скажу, – ответил я.
– Все ясно, – Баженов посмотрел на светящееся окно флигеля, возле которого кружились мошки, сказал: – В этом деле замешана женщина.
– С твоим опытом да не догадаться, – усмехнулся я.
– Верно. Твоя правда. – Он отсчитал четыре полсотенных, передал мне. Нервно постукивая ногой о порог, бело выступающий во тьме, предупредил: – К покупателю пойдем завтра после обеда. Я здесь с бывалыми ребятами советовался. Говорят, меньше чем за две тысячи не отдавай, поскольку бриллиант каратов на шесть будет. Мне отдашь десять процентов комиссионных. Такой обычаи.
– Хорошо, – сказал я.
– Здесь Жанка объявилась, – сообщил Баженов. – В клубе нефтяников поет с бригадой краевой эстрады.
– Тебе и карты в руки.
– Вокруг нее гитарист ошивается с брюхом в три обхвата.
– Жанка не выносит одиночества.
– А ты откуда знаешь?
– Оттуда, откуда и ты.
Баженов, завалив голову чуть вправо к плечу, глянул на меня с прищуром.
– Ладно, – пообещал я. – Мы с тобой на досуге покалякаем. Чего ты там трепал Грибку, будто бы меня замели?
У забора на акации крикнула птица. Просторно замахала крыльями и ушла в ночь по горе, над крышами.
– Редкий нахал, – словно удивляясь своей доверчивости и простоте, проговорил Баженов. – Выманил у человека две сотни, а теперь угрожает.
– Пока, – сказал я и пошел прочь.
– До завтра, – напомнил он.
– До завтра, до завтра…
Я торопился. У входа в кинотеатр чуть не сбил женщину – шел сутулясь, опустив голову. Ткнулся ей в грудь. Она не охнула, наоборот, цепко схватила меня за руку. И я с ужасом узнал в ней заведующую учебной частью Ирину Ивановну Горик.
– Фамилия? – железным голосом спросила она. Ее рука была такой крепкой, каким может быть камень.
Я оробел: забыл, что теперь не ученик и что мы стоим не в школьном коридоре. Я моргал молча. И она узнала меня, выпустила руку.
От высвеченной лампочками афиши у входа возникал какой-то полумрак. Люди входили и выходили, задевали мою спину, подталкивали. Горик сказала:
– Сорокин, ты чего делаешь?
– Хочу купить билеты.
– Я не об этом. Чем ты занимаешься в жизни?
– Живу.
– Это очень широкое понятие, – строго возразила она. И я подумал, что она очень красивая, интеллигентная женщина. Она еще спросила о чем-то, но я не расслышал, потому что прикидывал, на сколько лет она старше меня. Средняя школа, институт, работа в школе… Получалось – на много, лет на десять. Я вздохнул.
– Не надо вздыхать, – услышал я ее голос. – Надо всегда смотреть правде в глаза. Говорить правду, поступать по правде. Я снова спрашиваю: где ты работаешь?
– Нигде.
Она крепко взяла меня за руку. Сказала:
– Пошли. Я отведу тебя в милицию.
Она шагала решительно. А я не мог вырваться: кругом были люди, и сразу бы возникло любопытство и нездоровый интерес. Могли подумать: карманник пытался обворовать молодую заведующую учебной частью.
– Пойдемте сквером, – сказал я.
Она кивнула.
Высокие клены росли между скамейками. А когда попадались фонари, я видел красивый целеустремленный профиль Ирины Ивановны и слышал, как глубоко она дышит.
Я спросил:
– Вы считаете, что поступаете по правде?
– Да, – убежденно ответила она.
– Тогда я укушу вас.
Она остановилась, в недоумении сдвинула брови и немного беспомощно спросила:
– Куда?
– Сюда.
Я ткнулся лицом ей в грудь, туда, где малиновый свитер толстой вязки обретал линию, словно начерченную циркулем. Ирина Ивановна отпрянула от меня и, разумеется, выпустила руку.
– Негодяй, – тихо сказала она.
Я засмеялся. Погрозил ей пальцем:
– Не надо обижать маленьких.
Когда я вернулся к кассе, выяснилось, что билетов на сегодняшние сеансы нет и не предвидится.
Я пошел на улицу Шмидта.
Дом на улице Шмидта был новый, двухэтажный, построенный года два назад военнопленными. Женщина с закатанными по локти рукавами старого офицерского кителя снимала белье между акациями. Я спросил, где шестнадцатая квартира. Она кивнула на второй подъезд.
Резко пахло краской, свежим мелом. Вдруг стали слышны шаги. Отделились от моих подметок, загудели под высоким белым потолком. Согнув пальцы в кулак, я хотел постучать, но увидел кнопку на косяке двери. Нажал.
Шагов за дверью не было слышно, но дверь поплыла сразу, словно кто стоял за нею и ожидал моего звонка.
– Добрый вечер, – сказал я.
– А я думала, вы моложе, – кивнула девушка, отчего челка свесилась ей на очки, прикрыв тонкие золоченые ободочки. – Проходите, Антон.
Надя мотнула головой, челка ушла вбок. Над ободками очков прорезались хорошо изогнутые брови. Я сказал:
– Человека старят не годы, а события…
– Вы непременно станете ученым, – не дослушала Надя. – Проходите.
Сразу за узкой полутемной прихожей виднелась большая комната с балконом, и дверь на балкон стояла открытой. Недавно выкрашенный в коричневое пол покрывал квадратный ковер коричневого цвета. На богатой скатерти со свисающей серебристой бахромой в хрустальной вазе белели астры.
– Садитесь, – Надя указала на кресло возле балкона. Сама боком села на диван, обшитый веселой розово-голубой тканью, смело закинула ногу за ногу, отчего серое узкое платье стало коротковатым, а чулки натянулись на коленях.
Сине-зелено светилась шкала приемника. Приемник был невысокий, но длинный. На шкале что-то было написано готическим шрифтом. «Телефункен», – подумал я. Приемник наполнял комнату нудной классической музыкой, которая всегда действовала на меня, как касторка. Хорошо, что музыка была тихой.
Надя сказала:
– Меня зовут Надеждой Валентиновной. Можете называть меня Надей. Вам сколько лет?
– Восемнадцать.
– Между нами пропасть. Мне пока что двадцать один, – и словно в доказательство своей молодости она сняла очки. И я понял: там, на пороге квартиры, Надя показалась мне гораздо старше, чем была на самом деле.
– Билетов на «Мост Ватерлоо» нет, – сказал я.
– Я позвонила. Для нас оставили, – улыбнулась она.
– Извините, я забыл, что ваша фамилия Шакун.
– Такая уж я счастливая.
– Вы хотите сказать – нет?
– Я хочу сказать, что самый первый ответ не всегда бывает самым верным.
– А первый друг? – спросил я.
– Друг, подруга – это другое дело. Верность не обязанность, верность – это потребность.
– А если нет потребности? – мне вспомнился наш разговор о верности с Домбровским. И я подумал: «Сколько же подобных разговоров происходит на земле!»
Надя потянулась к тумбочке, на которой стоял приемник, вынула коробку сигарет. На коробке была нарисована собака и написано слово «друг». Она протянула коробку мне. Я поднялся, взял сигарету. Мы закурили. Надя сказала:
– Если нет потребности, значит, нет и верности. Сколько ни говори, что в пустом стакане вода плещется через край, все равно из него не удастся напиться.
Потом мы сидели в кино. Сеанс начался титрами: «Этот фильм взят в качестве трофея при разгроме немецко-фашистских войск». А потом шла трогательная история из английской жизни о молодой девушке и молодом парне, который ушел воевать в первую мировую войну, а девушка стала профессиональной проституткой. Все кончилось очень печально. Девушка покончила с собой, бросившись с моста, который назывался Ватерлоо.
Когда проходили мимо «метро», Надя Шакун сказала:
– Я здесь ни разу не была. Здесь, наверное, очень интересно.
Интересно? Кому как! Интересы-то бывают разные.
Официантка принесла водку в графине. Сколько? Попробуй угадай. Была ли это просто водка или водка с водой, понять на вкус не представлялось возможным. Во всяком случае, никогда прежде я не пил такой гадости. Шашлык оказался недожаренным…
Однако за столик к нам больше никто не подсел. Мы были вдвоем, могли говорить, смотреть и слушать.
Взлохмаченный мужчина, не старый, в гимнастерке, но без погон, играл на трофейном аккордеоне сочного вишневого цвета и совсем неплохо, с подчеркнутой грустью пел:
Здесь идут проливные дожди,
Их мелодия с детства знакома.
Дорогая, любимая, жди,
Не отдай свое сердце другому…
Сидевшие за соседними столиками мужчины – женщин было только две, загорелые, средние по возрасту, – дружно и громко подхватывали припев:
Я тоскую по Родине, по родной стороне моей…
Потом одна женщина встала и пошла между столиками, как бы приплясывая. Но песня была в ритме танго, и танцевать все это надо было не как «цыганочку».
Надя сказала:
– Словно пиаффе делает.
– Что, что? – не понял я.
– Есть такой цирковой термин. Движение лошади в школе верховой езды.
– Вы учились в цирковом училище, – завистливо вспомнил я.
– Училась, – ответила она со вздохом. Перестала смотреть на женщину, танцующую между столами. Посмотрела на меня. Глаза у нее были печальными.
– И что же вы умеете?
– А что умеете вы? – прищурилась она. Наверное, хотела скрыть улыбку, заранее угадывая мой ответ.
– Пожалуй, ничего, – сознался я.
– Я немного больше. – Она сделала глубокую затяжку, резко выпустила дым. – Вначале я увлекалась акробатикой, но суплес мой все-таки оставлял желать лучшего…
Я тряхнул головой:
– Не понимаю.
– О, да! – Она сделала паузу, возможно раздумывая, как доходчивее объяснить мне значение непонятного слова. – Суплес – это гибкость тела, одно из непременных условий для занятия акробатикой… Потом я увлекалась воздушной гимнастикой. Подготовила номер на корд де парель. Это такой вертикальный канат, туго натянутый. Красиво смотрится.
Аккордеонист теперь играл не танго. Из-за стола поднялись еще двое мужчин: один высокий и худой, с лошадиным лицом, в двубортном пиджаке черного цвета, застегнутом на все пуговицы; другой широкоплечий, тоже высокий, но в плаще нараспашку, длинном и сером, в мятой кепке козырьком назад. Они стали притопывать в такт новой музыке, а их друзья хлопать в ладоши и напевать:
Эх, раз! Еще раз! Еще много-много раз!
– У меня открывались хорошие перспективы. Я работала сезон в цирке на Цветном бульваре. Для дебютантки это больше чем успех. Это просто счастье. Но потом у меня вышел разлад с мужем. Я стала страдать бессонницей и однажды на тренировке, буквально, как говорят, на пустом месте, упала и повредила позвоночник… Четыре месяца тоски в клинике. И приговор врачей – жить можно, рожать можно, танцевать можно. Заниматься воздушной гимнастикой – нельзя.
– Что же вы теперь собираетесь делать?
– Разводиться с мужем.
– Ваш муж был цирковым артистом?
– Да. Он был велофигурист. Попал в группу новеньких. Им ассистировала одна девица, знаменитая тем, что никому из новеньких не отказывала…