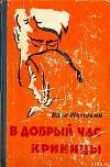Текст книги "Вдруг выпал снег. Год любви"
Автор книги: Юрий Авдеенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 30 страниц)
Вдруг выпал снег. Год любви
ВДРУГ ВЫПАЛ СНЕГ
Роман
Часть первая
САМАЯ ВЫСОКАЯ УЛИЦА
Если город расположен террасами, одна из улиц непременно окажется выше всех.
Сосед Домбровский
Я в степу дороги люблю, горы мне на черепок давят.
Старец Онисим
1
Серая безликость дождя над жухлыми тротуарами, закутанный в липкую, мутноватую пелену сквер, а там, впереди, за облезшим рестораном «Чайка», за дровяным складом и пакгаузами, – море, продрогшее, насупившееся. Волны, грязноватые и невысокие, идут широко, одна за другой, с брызгами и бормотанием, шумным, тягучим. Скребутся о прибрежную гальку, лопаясь белой пеной, похожей на мыльные пузыри.
Весна 1949 года… Весна ли? От одного вида слякоти начинает холодить между лопатками под шинелью. А если ношеная отцовская шинель, которую я еще осенью укоротил на две ладони, промокла, точнее, набухла, то впору выбивать дробь зубами, прыгать, поеживаясь. Я не прыгаю: слишком ленив для этого. Но зубы, кажется, стучат. Они ведь могут стучать сами по себе.
Протяжно гудит паровоз. Клубами пара, огромными, белыми, пинает дождь и серость. Мокрые вагоны послушно движутся впереди паровоза, как козы впереди пастуха, когда он гонит их в горы на пастбище по нашей высокой улице, щелкая кнутом и время от времени дудя в рожок, длинно, громко, так что его слышно на трех-четырех соседних улицах.
Колеса вертятся медленно, словно ощупывают рельсы. Дорога от железнодорожной станции в порт, к пакгаузам, все-таки запущена. Шпалы в грязи лежат давнишние – еще довоенные, и рельсы прогибаются под колесами вверх-вниз, точно дышат.
А что, если положить голову вот под это черное от мазута колесо, над которым короткий борт и белой краской написано: «Тормоз Вестингауза»? Что будет тогда?
Во всяком случае, не будет холода, стыда, растерянности…
2
– Заразы, – сказала тетка Таня и поставила ведро со свежей, еще шевелящейся хамсой на мокрую желтую глину, которой всегда была знаменита наша улица. – Пять лет человеку вляпать. И можно сказать, ни за что.
Я кивнул. Я знал, что вчера эта толстоватая, но энергичная соседка говорила совершенно противоположное: дескать, продавцов вообще всех надо пересажать. Однако сегодня она жалела меня. И мою мать. И возможно, даже не возможно, а скорее всего это была искренняя жалость, искренняя для этого часа, минуты, момента, потому что душа у тетки Тани была подобна нашей кавказской погоде. Солнце в ней появлялось и светило так же искренне, как минуту назад искренне темнели тучи.
– Што? – в нос спросил Прокоша, муж тетки Тани, которого на улице и в городе все знали под кличкой Глухой. – Засудили?
Он вылез из подвала с трехлитровым баллоном темного виноградного вина и прижимал его к груди обеими руками, словно спеленатого ребенка.
– Пять лет! – выкрикнула тетка Таня.
– Пять ле-ет, – гнусаво протянул Глухой. Покачал головой. – Мнохо.
– Как сказать, – возразила тетка Таня, которая еще минуту назад сама утверждала, что матери моей «вляпали» много. Возразила она по привычке, потому что никогда ни в чем не соглашалась с мужем.
– Што ховорить?! – Глухой перехватил баллон в левую руку и, растопырив пятерню, выкрикнул: – Пять лет!
– Пять – это не десять, – сказала тетка Таня таким тоном, будто сама на днях вышла из тюрьмы.
– Взяла бы да посидела, – огрызнулся Глухой.
– Сам, гад, посиди! – зашлась в злобе супруга. – Только и гадаешь, как от меня избавиться.
Собака из двора напротив, разбуженная криком, вдруг кинулась на колючую проволоку, которой вместо штакетника был обнесен сад, накололась, видимо, потому и завыла в голос, обиженно.
– Радости мнохо с тобой жить, – ответил Глухой и жалобно посмотрел на меня, умоляя подтвердить малую меру его супружеского счастья.
Тетка Таня тоже повернулась ко мне. Сказала, потрясая вытянутым пальцем, как указкой:
– Люди воевали, как твой отец, Антон, израненные возвернулись. А он всю войну на базаре самосадом спекулировал.
Судя по доброму упоминанию о моем отце, с которым соседи никогда не находились в дружбе, тетка Таня решила в этом споре заполучить меня в союзники.
Хмурые окна дома, после бомбежки подремонтированного на скорую руку, смотрели слепо и подозрительно. Тучи шли низко, грозя зацепиться за крышу, частью крытую дранкой, а частью старым ржавым железом. Дождь моросил по-прежнему. Лицо у тетки Тани было мокрым и красным, словно она плакала.
– Так и хочет сжить меня со света, – тоскливо сказала она. И вдруг закричала: – Чтобы бабу в мой дом, на мое добро привесть! Проходимку немытую!
– Я баню сделаю, – сказал Глухой и, приподняв баллон с вином, наклонил его и приложился к нему губами.
С прыткостью, удивительной для своей фигуры, тетка Таня бросилась вперед, желая, наверное, изъять баллон из крепких рук мужа, но внезапно поскользнулась на мокрой глине, выстлалась во весь рост, шмякнувшись так громко, что даже тугой на ухо дядя Прокоша услышал и расхохотался от души.
Досада, быть может, и боль, и мысли об испачканной одежде, а главное – безмятежный смех мужа лишили тетку Таню остатков разума. Схватив ведро с хамсой, она с неожиданной ловкостью водрузила его на голову Глухого. Хамса, трепыхаясь, сыпалась по зеленой гимнастерке, блестела.
– Здравствуйте, – сказал кто-то хрипло за моей спиной. – Где здесь живет Шура Сорокина?
Еще минуту назад наша корявая улица казалась безлюдной, если не считать нас троих. Но сейчас у распахнутой настежь калитки, перекошенные штакетки которой оставляли глубокие следы в желтой жирной глине, шевелил тонкими, чуть обозначенными губами пожилой щуплый мужчина в промокшей стеганке и шапке-ушанке, тоже мокрой и вдобавок сильно потертой.
Глухой мотнул головой. Ведро свалилось с плеч, застучало по цементным ступенькам, потом покатилось через двор и замерло возле калитки, у ног незнакомца. Взгляд Глухого был зачумленный, и я не сомневался – судьба баллона с вином предрешена: быть разбитым ему о голову тетки Тани. Но в этот момент заговорил незнакомец, опять хрипло и тихо:
– Не торопись, хороший. Вино богом на землю послано. Его поперву выпить надо. Потом пустым баллоном и вдаришь.
Не знаю, как услышал эти слова Глухой, может, понял по движению губ, но он бережно опустил баллон на ступеньку и принялся старательно выбирать хамсу из своих густых черных волос.
Увидев, что попутный ветер разгоняет над головой тучи, тетка Таня решила не выпускать инициативу. Выпучив маленькие круглые глаза, она закричала, брызгая слюной в незнакомца:
– Я тебе вдарю, черт конопатый! Будешь катиться под гору до самой улицы Коллективной!
– Я извиняюсь, но катиться под гору хорошо при вашей округлости, мадам.
– Еще ругаться смеешь, паскуда лысая! Сам ты мадама. – Тетка Таня сделала богатырский выдох и победно оглядела нас.
Глухой вытирал лицо носовым платком. Тощий кот, уж действительно мартовский, ожесточенно мурлыкая, хватал хамсу за хамсой.
Незнакомец повторил свой вопрос:
– Где живет Шура Сорокина?
– В тюрьме она теперь живет, – мягко, почти радостно сообщила тетка Таня.
Незнакомец совсем не удивился, будто ожидал услышать этот ответ. Кивнул мокрой ушанкой. Поинтересовался только:
– За какие провинности?
– За махинации в магазине, – объяснила тетка Таня миролюбиво. Потом на лице ее вдруг появилось сострадание, и она добавила нервно, чуть не плача: – А какие махинации? Жить-то надо… Почитай, четыре года, как война окончилась, до кой поры в штопаном да в латаном ходить! И занавески на окна хочется, и простыню, чтоб была без дырок. А зима у нас какая гнилая, разве без сапог можно… Заразы… На пять лет человека упрятали.
– Пять лет, пять зим, – неопределенно произнес незнакомец. Похехекал аккуратно, спросил: – Антона, сына ее, где увидеть можно?
– Я Антон.
Незнакомец поклонился мне, приведя этим тетку Таню в состояние изумления. Представился:
– Онисим.
За спиной Онисима висела брезентовая котомка. Из котомки выглядывали деревянные ручки пилы.
– Ты, Антон, к горю головы не поворачивай. Отвернись от него, оно и отстанет.
Я не понял его слов. Вернее, принял их за обычные первые слова, сорвавшиеся с языка совершенно незнакомого мне человека, который почему-то разыскивает мою мать и знает меня по имени. Ясно было, Онисим хотел утешить. Так поняла и тетка Таня, сказала умудренно:
– Горю слезами не поможешь.
Впрочем, я и не плакал. Слова тетки Тани следовало понимать исключительно в переносном смысле.
– В краснодарской больнице врачевался вместе с твоим отцом, – пояснил Онисим. – Он отрядил для твоей матери бумагу.
Онисим распахнул стеганку; под ней была гимнастерка, такая же старая, как на Глухом. Из кармана гимнастерки он вынул толстый замусоленный бумажник, из бумажника записку. Протянул ее мне.
«Шура, – писал отец коряво, без знаков препинания, с ошибками, – к тибе приедет старец Онисим бездомный пусть живет пака холадна».
– Пойдемте, – сказал я Онисиму. – Пока еще холодно.
– Припозднилась весна, – согласился он. Улыбнулся Глухому застенчиво, как маленький ребенок, сказал: – Может, угостишь винцом, соседушка?
– А платить есть чем? – спросила тетка Таня, подбоченясь.
Лицо ее, как и прежде, было мокрым. Но теперь это было не лицо заплаканной женщины. Наоборот, казалось, тетка Таня только что вышла из парилки.
– За угощенье на Руси испокон веков не платят, – возразил Онисим.
– То когда было, – отрезала тетка Таня. – Таперича нам даром ничего не достается.
3
Из сообщения городского радиоузла от 10 апреля 1949 года:
«…Выполняя обязательства, взятые по случаю международного праздника трудящихся Дня Первого мая, с большим подъемом трудится коллектив литейного цеха машиностроительного завода имени Октября. Особых успехов добилась в работе бригада стерженщиков, возглавляемая участником Великой Отечественной войны, бывшим разведчиком Евгением Михайловичем Ростковым. Ежедневную норму бригада постоянно выполняет на 135—140 процентов.
…Сегодня наш корреспондент встретился с начальником порта Валентином Сергеевичем Шакуном. От имени тружеников порта товарищ Шакун заверил, что первомайские обязательства портовики выполнят к двадцать пятому апреля.
…Много забот и дел в эти предпраздничные дни у работников горзелентреста. К сегодняшнему дню выкрашены скамейки на набережной, бульваре Профсоюзов и Коллективном проспекте. На будущей неделе город получит семьсот новых урн».
4
– Если едешь по большому озеру и рыба играет, «играет» говорить нельзя, надо говорить «листья падают», – учитель Домбровский нагнулся к печке и, отодвинув заслонку, пошуровал в ней кочергой.
– Что это, Станислав Любомирович? – спросил я.
– Одно из табу негидальцев.
Розовый свет нешироко ложился на стену возле печки, на худое, костистое лицо Домбровского, высвечивал серебряные дужки его всегдашних очков, а в самих очках дважды отражалась печка с заслонкой, конфорками и закопченным чайником, сопевшим на ней.
Сумрак мокрого вечера терся о стекла каплями дождя, таял на стенах, обшарпанных, не беленных с самых довоенных времен. Дубовый неоструганный столб, подобно колонне подпиравший угрожающе провисший потолок, отбрасывал тень в дальний угол, на диван.
– Соблазн – это то, что люди во все времена связывали прежде всего с происками дьявола, – Домбровский выпрямился. Он сидел на низкой скамеечке, сделанной им самим давно-давно, еще в молодые годы. Он любил ее больше, чем диван, на котором спал. Сидел, положив руки на колени. И шея его, как всегда, была обмотана шерстяным шарфом – в первозданном виде синего цвета. Нынешний цвет шарфа не без труда смог бы определить даже художник-профессионал.
– Пять лет пребывания в колонии – наказание достаточно гуманное. За дьявольщину, Антон, смертных сжигали на кострах.
Он говорил громко, и кожа на его лице двигалась, и плечи двигались тоже. Станислав Любомирович преподавал в нашей школе географию. Он преподавал ее всегда, с первого дня, как открылась школа. Я никогда не учился у него, но знал, что он хороший преподаватель. Ученики любили Домбровского. Такое у нас случалось нечасто.
– Вы верите в бога, Станислав Любомирович? – я произнес слова без вызова, так, чтобы не обидеть учителя.
– Почему вы спрашиваете, Антон? – голос Станислава Любомировича, казалось, напрягся. Откинув седую голову, он неподвижно смотрел на меня сквозь очки, которые сползли теперь на самый кончик носа.
– Я часто слышу от вас «боже мой», «дьявол».
– Это все не больше чем междометия. Я родился в тысяча восемьсот восемьдесят третьем году. Мне шестьдесят пять лет. Я старый человек, Антон. Я верю в тайну. Вы спросите, в какую?
– Да, если можно…
– Если можно, – усмехнулся Домбровский и встал. Повернулся к стенке, нащупал выключатель. Огромный, как зонт, абажур, шелковый, с бахромой, висевший на длинных шнурах рядом с неотесанным дубовым столбом, вынырнул из темноты, засветился скупо, тоскливо. Мне почему-то казалось, что когда-то, лет тридцать-сорок назад, он был благородного фиолетового цвета.
– Как вы понимаете, Антон, в дни моей молодости много говорили и спорили о религии. Некоторые умы заявляли: религия – или ничто, «обман воображения», или величайшее явление человеческой воли, а воля – единственный источник действия. Другие утверждали, что воля, ее понятие, не может сочетаться со слепой покорностью божественной силе, – значит, данная постановка вопроса чистейший софизм.
Распахнув резные створки темного буфета, Домбровский вынул две большие фаянсовые чашки, совершенно одинаковые; на каждой из них яркими красками были изображены дама типа пиковой из колоды игральных карт и франтоватый мужчина, похожий на д’Артаньяна. Домбровский протянул одну чашку мне. Остановился. Глядя мимо меня в потемневшее окно, задумчиво потер подбородок. Сказал:
– Суждение креационистов о сотворении богом всего сущего в течение шести дней, мягко говоря, тоже более чем сомнительно… С другой стороны, я бы не подписался и под трактатом Дарвина «Происхождение человека и половой отбор».
Он взял с плиты чайник, пахнущий зверобоем (Домбровский заварил кипятком именно эту траву), повернулся ко мне.
Я подставил чашку, спросил:
– Какой же вывод?
– Сегодня, десятого апреля тысяча девятьсот сорок девятого года, люди не располагают такими знаниями, чтобы делать далеко идущие выводы по этому вопросу. Вопрос бытия в какой-то мере остается тайной. В эту тайну я и верю. – Он налил себе, отхлебнул. – Антон, я всегда забываю, что вы любите этот напиток с сахаром. Сахар в буфете.
– Спасибо, Станислав Любомирович, я уже привыкаю.
Произнесенные слова были правдой. Я привыкал к зверобою уже третий год. Должен признаться: напиток сей на большого любителя.
Домбровский удовлетворенно кивнул, опустился на скамейку. Пригубив из чашки, сказал весело:
– Значит, отец удружил вам постояльца. Каков он?
Я пожал плечами:
– Старец Онисим… Первым делом поинтересовался, сколько в городе парикмахерских. Оставил котомку и ушел бриться…
– Сколько, кстати, у нас парикмахерских? – спросил Домбровский, возможно, заинтересованный необычайностью интереса старца Онисима.
– Восемь.
– Я и не знал.
– Я тоже не знал. Просто когда он спросил, пришлось подсчитать по памяти.
Протяжный, мелодичный звон часов напомнил – уже девять. Девять вечера на улице и в дряхлом доме одинокого учителя географии.
– Я пойду, Станислав Любомирович. – Диван скрипнул, когда я поднимался. – Ключа не оставил.
– Правильно сделали, – одобрил Домбровский. Сердито, так что морщинки выстроились на лбу, добавил: – Кто этот старец Онисим? Вы не знаете.
– У нас вещи описаны. Я предупрежден, чтобы ничего не пропало.
– Да, конечно, – погрустнел Домбровский. Извинительно сказал: – Я вас очень прошу, Антон…
– Не упоминать о наших разговорах в школе, – прервал я учителя. Добавил обиженно:. – Могли бы каждый раз и не предупреждать. Я не трепач, Станислав Любомирович.
– Это очень хорошо, Антон. Очень хорошо. Это качество весьма пригодится вам в жизни.
5
На улице было совсем темно. Ни фонарей, ни луны, ни звезд. Даже четыре кипариса, росшие возле дома Домбровского, которые на фоне неба можно было видеть самой темной ночью, не различались из-за дождя. Дыру в заборе я определил чутьем. Четыре, шага за угол, в сторону от квадрата перекошенного окна, – и смело в темноту. Каких-нибудь десять метров. А там наш сад.
Мокрые ветки вишни, торчащей у забора рядом с собачьей конурой, в которой несколько лет жила дворняжка Пальма, издохшая перед Новым годом, коснулись меня. Земля громко чавкала под галошами. И галоши скользили, потому что были старыми.
На крыльце кто-то курил. Огонек не маячил, но капли дождя вдруг начинали красновато блестеть, образуя круг размером с велосипедное колесо. У меня был красивый велосипед. Трофейный. Отец купил его, вернувшись с войны. Ручной тормоз, втулка «Торпедо», закрытая передача, фара и три красных фонарика, шины «Superballon», замок (чтоб не угнали) – мало кто из ребят в городе не завидовал мне.
– Антон? – Я узнал тихий и хриплый голос старца Онисима. – Ну, слава тебе господи.
– Побрились? – спросил я, поднимаясь на крыльцо и осторожно нащупывая ботинком подгнившую ступеньку, способную обломиться в любой момент.
– С громадным удовольствием.
– У нас армяне хорошо бреют. – Я открыл замок, включил в коридоре свет. Сказал: – Проходите.
Старец Онисим сощурился. Будто бы съежился – наверное, замерз. Спросил вкрадчиво:
– А парикмахера по имени Ахмет в городе, случаем, не встречается?
Кот Маркиз ласково терся о мою ногу, мурлыкал. Я развел руками:
– Не могу сказать точно. Бриться я еще не бреюсь. А подстригаюсь всегда напротив почты, у Маиса.
В коридоре стоял лишь ничем не покрытый стол. На нем два ведра с питьевой водой. Сейчас одно ведро обнажило сухое, поржавевшее дно. Зато во втором ведре вода доходила до самой дужки. Вешалки не было. Ее заменяли большие гвозди, вбитые в деревянную стену, прикрытую газетой. Четыре гвоздя. На первом висело старое платье матери, которое она почему-то называла «шотландкой». Носила его по дому и во дворе. На втором улыбался голубыми и розовыми листьями фартук, новый, надетый два или три раза, – его ко дню рождения подарили ей сотрудники. На остальных двух гвоздях ничего не висело. Край газеты с одной стороны был оторван, газета загибалась, мутила душу желтизной и ветхостью.
– Хе-хе, – прокряхтел или прохрипел (попробуй разбери) старец Онисим, стаскивая стеганку. Тряхнул ее энергично, повесил на гвоздь и сказал, цепко поводя глазами: – Гость немного гостит, а много видит. Зырки у него широкие, как у кота ночью.
Манера, в которой он говорил, оглядывая коридор и переминаясь с ноги на ногу, не то чтобы раздражала меня или злила. Нет! Она просто была мне неприятна.
– Ты лапти-то сними, – сказал я, кивнув на его американские ботинки, мокрые, заляпанные грязью.
– Эт можно… – добродушно согласился он. – Пестовала Шура дом. Пестовала…
Он говорил о моей матери так, словно знал ее лично.
– А теперь и полы помыть некому. – Старец Онисим присел на корточки, начал развязывать шнурки. – Эх ты, мой хороший. Мужик, он и есть мужик. Для уюта существо не созданное. Был бы ты девкой, тогда бы порядок в доме и без матери сохранился.
– Был бы я девкой, спал бы ты как миленький на вокзале, – без всякой вежливости ответил я.
В комнате, посмотрев в левый угол и увидев там старенькую икону Николая-угодника, которую мать повесила в разгар самых жестоких бомбежек, старец Онисим проникновенно перекрестился, потом вздыхая, оглядел комнату. Сказал:
– Богато.
Голос его, и без того хриплый, утонул в бархате штор, висевших на дверях и на окнах, в ковровых дорожках, вытянувшихся от одной стены к другой. Покачав головой, погладил ладонью тяжелую золотисто-бордовую скатерть и сказал, как о корове:
– Гладкая.
– Немецкая, – пояснил я.
– Мать, наверное, по крупкам собирала, – скорбно посмотрел на меня Онисим. И неожиданно перекрестился, словно увидел за моей спиной нечистую силу.
– Отец с войны привез, – сказал я.
– Мудрую, завидовали соседушки трофеям.
– Завидовали.
– Зависть в человеке, как моча, никогда не кончается. – По лицу Онисима от левого глаза к самому краю губы и дальше, вниз к подбородку, пробежала судорога, быстрая, будто искра.
Он осторожно, может боясь нашуметь, присел на краешек дивана, отогнув маленький коврик, на котором были изображены лес, пряничный домик, Красная Шапочка и Серый волк.
– Садись смело, – сказал я. – Все описано. Завтра заберут.
– Что у Шуры случилось? – поджал замерзшие губы Онисим.
– Пересортица.
– Это как же?
– Второй сорт за первый продавала.
Онисим крякнул:
– Трофеи описали?
Я кивнул, спросил:
– Наверное, есть хочешь?
В ответ Онисим запел. Дернулся головой, словно петух, но не прокукарекал, а запел что-то среднее между «Чижиком-пыжиком» и песенкой про серого козлика:
– Ля-ля-ля… ля-ля-ля-ля…
Пошевелил пальцами правой руки, словно они затекли. Наклонив голову, по-птичьи, одним глазом, посмотрел на меня, спросил вкрадчиво:
– Вино не давите?
– Кому давить… В нашем дворе Глухой – мастак по этой части. У него прямо-таки волшебное вино получается. Технологи из Абрау-Дюрсо приезжали, интересовались.
– Взаймы бутылочку не отпустит? – без всякой надежды спросил старец Онисим.
– Взаймы у него спичек не выпросишь.
– Уважаю, – грустно сказал Онисим. Вынул из кармана десять рублей. – Меньше чем на литр не соглашайся.
6
С благостным выражением на лице Глухой перебирал распущенные волосы супруги, расчесывая их частым костяным гребешком. Тетка Таня сидела перед ним на табуретке, и глаза ее были сощурены от удовольствия.
Я прошел мимо окна, постучал в дверь. Открыл Глухой. Наверное, тетка Таня жестом или взглядом показала ему на дверь, потому что я не слышал никаких слов за дверью, а Глухой, конечно же, не мог слышать моего стука.
Тетка Таня увидела меня, улыбнулась. Сказала:
– А мы воши ищем.
– Ни пуха ни пера, – пожелал я.
– Да теперь что, – сказала тетка Таня. – Баловство одно… Вот в войну бывалоча: часанешь, как горох сыпятся.
Я кивнул в знак согласия, потому что знал – не может быть ничего страшнее, чем спор с теткой Таней. Показал Глухому червонец, выкрикнул:
– Вина продай! Старец просит…
– Старец, – прогундосил Глухой и потянулся к деньгам. Пальцы у него были крепкие, с пожелтевшими от проявителя, короткими ногтями.
– Обворует он тебя, – сказала тетка Таня.
– Што? – не понял Глухой.
– Обворует, говорю, старец, – она повысила голос.
– А-а, – встал с табуретки Глухой. – Пусть ворует. Один черт – все описано.
– Он литр хочет, – ответил я. И показал на пальцах.
– А два не хочет? – рассердился Глухой.
– Деньги не мои, – сказал я. – Литр, или я забираю деньги.
– Ладно, – решила тетка Таня. – Продай литр. Мне галоши покупать надо.
Прокоша безразлично махнул рукой: пропади оно пропадом. А может, он не вкладывал такого смысла в жест, потому что любил и ценил все свое и не хотел, чтоб оно пропало. Но я понял его именно так. А тетка Таня вообще не поняла. Зевнула, погладила ладонями волосы, подула на гребешок и пошла на крыльцо. Ветер шаром выкатился из черноты дверного проема, хлопнул печной заслонкой, потерся о занавеску из старой марли, висевшую над широким окном. Мне стало холодно, неуютно. И усталость легла на душу сразу, вдруг.
В соседней комнате по-детски вскрикнула бабка Акулина, грохнула чем-то о пол. Тетка Таня сказала, посмотрев в раскрытую дверь, из которой полз тяжелый чесночный запах:
– Надо святой воды принести. Над бабкой шутик шутит.
Глухой достал из-под кровати баллон с вином. Тетка Таня закрыла дверь и вернулась в комнату. Но ощущение холода теперь не покидало меня, и наоборот: бутылка, которую мне передал Глухой, показалась теплой, точно живой.
– Скупердяй твой Глухой, – сказал старец Онисим, кинув взгляд на бутылку. – Иль сам отхлебнул малость?
– Не пью я.
– И не надо… Я тоже поздно нить начал, когда душа болеть стала. Заместо лекарства определил.
– А как она болит, душа-то?
– Час простучит, узнаешь. – Онисим заморгал глазами, прикусил нижнюю губу, замер, будто чего-то испугался. Потом решительно взял бутылку и запрокинул горлышко в рот.
– Стаканы есть.
Он опустил бутылку, с удовольствием облизал губы. Посмотрел на меня искоса, заявил:
– Без надобности.
– Артист, – сказал я не очень дружелюбно. – Спать будешь на диване. Одеяло, подушка в шкафу. Простыни у меня чистой нет.
– Эт ничего. Я и на полу могу.
– Еще чего… Диван свободен. Вот когда увезут его, будешь спать на полу.
Онисим поспешно кивнул. Спросил тут же:
– Запоры на дверях хорошие?
– Вполне.
– Эт хорошо… – Он потер ладонь о ладонь и опять запрокинул бутылку.
Я прошел в свою комнату, быстро разделся, лег в постель. Долго не мог согреться. Лоза винограда билась в окно. Ее было видно сквозь стекло. Видно вопреки всякой логике: ночь по-прежнему была темная, свет в комнате не горел.
Онисим… Я не слышал Онисима, словно находился в доме совсем один.
7
Заведующая учебной частью Ирина Ивановна Горик повернулась. Профиль ее, тонкий и гордый, обозначился на бледном экране окна, смотрящего прямо на море, где висел туман, без солнца, без неба, как лист белой непрозрачной бумаги. Она говорила красиво. Вернее, голос ее звучал красиво, и никакого другого слова тут не подберешь.
– Тридцать шесть дней – это совсем немного. Сдашь экзамены… Потом решай.
– Я хочу матросом на судно.
– Девять классов не помешают и матросу.
Она смерила меня взглядом высокомерно, но не зло, может несколько раздраженная моим упрямством, бестолковостью. Рядом с ней, в углу между окном и увешанной картами стеной, стоял скелет человека, невысокий и немножко жалкий. Он стоял здесь, потому что в школе не было кабинета по анатомии, как не было кабинетов и по физике, и по истории, и по географии. И вообще здание школы использовалось лишь наполовину: в ее правое крыло осенью 1942 года угодила бомба. Только с нынешней зимы, с января, появилась при школе бригада рабочих, и на школьный двор были завезены кирпич, цемент, известь…
– Ты ленишься…
– Мне стыдно, – признался я.
– Дети не отвечают за родителей, – уверенно объяснила Ирина Ивановна Горик. Добавила: – Иди на занятия.
Звонок разрывался за стеной в коридоре. Слышались топот, смех, выкрики.
– Так не бывает, – уныло сказал я. – Все отвечают друг за друга.
– Не говори за всех, – строго произнесла она.
Закрыв дверь учительской, я оглядел пустой коридор, вдоль которого тянулись высокие окна, наверху еще заколоченные фанерой, выбеленной известью. На лестничной площадке мелькнула сутулая спина уборщицы бабы Сони. Рядом за дверью класса кто-то громко и монотонно читал:
Буря мглою
Небо кроет…
«Ну и пусть кроет, – подумал я. – Очень даже хорошо». И пошел не в класс, а в туалет. Вынул пачку сигарет «Метро», красивую, голубенькую, с большой красной буквой «М» посередине. Уселся на подоконник и закурил. Школу я решил бросить твердо и бесповоротно. Нет, я понимал правоту заведующей учебной частью, понимал, что два месяца – это не срок. Но уже вид школы, запах ее коридоров, дребезжание звонка в руках бабы Сони вызывали у меня тошноту. Почему? Не знаю. Может, мне действительно было стыдно за то, что случилось у нас в семье, может, не хотелось, чтобы меня жалели. Может, просто потому, что очень многие ребята и девчата моих лет уже работали на производстве. Словом, к наукам меня не тянуло. Второй день я был самостоятельным человеком, предоставленным самому себе как ветер в поле. И это даже очень нравилось мне.
Окурок я раздавил подошвой.
Лениво, вразвалочку прошел по коридору, распахнул дверь класса. Математичка даже приоткрыла рот от удивления. Звали ее Марианна Иосифовна. К нам в город она приехала после войны. Я не знаю почему – то ли она эмигрировала в революцию, то ли по какой другой причине, – но жила она много лет за границей, кажется в Австрии, а вот после войны, будучи уже не очень молодой, пожелала вернуться на родину. У нее была прекрасная коллекция почтовых марок. Она приносила в школу два или три альбома. Мы задыхались от зависти и восхищения, разглядывая их.
– Чего же это она приехала? – узнав про математичку, удивился Онисим.
– На родину захотелось, – предположил я. – Она родилась в России.
Тетка Таня пренебрежительно махнула рукой:
– Родилась. Все рождаются… Вот батя мой с барином к австриякам ездил, так у них там такой порядок: если ты на скамейку, скажем, в парке сел, плати гроши… В шестнадцатом году ездил.
– В шестнадцатом году война была, – напомнил Онисим.
– Не знаю, – быстро и решительно ответила тетка Таня, отметая слова старца, как глупость. – За скамейки там гроши платят…
– А, Сорокин, – сказала Марианна Иосифовна тонким голосом, резко вскинула голову, и ее белая высокая прическа колыхнулась, даже чуть сдвинулась влево. И конечно, все поняли, что никакая это не прическа, а самый настоящий хороший заграничный парик.
– Разве можно так опаздывать на урок?
– Я не опоздал, Марианна Иосифовна, – голосом праведника ответил я, глядя в глаза учительницы.
– О, то есть как? – В гневе дряблые щеки ее покрылись яркими пятнами, мелкими, как горох.
– Я пришел проститься с ребятами… Я ухожу.
– Как уходите? – не поняла Марианна Иосифовна. – Кто вам разрешил?
– Я сам себе разрешил, – мне было приятно произносить эти слова. – До свиданья, ребята.
Даша Зайцева, рыженькая настырная девчонка, с которой я сидел на одной парте, подняла руку и, не дожидаясь, когда учительница обратит на нее внимание, решительно сказала:
– Разрешите мне выйти, Марианна Иосифовна.
– О, то есть как? – это было излюбленное выражение математички.
– Мне нужно, – поднялась Зайцева. Она была ниже всех в классе и потому имела прозвище Грибок.
– Если вам неинтересно… – начала Марианна Иосифовна, но Зайцева прервала ее:
– Мне интересно, но очень нужно…
Она догнала меня на лестничной площадке, тихо позвала:
– Антон…
Я остановился. Лестница широкими пролетами уходила в полумрак первого этажа, потому что окна в просторном, похожем на спортзал вестибюле были застеклены лишь наполовину; верхняя часть окон тоже была заколочена листами фанеры.
– Слушаю тебя, Грибок.
– Зачем ты это? – спросила она жалобно.
– Чего «зачем»? Чего «это»? – я говорил грубо: боялся, что она утопит меня в своей жалости.
– Школу нельзя бросать, – сказала Зайцева проникновенно и чуть прикрыла глаза. Я впервые заметил, что ресницы у нее длинные, загнутые и тоже рыжие.
– Я в моряки пойду.
– Правда? – кажется, испугалась она.
Шаркая галошами, медленно, словно прислушиваясь к нашему разговору, прошла баба Соня. Ничего не сказала: ее интересовал только порядок по дворе.
– Матросом дальнего плаванья, – пояснил я.
– Возьмут?
– Почему же нет? Специальность на судне получу. Белый свет увижу… А чего здесь сидеть? Дожди нюхать, – быстро говорил я, убеждая скорее себя, чем ее.