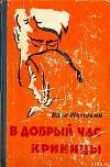Текст книги "Вдруг выпал снег. Год любви"
Автор книги: Юрий Авдеенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц)
– Здесь не только дожди, – возразила она, обиженно оттопырив губы.
– Это я к примеру…
– Да, – Зайцева протяжно вздохнула, опустила голову. Потом вздохнула еще раз, посмотрела на меня. Так, тепло, на меня смотрела только мать. – Может, ты и прав, Антон.
8
Железнодорожный вокзал прятался за сквером, где росли многолетние липы и чернел старой грязью фонтан, сколько я помню, никогда не действовавший. Перед вокзалом лежала площадь. Очень небольшая, скорее маленькая. Заасфальтированная еще прошлым летом, облизанная дождями и ветрами, она имела затрапезный, прямо-таки сиротский вид. У выезда на площадь от булыжной мостовой наискось к скверу тянулась длинная лужа, конфигурацией напоминающая американский материк. Возле Панамы воробей пил воду. Он покосился в мою сторону, но не взлетел и не отпрыгнул, продолжая стоять нахохлившись, словно готовый вступить в драку.
У павильона, низкого, окрашенного в голубой цвет, трое мужчин курили и разговаривали. Я знал их в лицо – в нашем небольшом городе многие знали в лицо друг друга, – и они меня тоже. Когда я проходил мимо, они умолкли, а один, низенький усатый армянин, даже кивнул в знак сочувствия. Я кивнул ему в ответ. Сказал:
– Здравствуйте.
Переступил порог павильона. В павильоне пахло вином и папиросным дымом, хотя за четырьмя столиками, теснившимися один к другому, никто не сидел. Майя Захаровна, высокая и черная, возвышалась над буфетной стойкой, а за спиной ее темнели дубовой стеной бочонки с глазницами светлых бирок: «Фруктово-ягодное», «Портвейн 777», «Букет Абхазии».
Отодвинув счеты, Майя Захаровна посмотрела на меня как на покойника и с нескрываемой тоской, почти завывая, произнесла:
– Де-то-чка-а-а! Это все Заикин-проходимец подстроил. Шура тут ни при чем.
– Заикин привлекался как свидетель, – возразил я.
Майя Захаровна поморщилась, наклонилась, сказала полушепотом:
– Без директора ничего не бывает. Я, Антон, уже двадцать восемь лет за прилавком. Я все знаю. С меня можно торговую энциклопедию писать. А что я имею?.. Ты у меня дома был. Что у меня, ковры есть? Или шубы? Шесть тарелок, да и то из буфета принесла. Я тебе так скажу. Вот пять граммов на стакан недолью. Сам понимаешь, не каждому. По человеку вижу, кому можно, кому нет. Глазомер, он только с опытом приходит. Что дальше? Рабочие бочки привезли – надо налить. Директор пришел – надо налить. Пожарник огнетушитель проверил – налить. А платить ни у кого денег нет… Попадешься, Антон, – друзей ищи-свищи… И ты, как на дуэли, один на один с законом.
– Плохо, – сказал я.
– Плохо – не такое уж плохое слово, – покачала головой Майя Захаровна. – Надо подлости бояться… Сегодня эти обсосы бесплатно пьют, а завтра будут бить себя в грудь и кричать на собрании, что язвы в торговле нужно каленым железом выжигать.
– Кричат, значит?
– Распинаются. – Майя Захаровна вдруг суетливо зашарила руками по прилавку, будто в темноте пыталась найти что-то. Потом повернулась к бочкам и сразу успокоилась, точно искала именно их. Спросила:
– Ты завтракал?
– Да, – соврал я, не потому, что стеснялся Майю Захаровну: есть не хотелось.
– Съешь колбасы. И чай у меня хороший. Для себя завариваю, никто другой не пьет.
Она вышла из-за стойки, подсела к столику. И пока я ел, сидела рядом, сутулая, в белом полухалате, на котором не было двух верхних пуговиц. Зеленая кофта была широка ей в воротнике, и, может, поэтому шея казалась совсем сухой и жилистой.
– Описали? – У нее была манера переходить от крика к шепоту, как бы подчеркивая этим важность разговора, особенность момента.
– Позаботились.
– Все?
– Кур забыли.
– Много?
– Шесть.
Майя Захаровна задумалась, прикрыла ладонью губы. Наверное, через минуту сказала:
– Ты их забей. И мне принеси.
– Как забей? – Я сразу не понял, что она имеет в виду.
– Отруби головы. Я их тут сварю и продам, – пояснила она.
– А можно?
Она махнула рукой, удивляясь наивности вопроса:
– Когда человек вольет в себя два стакана, у него появляется естественная потребность закусить. Я тебе тут и корову продам, если хочешь.
– Коровы у нас нет.
– Да знаю, – она опять махнула рукой. Потом вдруг прищурилась и спросила подозрительно: – Ты почему не в школе?
– Я бросил.
– Шура расстроится, – печально и строго сказала Майя Захаровна.
Я спросил:
– Значит, Заикин?
– Да. Он ей все масло высшим сортом давал, которое и первый сорт было, и второй… Без накладных. Накладные в конце дня оформлял. А разницу они делили.
– Все-таки делили?
– Ну а как же? – удивилась Майя Захаровна. – Кто задаром на риск пойдет?
За стенами павильона, над привокзальной площадью, прохрипел репродуктор:
– На первый путь принимается скорый поезд Адлер – Москва. Стоянка поезда четырнадцать минут. Граждане пассажиры, будьте осторожны. На первый путь принимается скорый поезд…
Майя Захаровна поспешно вернулась за стойку, обмахнула ее тряпкой.
– Ладно, деточка, давай закругляйся… Сейчас самая торговля пойдет.
9
Возле базара в угловом доме, восстановленном в марте и поэтому глядевшем свежо и молодо на фоне развалин трех других домов, открыли хозяйственный магазин. За магазином была площадь, которую окаймляли молодые клены, казалось, склонявшие верхушки перед довоенным памятником на высоком постаменте. Три грузовые машины и телега с впряженной в нее равнодушно жующей лошадью занимали сейчас большую часть площади. Ближе к магазину, метрах в пяти от входа, у стены стояли пустые ящики с сорванными крышками, вокруг них валялись мятая бумага и короткие древесные стружки. На полукруглых цементных ступенях, ведущих к дверям, распахнутым настежь, темнела сырая неровная дорожка следов.
Туман начал редеть, и за площадью просматривалась дорога. Машины, катившиеся по ней, пугали прохожих громкими сигналами.
Я зашел в магазин не за покупкой. Зашел просто так, посмотреть, что там есть, потому что еще ни разу не был в этом магазине. Перед прилавком, загромождая проход, стояли большие открытые бочки с сухой краской. В одной из бочек краска была нежная, приятная. Дощечка на бочке извещала, что это «парижская зелень».
В магазине продавали заики, гвозди, шурупы, косы, горшки для цветов, деревянные прищепки.
Меня хлопнули по плечу. Тяжеловато. Я, признаться, даже вздрогнул.
– Чего покупаешь, Антон?
Женя Ростков, наш сосед по улице, высокий и широкий, в солдатской шинели без погон, держал в руке косу, черную, с отточенным лезвием.
– Просто так… Зашел посмотреть, дядя Женя, – ответил я.
У нас на улице среди детей почему-то существовал обычай называть взрослых не по имени и отчеству, а со словами «тетя», «дядя». Эта привычка была так сильна, что, и выйдя из детства, многие из нас по-прежнему величали соседей тетями и дядями, словно они были близкими родственниками.
Росткову, если не ошибаюсь, двадцать пять. Он два года назад вернулся из армии. Служил разведчиком, старшиной. Женился на Вальке Криволаповой с нашей улицы. У Вальки отца в войну убили. Жила она с матерью, женщиной болезненной, неразговорчивой. Дом, пострадавший от бомбежки, как говорится, еле держал душу в теле. Женя оказался мужиком хозяйственным: за год дом отделал – не узнать, забор поставил. Валька дочку родила. Словом, у него все в порядке. Сам работал на машиностроительном заводе.
– А я вот косу купил, – похвалился Ростков. – Скотину заводить надумали. Свежее молоко для детей очень полезно.
– Правильно, – сказал я. – Сена накосишь – и полный порядок.
– Точно, – кивнул Ростков, улыбнулся простодушно и радостно: скорее всего вспомнил про дочку.
Мы вышли из магазина и уже прошли площадь, когда Ростков, подозрительно посмотрев на меня, сказал:
– Слушай, до воскресенья целых два дня, а ты почему-то не в школе.
Опять двадцать пять!
Мне не очень хотелось объяснять, что я решил оставить школу. Но обманывать Росткова, человека, которым восхищалась вся наша улица, не посмел. Без смущения, однако не бравируя, объявил я Росткову свое решение и в конце сказал, что хочу устроиться учеником на судоремонтный завод. До восемнадцати лет перекантуюсь, а потом махну в Одессу или в Новороссийск и постараюсь попасть матросом на судно, которое ходит в дальнее плавание.
– Программа, достойная уважения, – без улыбки, на полном серьезе заметил Ростков. – Однако на кой ляд тебе судоремонтный? Заводишко он еще маломощный, заработки под стать заводу… Пойдем лучше к нам в литейный. За пару лет настоящим мастером станешь. И работа творческая, это тебе не гайки обтачивать. Металл – стихия. Волнующая… И потом… Море, конечно, понятно, я и сам в твоем возрасте моряком мечтал быть. Только рано или поздно соскучишься ты по суше. И семью завести захочешь, детишек… Осядешь, у тебя в руках специальность – литейщик. Специальность, достойная уважения.
– Я подумаю, дядя Женя, – сказал я осторожно, убежденный, что литейное ремесло не тот предмет, о котором я могу спорить.
– Ты подумай, – разрешил он. – И загляни ко мне завтра в это время, я сейчас во вторую смену.
– Хорошо, – торопливо ответил я. Жанна стояла возле почты, опускала письмо в почтовый ящик. Я смотрел на ее красные туфли с каблуками необыкновенной ширины. – Я зайду.
Ростков прошел вперед, потом недоуменно обернулся. Я стоял как прикованный.
– Заходи, – сказал он, немного удивляясь моему странному поведению.
Я лихорадочно закивал в ответ. Жанна находилась рядом, на расстоянии вытянутой руки. Я должен был поговорить с ней или хотя бы поздороваться. Пусть она лишь кивнет. Даже кивок будет означать многое: она узнала меня, запомнила.
Делаю гигантский шаг, словно не ногами, а ходулями. Почтовый ящик висит так, что опустить письмо можно, только поднявшись на ступеньки. Жанна чуть ли не натыкается на мою нестриженую голову, останавливается, отводит плечи назад. С удивлением глядит сверху вниз, потому что стоит на ступеньку выше.
– Здравствуйте, Жанна, – говорю я, и мне становится смешно: не узнаю собственный голос.
– А-а… Здравствуйте, – в ее густом сочном голосе холодная вежливость.
– Меня зовут Антон, – напоминаю я.
– Да, да, – говорит она. – Это интересно.
– Что интересно?
– Может, вы разрешите мне пройти? – Она капризно передергивает плечами.
Подумаешь, певичка, которой никто не хлопает!
Она делает шаг влево, чтобы обойти меня, но я подаюсь вправо, торопясь уступить ей дорогу. Мы сталкиваемся нос к носу.
– Ненормальный, – раздраженно произносит Жанна и быстро уходит, стуча по тротуару своими заграничными туфлями.
– От ненормальной слышу, – ору ей вслед и тут соображаю: какой же я дурак!
Доктор Фелицын повернул ко мне седенькую голову, укоризненно вздохнул. Я вытянулся, будто школьник при ответе, смущенно сказал:
– Здравствуйте, доктор.
– Добрый день, Антоша.
Фелицын приподнял плечи: озяб наверное. Пошаркал мимо почты в сторону кинотеатра, опираясь правой рукой на палку, а в левой неся неизменную сумку, когда-то черную, а теперь уже серую – выгоревшую, потертую.
…К Заикину пришел злой, даже нельзя сказать «как собака». Городские собаки в основном были добродушные, лаяли из озорства, виляли хвостами.
Я хлопнул прилавком так, что две продавщицы, вчерашние товарки моей матери, вздрогнули. В кабинет Заикина можно было попасть, пройдя темным коридором мимо склада и раздевалки. Распахнул дверь. Заикин стоял у обшарпанного стола. Трое мужчин – одного я раньше видел, он был рабочим по магазину, – сидели на стульях, курили и спорили.
Увидев меня, Заикин вздрогнул, подошел поспешно. В глазах вопрос: зачем пожаловал?
– Мне поговорить надо.
Он сказал:
– Выйдем.
Мы вышли через черный выход на задворки магазина. Следы автомобильных шин, пустые ящики, сваленные как попало.
– Вы сволочь, – сказал я Заикину.
Еще вчера думал: не посмею, не решусь говорить так. Думал, буду мямлить, краснеть перед человеком, которого всегда называл Игнатом Мартыновичем. Но злость рванулась, как ветер в форточку, и слова вылетели под листья акации, под серое небо. Впрочем, может, я ошибаюсь, может, они не устремились вверх, а тяжело кувыркались по двору, точно камни, брошенные с горы. Кто знает?
– Па-па-а-чему? – Он никогда раньше не заикался. Фамилия до нелепости не соответствовала его ровному, спокойному голосу. Худое лицо, плохо выбритое и потому казавшееся просто небрежно общипанным, искривилось и застыло, точно перед объективом фотоаппарата.
– Я слышал ваши великолепные логические показания… на суде. – Фраза вышла слишком длинной. Я едва не подавился ею, поэтому последние два слова – «на суде» – выплюнул, как косточку.
– Я честный человек, – ответил он и опустил глаза.
– Вы честная сволочь…
Меня злило, что он с умным видом разглядывает грязь, засохшую на булыжниках, будто ищет там какой-то смысл, разгадку тайны: это же надо уметь напускать на себя такую многозначительность в самых паскудных ситуациях!
– Она на вас надеялась.
Напоминания о ней проняли его, – во всяком случае, он поднял глаза. В них читалась усталость.
– Ей ничем нельзя было помочь, – сказал он. – Шура сама подписала показания.
– Она могла отказаться от них, дать новые. Мне говорил адвокат.
– Адвокат говорил и другое, – сморщился Заикин, растянув и без того узкие губы. – За групповые преступления наказание больше.
– Пять лет больше чем достаточно.
– Сегодня ей тридцать шесть. Сорок один еще не вечер.
Между нами была стена. Он не видел ни меня, ни улицы, ни двора, перекатывающегося с бугра на бугор, с камня на камень, ни домов с крышами из погоревшей дранки.
– Я, возможно, убью вас, Заикин, – пообещал я и пошел через двор.
Он схватил меня за рукав шинели, похоже готовый расплакаться:
– За что?
– За кого, – поправил я.
– Но… Но ты же все знал. Мы дружили с гобой…
– Тогда я был маленький. Понятно?
Ему было понятно, однако он не ответил. Выпустил мой рукав. Если бы я ударил его, он не стал бы защищаться.
– Простите, – сказал я голосом, противным самому себе. – Это я так… Нес дребедень.
Он молчал. Он не слышал моих слов – это точно.
10
«Онисим обворовал нас». Я подумал это сразу, едва ступил в комнату. Тяжелая темно-бордовая скатерть с золотистыми лепестками вдоль края больше не украшала стол. Плюшевые шторы не прикрывали двери, на окнах не было занавесок, а голая панцирная сетка кровати глазела на меня стыдливо и обиженно.
За окном с веток и жирных почек стекало солнце. Кудахтала курица, одна из шести, которым мне предстояло отрубить головы. За окном пахло землей, мокрым деревом, зеленой травой. А тут стены холодили, словно они были из снега.
– Да-а, деда-а, – наверное, по растерянности самому себе сказал я.
– Ишь погода как поменялась, – ответил из другой комнаты Онисим. – Ну чисто красна девица.
Старец сидел в пустой комнате на полу, сложив ноги по-турецки. Был он без брюк, в длинных красных трусах, скорее всего футбольных, латал протертые на ягодицах солдатские шаровары.
– Я вот когда утром в портовую парикмахерскую бриться шел, туман как молоко был, хоть пей. А теперь, гляди-ка, солнце…
– Лучше бы портки на толкучке купил, чем каждый день ходить бриться в парикмахерскую.
– Гигиена лица – дело сурьезное, – хитровато улыбнулся старец.
Если бы не Заикин, не конфискация вещей, никогда не стал бы я грубить старому человеку. Но тут уже все шло наперекосяк. Я сказал:
– Дурь все это. – Потом спросил: – Давно вывезли?
– Час уже будет… При понятых, с актом. Закон соблюли.
– На том спасибо.
Когда я осмотрелся и немного успокоился, увидел, что увезли не все. Личные вещи отца и мои остались. Конфисковали имущество, принадлежащее лично матери. К сожалению, сюда почему-то попало почти все, что, демобилизовавшись, привез отец: дорожки, скатерть, занавески, коврики, отрез на костюм, швейная машина. И даже радиоприемник фирмы «Телефункен». Потеря приемника больше всего огорчила меня. Я, конечно, знал, что, вернувшись из больницы, отец все заберет назад. Найдется, по крайней мере, десять-двадцать человек, которые подтвердят, что, когда мы жили с матерью вдвоем, у нас в доме было шаром покати. За войну обнищали до того, что не имели сменных простынь и забыли, что такое пододеяльники…
Но когда вернется отец?
А приемник был сила. Я гордился им. И ребята из класса приходили ко мне, когда Вадим Синявский вел репортажи о футбольных матчах. У нас в основном «болели» за ЦДКА, но кое-кто за московское «Динамо» – конечно, из-за вратаря Хомича – и за «Торпедо» – там был прекрасный центр нападения Александр Пономарев.
– В жизни почаще оглядываться надо, – сказал Онисим и почему-то зажмурил глаза, точно кот на солнышке. – Сделал шаг, оглянись. Второй сделал, оглянись опять же… Заметил что-нибудь, не кричи. Покажи вид, будто ни черта не заметил. А на ус себе мотай. Жизнь, она ведь как портянка: перекосил чуть, наплачешься.
Звонко щелкнув языком, перекусил черную нитку, сплюнул в ладонь, вытер ее о волосы. Волосы на голове были редкими и седыми. Они не торчали, не курчавились, а покорно облегали лобастый череп, оставляя, однако, голым узкий затылок.
Нравоучительно-покровительственный тон старца подействовал, как зубная боль. А на душе и без того было совсем не светло. Я сказал:
– Умный ты очень на словах, а бродишь по свету бездомной собакой.
– Ты, Антон, благодаря малолетству обидеть меня хотел. А не обидел, истину сказал. Значит, есть в тебе чутье божье… Я ведь взаправду собакой по следу иду. Только след тот мне одному известен.
– У каждого свои загадки, – равнодушно согласился я, немного уставший от занудливой манеры старца произносить слова тягуче и многозначительно.
– И надежды свои, – натягивая портки, ответил Онисим.
– Надейся, надейся, – усмехнулся я. – Теплеет сегодня здорово. Таких пара дней – и покедова.
– Чего покедова?
– Разойдемся, как в море корабли.
– Не в отца ты, – укоризненно вздохнул Онисим. – Отец у тебя сердечный, жалостливый…
– Нервнобольной он, на фронте контуженный, потому и жалостливый…
– Ошибаешься… Человека жестокого, душой плесневелого, контузия озлобить способна. А отец твой цветком к людям. Цветком…
– Спешите, нюхайте!
– Радуйтесь… Спешите, радуйтесь! – Онисим, если так можно сказать, воскликнул шепотом, затягивая при этом ремень. И казалось, сдавил ремнем себя столь отчаянно, что теперь не мог говорить нормальным голосом. – Мало в людях сердечности после войны осталось. И жалости никакой…
– Ты попом, случаем, не работал?
– Нет. Иметь дело со служителями приходилось, но вообще я к религии без внимания.
– Опиум?
– Я вино церковное люблю, – уклонился от ответа Онисим. – По-мирскому оно кагор называется.
– Есть такое. В городе сколько угодно.
– Неплохой у вас город… Разбит основательно, но это дело поправимое. Нет худа без добра: будут строить его заново. Все лучше сделают, чем был раньше.
– Он и раньше хороший был.
– Похоже, – обрел прежний голос Онисим. – Может, обоснуюсь здесь со временем. Домишко на горе куплю. Буду смотреть с террасы на море да вино молодое потягивать.
Мысль эта, видимо, показалась старцу такой приятной, что он, согнув пальцы и придерживая ими воображаемый бокал, показал, как будет пить то молодое пахучее вино.
– На гору высоко забираться, – сказал я.
– Зато простору много, как в степу.
– Я в степи никогда не был.
– Еще везде побываешь, Антон, – заверил старец и поскреб пятерней затылок.
11
В отделе кадров завода меня оформили учеником стерженщика. Звучало, конечно, это не ахти. Одно дело ученик токаря, слесаря, то профессии известные. А стерженщик? Еще неделю назад я и не представлял, что такая профессия вообще существует. Даже тетка Таня, которая о соседях знала все на свете, и та полагала, что Женя Ростков работает просто литейщиком на машиностроительном. Оказалось, литейщики бывают разные: кто формовщик, кто плавильщик, кто обрубщик.
Женя Ростков был стерженщик. В стержневом отделении изготовляли нужные для производства стержни. Делали их из песчано-глинистых смесей. Слово «делали», конечно, ни о чем не говорит. Существует технология: набивка смеси в стержневом ящике, извлечение из него стержня, отделка и окраска противогарной краской. Потом стержни надо сушить в печках-сушилках. Словом, возни много, потому что искажение конфигурации может произойти и при извлечении стержня из ящика, и в сушиле из-за усадки глины, и по причине выгорания органических веществ…
– Царством земли и песка называют нашу работу, – улыбнулся Ростков.
Он вел меня по цеху, держа за руку. А запахи в цехе стояли совсем не морские, довольно противные запахи. Люди работали споро, не замечали нас. Один или два человека кивнули Росткову – и все. Женя что-то говорил, но слова его буквально влетали мне в одно ухо, а в другое вылетали. Нет, нет, я старался быть внимательным. Я был благодарен Росткову: он из-за меня пришел на два часа раньше начала второй смены. Но я не мог отделаться от испуга, что буду работать в этом цехе, что это жизнь и, быть может, судьба моя.
– Изготовление моделей, стержневых ящиков и другой оснастки… Сборка и подготовка форм к заливке… Заливка форм… Охлаждение отливок…
Не очень понятные слова, которые произносил Ростков, звучали для меня, казалось, просто так, без всякой связи с моей будущей работой.
– Я вообще-то о море мечтаю, – напомнил я Росткову в столовой, где мы хлебали щи из новых алюминиевых мисок.
Женя на мое нытье не среагировал. Я потом убедился, что он обладал завидной способностью оставлять без внимания все, что его не волновало, не заботило. Наверное, по этой причине его все без исключения считали человеком спокойным, уравновешенным.
– Это хорошо, Антон, – сказал он минуты через две, отодвинув пустую миску. – Мечте радоваться надо.
Станислав Любомирович Домбровский вчера вечером, глядя в окно, за которым скучно серело небо и скупо поблескивали крыши нижних домов, выразил к моей мечте прохладное отношение.
– Я не очень уверен, что в нашем торговом флоте существует институт юнг. Если не существует, то маловероятно, чтоб в загранплаванье брали матросами лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста. Во всяком случае, это нужно уточнить… Следует попомнить и о существовании определенного юридического регламента, в силу которого открывается виза. Я почти убежден, что отбывание вашей мамой срока наказания может повлиять на решение этого непростого вопроса…
– Значит, вы советуете идти в литейщики?
Он не ответил на вопрос – откинул седую голову и начал декламировать:
…С шумом зловещим леса пожирало горячее пламя
До основанья корней, – только недра земли распалялись,
И, в углубленья ее собираясь, по жилам кипящим
Золото, медь, серебро потекли раскаленным потоком
Вместе с ручьями свинца. А когда на земле появились
Слитки застывшие их, отливавшие ярко, то люди
Начали их поднимать, плененные глянцем блестящим,
И замечали потом, что из них соответствует каждый
В точности впадине той, которая их заключила.
Это внушило ту мысль, что, расплавив металлы, возможно
В форму любую отлить и любую придать им фигуру.
Домбровский смотрел в окно, словно забыл о моем присутствии. Я нетерпеливо заскрипел стулом. Учитель обернулся, кашлянул в шарф.
– Это писал Лукреций, римский поэт первого века до нашей эры… Надеюсь, на уроках литературы вы не слышали о нем ничего.
Я кивнул в знак его глубокой правоты.
– Все равно, – глаза Домбровского светились в полумраке комнаты, возможно от температуры. Он поежился, присел на диван, повторил: – Все равно… Мореходы твои не смогли бы ходить даже на деревянных парусниках, не отлей умельцы топор.
Старец Онисим реагировал на мою идею пойти в литейщики долгим чесанием под мышками и лишь потом словами:
– Если уж надрывать пупок из-за рубля, то лучше на свежем воздухе.
– В нашу слякотную зиму свежий воздух очень легко простудой выходит. И ботинки у меня – в дождь только с камушка на камушек прыгать.
– Виноват, – сказал Онисим. – В голове моей из-за контузии другой раз шарик за шарик цепляется, и как бы в разных временах живу: то до войны, то после войны… А часами и в войну.
Свет не горел: его отключили за неуплату. Мы сидели с Онисимом у стола с керосиновой лампой, закопченное стекло которой я небрежно протер газетой. Перед нами в глубокой тарелке с красной, похожей на ниточку каемкой серебрилась хамса. Онисим выменял ее у тетки Тани за наперсток. Наперсток, как уверял Онисим, был серебряный и даже немного позолоченный. Позолота теперь слезла с него, как шкура после загара, но все равно чувствовалось, что наперсток работы старой, непростой.
– С дворянской руки наперсток, – уверял Онисим. – Иноземными мастерами деланный.
Онисим просил за наперсток хамсы и литр вина.
– Мне плевать, с какой он руки, поскольку на мою руку он не налезает, – как всегда, кричала в ответ тетка Таня, подчеркивая, что благодаря своему жалостливому сердцу и бескорыстной любви к несчастному Антону (то есть ко мне), отец которого калека, а мать никчемный человек, готова дать за наперсток пол-литровую банку хамсы, стакан вина и кусочек хлеба для Антона.
– Капиталистка ты, соседушка, – кручинился Онисим. – Буржуйские у тебя потребности.
– Я тебе дам потребности, – брызгала слюной побагровевшая тетка Таня. – Я на тебя властям донесу… У нас порядки строгие.
– Доноси, доноси, – частил Онисим. – А у меня справок полные карманы… А я, соседушка, психический. Если хочешь, я тебя даже укусить могу, и мне ничего не будет.
– Вот собака, – выдыхала тетка Таня то ли с усталостью, то ли с испугом. – Послал тебя нечистый на нашу голову. Полтора стакана налью, триста граммов… Но больше не канючь.
– Где же тебя контузило? – спросил я.
Онисим недовольно махнул рукой:
– В сорок четвертом. На реке Вуоксе.
– Есть такая река?
– Чего только нет на белом свете… Все есть. И ботинки в том числе, и деньги… Много денег у людей, Антон. Ой, как много! Я вот разыщу одного друга, про одно дело потолкую. Одену тебя, обую. Если захочешь, и кормить стану, и поить. Ты же при мне как моя правая рука будешь.
– Должок за другом, что ли?
Онисим замялся. Вначале посмотрел себе под ноги, словно проверяя, не потерял ли свои американские ботинки, потом закатил глаза к небу. Покашлял малость, как бы проверяя горло. Наконец вымолвил:
– Можно и так сказать…
– Большой должок? – иронически спросил я, совершенно уверенный, что являюсь свидетелем очередного «заскакивания шарика за шарик».
– Огромный.
– Надо было взыскивать раньше. Реформа его теперь в десять раз уменьшила.
– Нет, – твердо ответил Онисим и сузил глаза, точно от удовольствия. – Должок в камнях, в золоте.
– Тетка Таня права, – засмеялся я. – Тебе триста граммов много.
– Зубоскаль, зубоскаль… Потешайся над старым человеком, – без гнева, но обидчиво произнес Онисим. Вытер руки о старую газету, расстегнул на груди гимнастерку, потянул вниз ворот тельняшки. На грудь выпал золотой крест на золотой цепочке размером в половину папиросы. А в центре камень, даже при керосиновой лампе глаза слепит. – Бриллиант, – шепотом сказал Онисим и оглянулся. – На шесть каратов.
– Украл?
– Я никогда ничего не ворую. Я против воровства принципиально, – ответил он назидательно и спокойно. Спросил: – Теперь веришь?
Я ничего не ответил. Что значит «веришь»? На шее у Онисима висел крест, скорее всего действительно дорогой. Как он попал к старцу? Откуда я знаю! Может, бабушка подарила, родная. Была же у него родная бабушка.
…Утром я стоял на крыльце у Росткова.
Потом обедал с ним в столовой. Грелся на солнышке в ожидании начала первого трудового дня. Отсюда, с проходной машиностроительного завода, хорошо была видна наша высокая улица.
Она выгнулась в гору желтым парусом, косым и стремительным, плененным морем, синью, простором. И чайки шабашили над горой, как над кораблем. А белые дома были похожи на иллюминаторы. Они светились ночью совсем по-корабельному. А если ветер дул с моря и подгонял облака, то в лунном свете казалось, что гора несется в море отчаянно и гордо, как парусник.
12
Волосы, тщательно уложенные «волной», точно на рекламных фотографиях в парикмахерской, золотая фикса за тонкими, постоянно приоткрытыми в улыбке губами. На правой руке, немного повыше большого пальца, татуировка: маленький якорь и слово «Витек».
Как потом выяснилось, фамилия его была Баженов. Тетка Таня пустила его на постой в самом начале апреля, когда уже потеплело, потому что в летней времянке, которую Глухой смастерил из старых досок у самого забора за сливой, только и можно было жить с апреля по октябрь. Времянка не отличалась большими размерами – два на три метра. В ней стояли кушетка больничного типа, обшитая потертой клеенкой, и стол. Кушетку тетка Таня приволокла из вендиспансера, где работала уборщицей, а стол сколотил Глухой. На этом столе он печатал вечерами фотокарточки, которыми торговал в поездах. На фотографиях в невинных позах были запечатлены слащавые дамочки и мужчины. И были подписи: «Люби меня, как я тебя», «Любовь до гроба», «Жду ответа, как соловей лета» и тому подобные. Глухой раскрашивал эти открытки красными и синими красками – других у него не было – и в местных поездах продавал пассажирам. Это была целая наука. Открытки прежде всего нужно было положить в маленькие пакетики и заклеить. Пакетики клеили тетка Таня и ее мать, бабка Акулина, когда была нормальная. Но поскольку последнее время бабка Акулина, проснувшись, большую часть дня выясняла, на каком она свете – на том или на этом, – клеить пакетики ей не доверяли.
Появившись в вагоне с пакетиками, Глухой разбрасывал их по столикам. И если кто-то из пассажиров, проявив любопытство, вскрывал пакет, то обязан был выложить трешку – такса традиционная и твердая.
Увидев фотографии впервые, Витек Баженов, подмигнув мне, повернулся к Глухому.
Глухой спросил:
– Нравится?
– Сопли… Ты печатай голых баб с мужиками, – посоветовал Витек и сделал непристойный жест.
Глухой, может, и не расслышал, что сказал Баженов, но жест понял. Оскалил зубы в улыбке, показал на пальцах решетку:
– Срок за это.
– А ты, сука, хотел иметь деньги без риска? Мудрец! – засмеялся Баженов и хлопнул Глухого по плечу.
Двадцать семь лет было в тот год Баженову. Тонкий он был – не в смысле худобы. Вот говорят же: «Эти духи имеют тонкий запах» или «Это тонкое вино». Так и Баженов… Про тетку Таню, допустим, не скажешь, что она тонкая, будь она худее в десять раз. И еще, конечно, Баженов был подпорченный, озлобленный. Это сразу кидалось в глаза, при первом знакомстве. Онисиму Витек люто не понравился. Онисим сказал мне:
– Остерегайся. Мухомор он.
– Ты чего-нибудь слыхал об ордене Игнатия Лойолы? – спросил меня, в свою очередь, Баженов.
– Нет, – признался я.
– Он больше известен как общество Иисуса, иезуитов.
– Немного слыхал. На костре сжигали…
– Путаешь с инквизицией. Но это уже детали, – Баженов посмотрел мне в глаза, улыбнулся так, что по моей спине побежали мурашки, и сказал: – Мне кажется, твой старец из их команды.