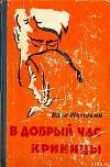Текст книги "Вдруг выпал снег. Год любви"
Автор книги: Юрий Авдеенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 30 страниц)
– Звоните, – сказал я.
Между прочим, я все еще состоял на учете в школьной комсомольской организации. Паша Найдин специально приходил по этому поводу ко мне домой.
– Ну, как завод? – спросил он.
– Обыкновенно, – ответил я.
– Обыкновенно – это в школе, – возразил Паша. – А на заводе – настоящая жизнь. И главное – самостоятельность: ни от кого не зависишь.
– Хорошо поешь, – грубовато ответил я. – Бросай школу, и будем вкалывать вместе.
– Через год, – твердо сказал Паша. – Я матери слово дал закончить школу. А потом на завод: буду работать и заочно учиться.
– Дальновидный ты парень, – похвалил я. – Все у тебя расписано.
– Иначе нельзя, – уверенно ответил Паша.
– Слушай, Ростков, где ты его взял? – спросил замначальника. – Откуда ты его на завод привел?
– Сосед он мой, – сокрушенно пояснил Ростков. – Был парень как парень.
– Кто его родители?
– Мать… – Ростков покраснел, замялся. – Мать его… в местах заключения срок отбывает.
– Ну-у… – запел замначальника. – Тогда все ясно. Яблоко от яблони недалеко падает.
Ростков покачал головой, выпрямился:
– Не совсем так. Я еще не закончил… Отец – инвалид войны второй группы. Всю Отечественную был боевым командиром.
– Вот, – выпучив глаза, заключил замначальника. – Отца, значит, позорит.
– Чем же я позорю?! – выкрикнул я, чувствуя, что теряю самообладание.
– Дурачком прикидываешься, мальчиком! – Замначальника вскочил, стукнул кулаком по столу с такой силой, что стеклянная чернильница-«непроливашка» подпрыгнула и чернила пролились на газету в руке Росткова. – Комсомолец! Сын героя! Забирай свое заявление к чертовой матери! И проваливай работать в цех! Я уже пятую минуту на тебя теряю.
Он вынул из папки мое заявление об увольнении и бросил на стол. Сказал Росткову:
– А ты, бригадир, тоже хорош. Нацарапал: «Не возражаю». Можно подумать, что Советская власть бесплатное образование дала народу лишь для того, чтобы один из вас мог написать заявление об уходе, а другой написать «не возражаю»… А я возражаю. У меня план, мне люди нужны…
– Парень он молодой, – спокойным голосом произнес Ростков, таким спокойным, что замначальника вновь сел на стул, жалобно скрипнувший под ним. Сел и, сощурившись, внимательно смотрел на Росткова. Женя между тем продолжал: – Ему бы еще за школьной партой сидеть надо… Да время такое, и семейные обстоятельства. В бригаде он у нас еще учеником. На разряд даже не знаю, когда сможет. Не лежит у него к литейному делу душа – и все. А без души у нас делать нечего.
– К чему же у тебя душа лежит, Сорокин? – на этот раз без гнева спросил замначальника.
– Матросом хочу стать.
– Дальнего плавания, – угадал замначальника.
Мне нелегко было говорить. От обиды сжимало горло. Сказал твердо:
– Матросом буксира.
– Портового, – пояснил Ростков.
– Кто же тебя возьмет на буксир?
– Шакун.
Замначальника усмехнулся недоверчиво:
– Станет Валентин Сергеевич комплектовать матросские кадры на буксиры! У него больше других дел нет.
– Шакун – друг моего отца, – с вызовом ответил я. – Они много лет в одной бригаде работали.
Замначальника вопросительно взглянул на Росткова. Женя кивнул: отец рассказывал ему о бригаде грузчиков, которую возглавлял Шакун.
– С этого разговор начинать надо было, – тяжело сказал замначальника. Придвинул к себе мое заявление, написал: «В приказ». – Ладно, матрос. У каждого свое счастье. Может, когда-нибудь буксир этот, портовый, и приведет тебя в дальние моря.
21
Я сижу у берега моря на мшистом камне с ржавыми потеками от железной скобы, вмазанной в шершавый бок этого камня, кособоко уткнувшегося в песок. Гляжу без всякой цели, как плоско ползут одна за другой волны, нехотя двигают мелкую гальку, отползают, чуть шипя, снова накатываются.
Солнце греет мне затылок и спину, прыгает по зеленой воде. Чайки мечутся из стороны в сторону, разрезая солнечный воздух белыми крыльями, кричат горласто, вызывающе. Сиреневатая медуза повисла в прозрачной искрящейся воде, шевелит чем-то – не знаю, плавники ли это, щупальца или присоски, – и сама искрится, как хрусталь на свету.
Ветер дует совсем легкий, даже не дует, а ласкает. Молодая отдыхающая в купальнике стоит метрах в пятнадцати от меня. Подставила лицо солнцу, закрыла глаза, а ладошки соединила на затылке.
Вообще у нас три пляжа: общий, мужской, женский. Есть еще возле самой речки территория, отведенная для детишек из детских садов. Но пляжем она не считается, просто территория. Никаких заборов между пляжами нет: столб, а на нем фанерные указатели. Слева – женский пляж, справа – мужской. Считается, что женщины и мужчины на своих пляжах могут купаться без ничего. Однако местные жители, за редким исключением, голыми не купаются. Почему-то не принято. Голых мужчин, даже приезжих, я не видел. А вот женщины, особенно отдыхающие в санатории «Медсантруд», любят появляться на пляже, как культурно сказал однажды Станислав Любомирович Домбровский, в костюмах Евы.
У меня есть шестикратный полевой бинокль: отец привез с фронта. Мы с ребятами из нашего класса приходили сюда, на берег, и разглядывали медичек в армейский бинокль. Зрелище было впечатляющее, особенно когда они, как богини, выходили из воды.
Паша Найдин сказал, что смотреть на голых женщин стыдно. Однако на вопрос: «Почему?» – ответить не мог.
– Если нет дурных мыслей, значит, нет и стыда, – пояснили мы ему. – Тебе стыдно, потому что ты испорченный.
Паша молчал, не находя слов, уши и щеки его краснели.
Домбровский сказал без осуждения:
– В вашем любопытстве есть доля неприличия. Но гораздо страшнее и, быть может, катастрофичнее выглядел факт, если бы юноши проявляли холодное равнодушие к молодому женскому телу. Тогда бы стоило бить тревогу.
Я знал, что мы росли нормальными, что бить тревогу не надо. Правда, нас бомбили в детские годы, и голодали мы маленько, одевались хуже некуда, но, может, в конечном счете, с большой буквы, для нашей жизни это и не очень плохо. Может, больше радости в нас сохранилось на будущее, может, и на чувство благодарности мы оказались щедрее…
Мать прислала письмо. Спрашивает, как я учусь, как здоровье отца. Отец сказал:
– Писать я ей не намерен… Пойду к юристу, подам на развод. Имею право…
– У тебя вообще очень много прав, – пояснил я.
– Барбос, – сказал отец. – Очень грамотный.
– Вполне возможно.
– А кто тебя выучил?
– Прежде всего мать.
– Вот и посылай ей посылку. Я воевал… А она здесь гуляла.
– Тебя контузили как-то по-особому, – задумчиво сказал я. – Или ты и до войны по части ревности был ненормальным.
– Что ты в этом понимаешь? – насупился отец.
– Уже понимаю, откуда дети берутся.
– Это вас в школе развращают?
– Оставь школу в покое. Там ничего лишнего не скажут. Только то, что положено по программе… А на мать ты зря нападаешь. Здесь тоже убивали и все горело. И голова тетки Аграфены катилась с горы, как мячик. Только голову и нашли, больше ничего. И мать, в конце концов, не виновата, что тебя так неудачно ранило… Может, ты еще вылечишься. Может, тебе еще нужна будет женщина, а не только домработница…
– Все, тварь, рассказала, – сплюнул отец со злостью.
– Рассказала.
– Тварь она, – не глядя на меня, сказал отец. – И правильно сделали, что ее посадили. Преступница!
– Какая она преступница – ты об этом лучше с Майей Захаровной поговори.
– Бандерша ее Майя Захаровна.
Я не знал значения слова «бандерша», но демонстративно постучал себя по лбу и сказал:
– Если человек того, то это надолго.
Отец схватился за лопату. Мы разговаривали в саду возле кухни. Вечерело. Я гладил через газету брюки, собираясь идти в кино.
Лицо отца было красным, губы тряслись. Я поднял утюг, предупредил:
– Не подходи. Убью!
Он поверил. Он верил не только в то, что я похож на него внешне, но и в то, что характеры у нас одинаковые.
Опустил лопату, прислонил ее к стволу яблони, старой и густой, высоко вымахавшей над всеми другими деревьями сада.
– Давай договоримся, – сказал я. – Спорить – пожалуйста. Только без прежних фокусов. Я не мать и с фонарями под глазами ходить не собираюсь… Это – первое. Второе: больше никогда не говори, что оторвешь мне голову. У меня нет запасной, а эту единственную я так просто не отдам. Поэтому, кто кому оторвет, в настоящий момент совершенно неясно…
Отец плюнул себе под ноги и ушел в дом.
Когда я вернулся из кино, он не спал, лежал на кровати. А электричество в комнате светило вовсю.
– Что за фильм? – спросил он.
– «Путешествие будет опасным».
– Ничего?
– Очень даже. Дилижанс. И погоня…
На швейной машинке, придавленные большими портновскими ножницами, лежали деньги. Отец миролюбиво сказал:
– Там триста рублей. Ты возьми их. Сходи к Майе Захаровне: пусть она чего там купит матери из белья. Туфли те, которые я привез, тоже надо будет послать.
– Хорошо, – сказал я. Добавил: – Я заявление подал на завод об увольнении. Когда к Шакуну пойдем?
– Хоть завтра. – Отец поднялся. Принял какие-то таблетки и только потом потушил свет.
Ворочался неспокойно. Я слышал, как сетка поскрипывала под ним долго и протяжно.
Я сижу у берега и смотрю на короткий черный буксир, который неуклюже расталкивает зеленую воду, держа курс к створу портовых ворот. Кисея облака тянется за ним, словно дым. Солнце разгребает волны под низкой, похожей на сковородку кормой буксира. Волны несут над собой белую пену. Потом она вдруг исчезает вся без остатка, словно лопнувший мыльный пузырь.
– Вы здешний? – спрашивает молодая отдыхающая, та, что в купальнике. Лицо у нее простое, но приятное, как у Грибка.
– Тутошний, – отвечаю я.
– Счастливый.
– Очень, – лениво киваю я. Поясняю: – На целых три тонны.
– Какие тонны? – не понимает она. Опускает руки. Подходит ко мне и садится рядом.
– Метрические тонны. Мера веса. В школе проходили?
Волны шумят все-таки громко. Когда молчишь, этого не замечаешь. На берегу не замечаешь многого. Море для меня как магнит. Я могу смотреть на него и ничего не видеть, только думать о нем.
– Проходили, – вспоминает молодая отдыхающая. На пальце у нее обручальное кольцо, значит – замужем. – Однако я не понимаю, что общего между тоннами и счастьем.
– Я счастлив на три тонны больше обычного! – кричу я под аккомпанемент волн.
Отдыхающая улыбается, смотрит на меня с хитринкой. Отпускают же таких на юг. Придурки.
– Почему вы без мужа? – интересуюсь я.
– У меня профсоюзная путевка. Льготная.
– Муж не член профсоюза, ему льготы не положены.
– Точно, – она опять улыбается. – Он только студент. А вы где работаете?
– Я матрос, – говорю важно и громко, скрещивая руки на груди, точно Наполеон.
– Так я и думала, – признается она.
А Грибок словно сквозь землю провалилась. Даже в городе не показывается. Может, ей мать тогда всыпала за то, что она «такой» пришла, а может, к экзаменам готовится.
– На большом корабле плаваете? – спрашивает молодая отдыхающая и поднимает матовый красивый подбородок, подставляя его солнцу.
– Не на корабле, а на судне, – поправляю я. – Корабль – это у военных, суда – гражданский флот. Вон, смотрите, – я показываю на громадный танкер, ошвартованный у пирса.
– Ваше судно? – Это ж надо уметь так мило улыбаться. От бога у нее такие способности или по науке?
– Верно угадано, – похвалил я.
– Интересно, наверное, плавать, – не отстает она.
– Факт, – говорю я. – Помню, шли мы из Сингапура в Бомбей. У нас боцмана волной смыло. С палубы фьють…
Я присвистнул. Она воскликнула:
– Ой!
– А боцман старый. Жена и шестеро детей на суше дожидаются…
На глазах отдыхающей, кажется, уже проступают слезы. В такую чувствительную обязательно кто-нибудь влюбится: не засидится на берегу одна.
– И что? – с придыханием спрашивает отдыхающая. И дергает своим маленьким носиком, словно на нее напала простуда.
– Мы ему, естественно, круг бросили, лодку готовим. Как вдруг акула…
Отдыхающая зажмурилась. Теперь я понимаю, почему мне приятно с ней. В этом теле со стройными ногами, длинной шеей и развитым бюстом живет пятилетний ребенок. А я люблю детей, потому и продолжаю:
– Хищница метра в четыре. Такая парусную лодку пополам перекусывает… Однако боцман, морями-океанами просоленный, не сдрейфил, ухватил акулу за хвост. А хвост у нее размером со школьную парту. Боцман, можно сказать, лег на него. Акула в одну сторону, в другую… Ясное дело, старик на хвосте не продержится. Счастье его, и шестерых детей, и жены, что старпом наш в войну снайпером был. Вскинул он свою снайперскую винтовку и в глаз акуле – шарах! Разрывной пулей «дум-дум»…
Тень набегала на море с юга, катилась от волны к волне. Волны серели. Дымка над ними начинала дрожать зыбко, неверно. И крик чаек становился пронзительнее.
Отдыхающая сжимала пальцы и сокрушенно качала головой.
Я посмотрел на часы. Было одиннадцать. В четверть двенадцатого я должен встретиться с отцом в приемной Шакуна.
22
Жара крепчала. От прокаленного солнцем асфальта густо пахло мазутом и жесткой пылью. Короткие тени полдня жались к деревьям, стенам, столбам.
Слева от входа прямо под вывеской «Контора морского порта» лежала лохматая собака и тяжело дышала, высунув огромный розовый язык. Многие входившие в дверь заискивающе поглядывали на пса и даже улыбались ему, как другу. Собака принадлежала Шакуну.
Войдя в приемную, отец, не останавливаясь, ринулся к двери с надписью «Начальник порта». Секретарша выскочила из-за пишущей машинки.
– Вы куда? – Голос у нее оказался пискливым.
– Сиди, – сказал отец грубо и строго.
Опешив, секретарша присела на свой стул, где лежала плоская подушечка из темно-синего плюша. А отец скрылся за громадной, обшитой черной кожей дверью.
В пузатом графине, оседлавшем тонконогую тумбочку, вода мелким паром прильнула к стенкам. Секретарша потянулась к графину, уверенным жестом наклонила его над стаканом. Вода, конечно, была теплой и невкусной. Секретарша пила ее тяжело, как лекарство.
С шумом хлопнув дверью и стуча подошвами тяжелых ботинок, в приемную ввалился рыжий старшина баржи Васильчук. Он был хорошо известен в городе, потому что играл правым беком за команду «Порт». Бил Васильчук от ворот до ворот, часто путал мяч с ногами соперников, за что и был удостоен болельщиками клички Костолом.
– Валентин Сергеевич у себя? – спросил он с порога.
– Товарищ Шакун занят, – секретарша поставила стакан и надменно посмотрела на Костолома.
– У меня баржа под песком простаивает! – не своим голосом закричал Костолом и поднял руки к потолку. – Куда чертов «Орион» запропастился?
– «Орион» следует из Джубги. Будет через сорок минут.
– Так всегда, – уныло и спокойно ответил Костолом и попросил у меня спички.
– Здесь не курят, – напомнила секретарша.
Однако старшина баржи невозмутимо закурил и только после этого вышел из приемной.
На столе справа от секретарши вспыхнула маленькая красная лампочка. Женщина встряхнулась, поправила ворот блузки. С достоинством, высоко подняв узкий сухой подбородок, закрыла за собой обшитую кожей дверь.
Вернулась меньше чем через минуту. Сказала милостиво:
– Пройдите, молодой человек. Вас ждут.
Почему-то захолонуло сердце. Я весь как-то подобрался, точно на старте перед стометровкой – бегал на такую дистанцию в школе. Дверь дернул рывком, но она пошла плавно, будто живая.
Ковровая дорожка цвета морской волны выкатилась мне под ноги – широкая, с красными полосами по краям. Письменный стол, словно корабль, темнел своими высокими стенками.
Крепкий и лысоватый, чуть набычившись, начальник порта Валентин Сергеевич Шакун сидел, опершись локтями о край стола. Пуговицы на белом кителе поблескивали как прожекторы.
Неширокий короткий полированный стол приткнулся к письменному столу, образуя куцеватую букву «Т». Справа и слева от маленького стола, как чемоданы, стояли кресла. В правом кресле сидел отец. По сравнению с Шакуном и габаритами кресла отец казался щуплым, словно мальчишка.
Шакун не привстал: не оказал такой чести. Он просто протянул руку, добродушно сказал:
– Копия отца. Только отец в твои годы был пошире. Плечистее был отец. Понимаешь?
– Понимаю, – кивнул я, хотя не мог представить отца широкоплечим, физически сильным.
– Зовут тебя как?
– Антоном, Валентин Сергеевич.
– Да-а, – нарочито протянул Шакун. Кивнул в сторону свободного кресла: – Садись, Антон.
Я сел. Кресло проглотило меня. В его кожаном чреве я почувствовал себя маленьким, беспомощным.
Шакун неторопливо, привычными размеренными движениями вынул из кармана трубку. Раскрыл деревянную шкатулку, не лакированную, а темную, видимо от старости. Пахнуло «Золотым руном».
– Растут дети. – Шакун произнес слова с таким видом, словно это открытие было сделано им секунду назад, сделано неожиданно, поэтому если не потрясло его, то крайне удивило.
– Диалектика, – хихикнул отец. Похоже, его немного пугали размеры и роскошь кабинета бывшего бригадира грузчиков.
– Вот и моей Наденьке этой осенью двадцать один стукнет… А похвалиться, Федор, мне перед тобой и нечем. Циркачка. Понимаешь, Федор, циркачка!
Отец не понимал. Спросил с сомнением:
– Шпаги глотает?
Шакун махнул рукой:
– Если бы шпаги! Про шпаги я бы молчал и радовался… На канате под куполом цирка вертит голыми ляжками.
– Неужто дозволяют? – удивился отец и зацокал: – Це-це-це…
– У них там в цирке что хочешь дозволяют. – Шакун пустил густую струю дыма. – И нравы, Федор, донимаешь… Сошлась она с одним жонглером. Шарики он подбрасывает. Двенадцать шариков одновременно. Расписаны. А выступают в разных городах… Муж не муж, жена не жена…
Отец мой, потрясенный услышанным, вдруг выкрикнул, замахав при этом руками:
– Вот что значит, Валентин, дочь без жены воспитывать!
Шакун кивнул:
– С сорокового года. Двенадцать лет Наденьке было, когда мы мамку похоронили. Посмотрела бы нынче на нас покойница, удивилась бы. Понимаешь?
Отец кивнул, не глядя на Шакуна. Смотрел на свои колени, нервно поглаживая их руками.
Шакун вспомнил обо мне, сморщился:
– Учиться почему не хочешь? Гузка слаба?
– Всего не выучишь, – сказал я.
Замялся Шакун: сам-то он тоже немного учился. Проговорил быстро:
– Век учись, дураком помрешь.
– Точно, – согласился я.
– Глупая пословица, между прочим. – Шакун провел левой ладонью по столу. – Словом, дела такие. В матросы на буксир я тебя возьму. Однако не сегодня. Осенью. Боцману Семеняке отдам. У него несколько ребят уходят. В мореходку кое-кто подал документы. Те, кто пограмотнее, понимаешь? Вот тогда вакансии появятся. А сегодня могу тебя курьером взять, дворником, подсобным рабочим на причалы. Мест много, выбирай.
– Я приду осенью, – сказал я.
– Осенью так осенью, – ответил Шакун. – Ты, Федь, свой адресок секретарше оставь. Мы голубка твоего открыткой известим. А Нестор Иванович Семеняка из него быстро человека сделает, поверь мне…
Начальник порта потянулся к телефону. Было ясно, пора уходить. Я встал. Отец еще немного задержался в кресле. Словно поеживаясь, сказал:
– Ты бы, Валентин, как-нибудь выбрал время, заглянул бы к нам в гости. На чаек. Вспомнить нам-то есть что…
– С радостью бы, Федор. С радостью… Да время! Совсем со временем худо. И радикулит у меня. А на твою гору машина не заходит.
– Я-то думал, ты крепкий, – наконец поднялся отец.
– С виду-то мы все крепкие, – ответил Шакун, пожимая нам руки. – С виду, понимаешь?
23
Парус есть парус. Красивая штука. Зеленая тень трепещет, как рыба на дне лодки. Отчаянно, отчаянно… Белая пена волны рваными кружевами ныряет в холодную пучину, туда, где синева разрежается круглыми пятнами медуз, перебирающих щупальцами, точно пианист черно-белые клавиши. Может, там тоже рождается музыка, но музыку эту мы не слышим. Шумят волны, посвистывает ветер. Раз пять в час вдруг взметнется мелкими брызгами волна, словно дождевальная машина захотела понежиться в море, и чайки, перекосив крылья и задрав клювы кверху, закричат призывно и страстно. Ветер идет низко, гладит волны. Но они пыжатся, возмущаются. Поэтому на гребнях их рождается золотистый рой брызг, похожий не на пчелиный, а на рой светлячков, которые водятся только у нас, на юге.
Даша Зайцева, мой милый Грибок, лежит на самом носу яхты. Яхта, конечно, маленькая, но с кабиной. Парус и снасти гудят, как струны гитары. Жанна, распустив свои длинные черные волосы, стоит, обхватив желтое дерево мачты. Витек Баженов сидит на корме, держась за румпель. Он в черных с желтым – леопардовых – плавках, его красивая загорелая грудь, точно второй парус, вздымается округло. Он доволен собой, доволен погодой, яхтой и, видимо, компанией.
Я сижу возле каюты, вернее, на ее пороге, опустив ноги в углубление, которое начинается за распахнутыми дверками.
Я не разделяю настроение Баженова. Мне нравится яхта, которой почему-то через общество спасения на водах владеет Витек Баженов. Он работает в этом обществе на какой-то должности. Мне нравится погода, море, краски и свежесть воздуха.
Мне не нравится, что Даша лежит так, словно у себя в постели, и сквозь розово-желтый ситец ее узкого купальника рельефно видны формы. Хорошие. Но я все-таки не хотел бы, чтобы они были видны.
Идиот! Я думал, где и как поживает милый мой Грибок после того вечера, когда нас застал дождь. И все такое прочее… Может, ее ругает мама, грызет совесть, журит общественность.
Ничего подобного! Грибок все это время встречалась с Баженовым и Жанной, а может быть, еще с кем-то, и даже наверняка. И, подчеркиваю, все это время очень хорошо обходилась без меня.
Я встретил Жанну. Все-таки в Жанне было что-то заложено. Говорят, «не от мира сего». Так ли?
Станислав Любомирович объяснил как-то:
– В христианской троице – отец, сын, дух – выражение «не от мира сего» соответствует откровению сына в его любви к богу, в то же время откровение отца заключается в его любви к миру.
Он еще что-то говорил о трансформации смысла идиомы, но я не запомнил, к сожалению…
Жанна увидела меня из окна киоска возле рынка под платаном, когда я расстался с отцом, который вспомнил, что ему нужно зайти в аптеку купить геморроидальные свечи, кажется, с экстрактом красавки, а я по старой памяти заглянул в киоск «Пиво – воды», потому что после расчета на заводе располагал небольшой суммой наличных денег. Я вошел в полутемный прокисший киоск и увидел Жанну перед прилавком. Киоскерша наливала ей пива в трехлитровый зеленовато-синий баллон.
– Антон! – выдохнула Жанна. И улыбнулась только глазами. Но это неверно: самыми краешками глаз. Ресницы у нее были длинные и густые. А лицо чистое, без единого прыщика или пятнышка, – мало загоревшее лицо для нашего черноморского города.
– Здравствуй, – сказал я.
– Я думала, что ты провалился сквозь землю, – призналась она.
– Земля такими брезгует, – заявил я, конечно, не без пижонства.
Она ответила:
– Это же прекрасно.
– Относительная, мысль. Но все равно спасибо.
– Мы о тебе часто говорили.
– Кто «мы»?
– Даша и я.
– Вы – подруги? – удивился я.
– В качестве подруг я предпочитаю мальчиков, – многозначительно улыбнулась Жанна. – Но Даша прекрасный человек. С большими возможностями. На экзаменах за девятый класс[2]2
В те годы экзамены сдавали ежегодно с 4-го по 10-й класс.
[Закрыть] она получила только пятерки.
– Что у вас общего? – спросил я, протянув киоскерше три рубля. Пиво стоило два двадцать.
– Тоска по прекрасному, – Жанна закатила глаза, как будто читала пьесу в драмкружке.
– Я хочу угостить тебя, – сказал я и положил вторую трешку.
– Спасибо, – ответила она. – Очень жарко.
Мы подняли кружки, пена взмылась над ними, как парик. Жанна сказала:
– У Даши сегодня последний экзамен. Мы ждем ее. Тебе она обрадуется.
– Кто «мы»? – я не переставал удивляться.
– Я и Витя.
– А может, есть третий?
– Есть. Но это несерьезно. Он ей не нравится, – поморщилась Жанна. – Она любит тебя.
– Очень приличное место для подобной информации, – сухо кивнул я и, кажется, покраснел.
– Самую ценную информацию передают именно в таких никчемных местах, – сощурив накрашенные глаза, сказала она назидательно.
– Можно подумать, что ты работала в разведке.
– Подумать можно, но говорить вслух не стоит… – ответила она загадочно. Ничего не скажешь: умеет подать себя.
– Спасибо за совет.
– Это не совет, это предостережение-е-е, – она потянула последний звук, не злясь, а скорее дурачась.
– Ладно, – подыгрывая, сказал я. – Знаю, у кого ты этих штучек поднахваталась. У Баженова. Он мне тоже рассказывал про фильмы, которые видел в Марселе и Гибралтаре. Отель, бассейн, красивая знойная женщина-шпионка, к которой международные агенты стремятся попасть в постель…
– А ты когда-нибудь был в постели с женщиной? – спросила она шепотом, наклонившись ко мне, когда мы вышли из киоска.
– Только в мечтах, – хладнокровно, без всякого стыда признался я.
– Пора превращать мечты в реальность.
– Пойдем ко мне, – сказал я. – Отец поперся в аптеку, дома никого нет.
– Какая разница. Ты уверен, что это важно?
– Я не уверен ни в чем. Даже в самом себе, – после встречи с Шакуном на меня нашла полоса откровения.
– Это плохо, – она усмехнулась, глядя на меня.
Пиво булькало у нее в баллоне. Пена лопалась под крышкой из оберточной серой бумаги, стянутой шпагатом.
– Не скиснет? – спросил я.
Она ответила:
– Нет, если сразу пойдем ко мне.
И вот я снова в узком, пахнущем керосином коридоре. Минуя его, вхожу в комнату, где стоит кровать, выкрашенная желтой краской, высокий и старомодный шкаф и все прочее, что увидел я, когда пришел сюда в первый раз с Грибком и Баженовым.
Но сегодня здесь я был один на один с Жанной. Окно закрывала розово-синяя штора с цветочками, и в комнате царил мягкий полумрак.
Жанна сказала:
– У нас самое большее – полчаса.
Я понимал, у меня есть сотни вариантов, начиная с того, чтобы крикнуть: «Извини, я забыл оставить отцу ключи!» Или сказать: «У тебя какой-то странный загар. Не больна ли ты лихорадкой?»
Но меня всегда, с самых малых лет, по всякому пустячному случаю тянуло быть искренним.
Я сказал:
– Извини. Я боюсь.
– Глупый, – ответила она. И нежно, ласково обняла меня за шею…
Когда вошел Витек, шторы уже были открыты, Жанна возилась на кухне, а я скромно и спокойно сидел на том стуле, где в памятный вечер сидел сам Баженов.
– Молодец! – похвалил Витек. – Я и не надеялся тебя заполучить. Привет!
– Привет! – сказал я, как в бездну. Мне казалось, я не сижу, а плыву над столом. После всего того, что случилось десять минут назад между мной и Жанной, Витек представился мне величиной не более садового муравья.
– У тебя какие-то странные глаза, – сказал Витек, ощупывая меня подозрительным взглядом.
– Поработай полтора месяца в литейном цехе, посмотрим, какие глаза станут у твоей милости, – отозвалась Жанна, поставив на стол тарелку с овощами.
– Да, – вскинул голову Витек, – всякие там окиси. Как ни крути, здоровья они не прибавляют.
Я молчал и ухмылялся. Жанна за спиной Витька предупредительно поднесла палец к губам. Витек сел на кровать, потом откинулся на подушку и блаженно улыбнулся.
– Я полагаю, – говорил он, – нам пора серьезно обменяться взглядами по жизненно важным вопросам. Я уверен, ты прекрасный парень. Но тебе нужен руль, а вернее, штурман. И в этом нет ничего зазорного, потому что и руль и штурман нужны даже самому распрекрасному кораблю.
– Ты хочешь сказать, жизнь – это море, – подал голос я.
– Совершенно верно.
– А женщины – острова, где усталые корабли могут найти скупые минуты покоя.
– Почему ты заговорил о женщинах? – быстро спросил Витек, приподнявшись на локтях.
– Мне уже восемнадцать, – ответил я. И плюнул в форточку.
Форточка, естественно, располагалась высоко. Но все получилось удачно, словно бросок в баскетбольную корзину. Витек напрямик, стараясь, однако, не показывать заинтересованность, предложил:
– Если хочешь, вопрос о твоих возрастных потребностях мы можем обсудить и решить особо.
– Спасибо, – ответил я. – Все свои вопросы я решаю сам.
– С Грибком тоже?
– А что Грибок?
– Если решаешь сам, должен знать что.
– А, ты об этом, – сказал я, делая вид, что понимаю намек. Впрочем, эта фраза неверна: я не делал вид – я понял намек. Я не понял другое: он говорит о Грибке так, будто она принадлежала ему. В это я не верил. И не хотел верить. Но проявлять неосведомленность мне казалось позорным.
Своей ленивой и в подтексте циничной фразой я взял ее грехи на себя, вернее, соединил свои собственные с ее неведомыми. И это соединение позволило мне произнести фразу таким тоном, что у Баженова ни на секунду не возникло подозрение в моей неискренности, игре. И он, цокнув языком, вдруг осклабился в улыбке:
– Посмотри, по этой части ты молодой, но ранний.
– Стараемся, – ответил я.
– У вас все время глупости на языке, – сказала Жанна.
Грибок вошла бледная. То, что в ее жизни появился мужчина, можно было понять и без информации Жанны. Она скучающе удивилась мне, равнодушно оглядела Жанну и затрепетала, встретившись с пустым и наглым взглядом Баженова.
– Мне сегодня яхту обещали.
– Кто? – спросил я.
– Сослуживцы из общества спасения на водах…
– Докладывай, – обратился Витек к Даше.
– Пять, – глухо ответила она и тяжело опустилась на стул.
Не знаю, может, она села на стул самым нормальным образом. Но все пошло у меня перед глазами: и стол, и Грибок, и Баженов, я видел только вырез сарафана на груди Жанны. И помнил, как я целовал ее…
– Ты уже выпил? – спросила Грибок.
– Только пива.
– Жарко сегодня, – сказал Витек. – Одуреть можно и от пива.
– Перекусим и двинем на море, – решила Жанна.
– На женский пляж, – неожиданно заявил я.
Все трое посмотрели на меня по-разному: Витек с пониманием, Грибок с жалостью, Жанна с удивлением. Витек почесал затылок, поднял баллон, намереваясь налить пива в стакан. Сказал благодушно:
– Мне сегодня яхту обещали.
– Ты уже говорил об этом, – заметил я.
– И очень хорошо, – сказал Баженов. – Важно никогда не забывать о том, что тебе обещано…
Яхта пахнет смолой и мокрыми досками. И пеньковыми канатами пахнет казенная осводовская яхта. Полоса пляжа, изогнутая, пестрая, похожа на радугу. Радуга лежит на берегу, мочит босые ноги в теплой чистой воде и нежится самым настоящим образом.
– Что ты делаешь сегодня вечером? – тихо спрашиваю я Дашу.
– Не знаю.
– Давай встретимся в восемь у кинотеатра «Родина».
– Не знаю.
– Очень мне нравится твой ответ. Почему?
– Не знаю.
24
Майя Захаровна улыбалась непросто. Ее улыбки таили в себе значение, точно звуки в азбуке Морзе. Веселые морщинки, вдруг затемневшие на ее щеках, могли вселить в обыкновенное слово «здравствуйте» столько смысла, информации, что только успевай расшифровывать. Жаль, но последнее мог сделать далеко не каждый.
Она увидела меня из-за прилавка. Улыбнулась: «Ну и обормот ты – в школе не учишься, работу бросил». Я заморгал в ответ виновато и беспомощно.
В полумраке низкого, маленького «предбанника» – залом это помещение не назовешь ни при какой погоде – за столиком в дальнем углу, перебивая друг друга, разговаривали трое мужчин. Сидящий анфас дядька с веселыми усами – рукава линялой гимнастерки засучены – стучал ребром ладони по столу и монотонно повторял одно и то же слово: