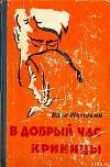Текст книги "Вдруг выпал снег. Год любви"
Автор книги: Юрий Авдеенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 30 страниц)
Что я скажу боцману Семеняке?
– Здравствуйте, Нестор Иванович. Матрос Сорокин прибыл для прохождения службы.
А дед Антон, помнится, пел:
Весна, весна красная,
Приди, весна, с радостью,
С радостью, с радостью,
С великой милостью…
ГОД ЛЮБВИ
Роман
Часть первая
ВСТРЕЧИ
ГЛАВА ПЕРВАЯ1
Отцветал дуб. Скучно, неприметно. Холодным днем, с прозрачным, словно стеклянным, небом, распластавшимся над рощей и полем, где уже раскидисто стлалась толокнянка – медвежья ягода, мелкие листья которой сплетались так густо, что напоминали гроздь.
Машины стояли на дороге возле рощи. Стояли одна за другой. Два автобуса и четыре «Волги». Катафалк уехал раньше. Полковник Матвеев помимо воли обратил на это внимание сразу же, как только дорога обогнула рощу и он увидел машины.
Мелькнув темным хвостом и ярко-желтыми крыльями, справа, метрах в пятидесяти, из травы поднялся коростель-дергач. Летел низко, тяжело. Вскоре плюхнулся в широкий овраг.
Генерал Белый опережал всех остальных, приехавших на похороны полковника Литвиненко. Шел быстро, но мелкими шажками. Плащ его был не застегнут, брюшко округляло серый китель. И Матвеев подумал, что Белый похож на колобок.
Лида, жена Литвиненко, одетая в черное, выглядела худее и выше обычного. Она упрямо смотрела под ноги, словно старалась никого не замечать.
Покатый склон, подпиравший дорогу, щедро освещало солнце. Цветы медуницы – фиолетовые, красные, синие – росли густо, точно на клумбе. Чернели кротовые ворохи, совсем свежие. Матвееву даже показалось, что он увидел мордочку крота. Но, возможно, это была игра воображения.
Генерал Белый остановился возле автобусов. Снял папаху. Вытер платком лысеющую голову. Снова надел папаху. Сказал шоферам зычно, как обычно говорил на тактических учениях:
– Заводи!
Сизым дымом поперхнулись выхлопные трубы, загудели моторы.
Белый кивнул Матвееву. И когда полковник приблизился, взял его за локоть и подвел к «Волге».
– Поедешь на этой машине, Петр Петрович.
– Спасибо, Герман Борисович, – сказал Матвеев.
– В аэропорт, – приказал Белый шоферу.
Матвеев подошел к Лиде. Она по-прежнему не поднимала глаз. Лицо ее было очень бледным, будто неживым. Матвеев сказал:
– Когда-то много лет назад я оказался не прав. Будьте великодушны, Лида. Простите меня. Крепитесь.
Где-то впереди забасил гром, вначале приглушенно, а потом отчетливее. Но небо по-прежнему оставалось светлым, чистым, почти бесцветным, словно его и не было вовсе.
Машина катила медленно, переваливаясь с ухаба на ухаб. И, глядя на эту степь, на эту тянувшуюся к горизонту убогую проселочную дорогу, Матвеев подумал, что он мог ехать по ней на телеге где-нибудь в шестнадцатом, семнадцатом веке. И возможно, даже ездил – уж очень подозрительно знакомой казалась ему она.
Автобусы и другие машины поехали в городок другой, забетонированной дорогой. А эта тянулась через степь к современному шоссе, как ручей тянется к речке.
Гром снова напомнил о себе. Теперь более властно, страшнее. Над лесом за оврагами Матвеев увидел черную полосу, расползшуюся, будто дым.
«Успеть бы выбраться на шоссе», – подумал он.
Шофер, видимо, подумал то же самое, потому что прибавил газ, и машина пошла быстрее.
Матвеев закурил. Вытянул ноги, откинувшись на спинку сиденья. Его большое, удлиненное к подбородку лицо несло на себе следы усталости, не случайной, одноразовой, а совсем другой – напыленной годами. Седина почему-то не тронула его виски. Она прошлась выше, по всей голове. Тогда он стал носить короткую стрижку «ежик», которая, по мнению его матери Софьи Романовны, удивительно шла ему и не старила, что для мужчины его лет было совсем нелишне.
Год. Всего один год, и ему придется отмечать свой пятидесятилетний юбилей. Праздник?
А Василий Николаевич Литвиненко до такого праздника не дожил.
Сколько же было Ваське в феврале 1944 года? На месяц меньше двадцати…
Ну и пурга была в ту ночь! Видимость, можно сказать, на ствол карабина. И ветер. Такой не с ног валит, а ставит на голову. Немцы тогда и попытались вырваться из окружения к Лисянке, чтобы соединиться с группой Хубе.
В роте Матвеева не хватало процентов пятьдесят личного состава. Конечно, бывали случаи и хуже. И жаловаться было бессмысленно. Но сейчас, когда немцы почти уже сидели в Корсунь-Шевченковском «котле», было не только обидно, но преступно выпускать их оттуда. И это понимали все, от солдата до маршала. Принимались меры, вводились в бой резервы. По мере возможностей в части и подразделения направляли пополнение. Повезло и батальону Белого. Когда стемнело, он позвонил Матвееву и сказал:
– Пришлю-ка я тебе, брат, взвод курсантов.
А уже мело, напористо и сильно. От неба до земли. Матвеев, дыша в телефонную трубку, с сомнением ответил:
– Найдут ли?
Белый весело ответил:
– Найдут! Взводный у них молодой, но сообразительный.
– Тогда я жду. – Он немного устал от традиционного оптимизма комбата. И умел корректировать этот оптимизм, внося поправку, как при стрельбе в ветреную погоду.
К удивлению Матвеева, ждать долго не пришлось. Меньше чем через полчаса вкатился в землянку ком снега, согнул в приветствии руку и доложил:
– Товарищ капитан, взвод учебного батальона в ваше распоряжение прибыл. Командир взвода младший лейтенант Литвиненко.
– Замерз, взводный? – спросил Матвеев, протягивая руку.
Литвиненко суетливо и безуспешно стягивал варежку.
– Выпьем? – Матвеев кивнул на фляжку, лежащую возле коптилки на ящике.
– Никак нет, товарищ капитан, не умею.
– Это дело нехитрое, – усмехнулся Матвеев.
Взводный наконец стянул варежку. И они пожали друг другу руки.
– Чайку бы, – попросил Литвиненко.
– Тоже можно.
…А час спустя началось.
Матвеев вдруг увидел себя словно со стороны маленьким мальчиком, бегущим через мост, доски которого разъезжаются в стороны. И с ними разъезжаются ноги, как на льду. Но поток пенящейся внизу воды не похож на мутный зрачок льда. Поток булькает, шипит, грозится. И небо отражается в нем каким-то странным оранжево-черным цветом, изогнутым, переплетенным. Мать кричит с берега, заламывает над головой руки… А ему не страшно, его гонит веселый азарт. Только трудно дышать.
…Он бежал, не пригибаясь, по вырытой в снегу траншее, и ему действительно трудно было дышать, как тогда на мосту. Он бежал на позицию первого взвода, где уже убили командира, где не было связи и где могли прорваться немцы.
Оранжевый цвет сменился черным, но не таким ясным и чистым, как тогда под мостом, и не вода шипела сейчас над ним. Не вода.
Он споткнулся о чье-то тело, твердое, заснеженное, и нырнул лицом вперед, как тогда между досок. Он не слышал крика матери. Но знал, что она кричит.
Вода перевернула его, точно хотела поудобнее уложить на гладких, покрытых водорослями камнях, скользких, будто мокрое мыло. Камни оказались добрыми, пожалели его – ловко передавали друг другу до самого берега.
По счастливому лицу матери текли слезы.
Он нагнулся, поднял камень. И, зажав в кулаке, понес домой. Мать шла позади. Не говорила ни слова. Он тоже молчал…
…Молча поднял противотанковую гранату и зажал ее в кулаке, как камень.
Танк выплыл справа. Траншея осела под ним, искривилась. Запах железа, масла, отработанного топлива перешиб все другие запахи. Выкрашенный в белый цвет, прикрываемый метелью танк, если бы не плывущая под ним траншея, был бы почти не виден, он лишь угадывался метрах в пяти.
Как и в детстве, страха не было. Азарт? Самую малость. Все остальное – холодная расчетливость.
Танк пересек траншею. Матвеев напрягся, метнул гранату. Целил в мотор.
Попал!
Телефонную трубку не вырвешь из окоченевших пальцев связиста.
– Алло! Алло! «Сорока»… «Сорока»… Я – «Медведь». Пусть Литвиненко берет своих курсантов. И бегом на позицию первого. Бегом!
…На их участке бой прекратился к утру. Но справа, километрах в трех, почти до полудня слышались стрельба и артиллерийская канонада.
– Твои курсанты молодцы, – сказал Матвеев, когда они завтракали, хоронясь от ветра за полусгоревшим опрокинутым грузовиком.
– Осталось их мало, – подавленно ответил Литвиненко.
Его худое молодое лицо было бледным, почти зеленым, а нос вымазан сажей.
Подошел старшина роты. Сказал:
– Товарищ капитан, смотрите, вот у фрица нашел. Бумажка какая-то.
Это оказалась наша листовка на немецком языке. Литвиненко взял ее. И начал быстро переводить.
«Всему офицерскому составу немецких войск, окруженных в районе Корсунь-Шевченковской.
42-й и 11-й армейские корпуса находятся в полном окружении. Войска Красной Армии железным кольцом окружили эту группировку. Кольцо окружения все больше сжимается. Все ваши надежды на спасение напрасны…
Попытки помочь вам боеприпасами и горючим посредством транспортных самолетов провалились. Только за два дня, 3 и 4 февраля, наземными и воздушными силами Красной Армии сбито более 100 самолетов Ю-52.
Во избежание ненужного кровопролития мы предлагаем принять следующие условия капитуляции:
1. Все окруженные немецкие войска во главе с вами и вашими штабами немедленно прекращают боевые действия.
2. Вы передаете нам весь личный состав, оружие, все боевое снаряжение, транспортные средства и всю технику неповрежденной.
Мы гарантируем всем офицерам и солдатам, прекратившим сопротивление, жизнь и безопасность, а после окончания войны – возвращение в Германию или в любую другую страну по личному желанию военнопленных.
Всему личному составу сдавшихся частей будут сохранены: военная форма, знаки различия и ордена, личная собственность и ценности, старшему офицерскому составу, кроме того, будет сохранено и холодное оружие».
– Ты же готовый переводчик, – удивился Матвеев.
– Нет-нет. Я специально просился в пехоту.
2
Из дивизионной газеты Н-ской части от 18 февраля 1944 года:
«Молодцы, курсанты!
В жестоких боях по ликвидации Корсунь-Шевченковской группировки немецко-фашистских захватчиков исключительные мужество и героизм проявили курсанты учебного батальона нашей части. Сражаясь на участке, где гитлеровское командование предприняло решающую попытку вырваться из окружения, курсанты несокрушимой стеной стали на пути фашистских танков и бронетранспортеров.
Шестнадцать вражеских машин навечно застыли перед их позицией. Особенно отличился взвод младшего лейтенанта Литвиненко, уничтоживший пять немецких танков. Все курсанты взвода представлены к боевым наградам. Девять из них посмертно».
3
– Пристегните ремни. Самолет идет на посадку.
Стюардесса лебедем проплыла по салону, взгляды мужчин следовали за ней. Матвеев, сидевший возле иллюминатора, видел лишь плечи и красивую шею девушки. И волосы темной бронзы, видимо крашеные. Но все равно смотреть на стюардессу было приятно. В самом ее пребывании здесь, на борту самолета, было что-то от психотерапии.
За иллюминатором в обнимку с солнцем двигались облака, голубела даль. Там, где-то под облаками, лежала земля.
Первый раз он летел самолетом в сорок третьем. То был транспортный «дуглас». Начальник госпиталя, худой, усталый, но крайне жизнерадостный грузин, через знакомого штурмана устроил Матвеева на этот рейс. Весь фюзеляж был забит мешками с валенками.
– Полезай туда, наверх. Там напарник есть, – посоветовал штурман, хитро улыбаясь.
Матвеев не придал значения улыбке. Он подумал, что штурман сомневается, удастся ли ему забраться на груду мешков. Однако война чему не научит…
Длинное чрево самолета выглядело неприветливо и даже немного пугающе. Но там, где-то наверху, между мешками и алюминием, был живой человек. И это сознание бодрило, успокаивало.
– Старшой! – крикнул штурман. – Ты к нему под тулуп лезь, а то на высоте замерзнешь.
Над входом в кабину пилотов чуть желтела крохотная лампочка, дальше же было почти темно. Солдат, видимо, спал, голову накрыл тулупом. Матвеев не стал его будить, прилег рядом.
Загудели моторы. Самолет задрожал, затрясся, стало покачивать. И хотя шинель была на Матвееве новая, он вскоре убедился, что штурман не зря предупреждал – здорово похолодало в самолете.
Толкнул он своего попутчика. И крикнул, потому что гудели рядом моторы:
– Браток, пусти фронтовика погреться!
В ответ «браток» еще крепче натянул на себя тулуп и вроде бы сжался.
Насмотрелся Матвеев за эти военные годы на людей, каких только не встречал. Подумал: «Черт с ним. Может, человек контуженый. Не замерзну и так…» По примеру попутчика свернулся калачиком, попытался зарыться в мешки поглубже.
Вдруг самолет сильно тряхнуло, видно, в воздушную яму попал. А «браток» возьми и закричи женским голосом:
– Ой, мама! Мамочка!
Галей «братишку» звали. Хорошей девчонкой была. Зоотехником после войны стать хотела.
Убили Галю. В тот же день. Прямо на аэродроме. Они только из самолета выбрались, летное поле еще не пересекли. Налетели «мессеры». И прямо из пулеметов…
Не сумел. Не сумел защитить Матвеев Галю. Сам уцелел. Она погибла…
Игоря Матвеев увидел у входа в здание аэропорта.
Брат был моложе его на тринадцать лет. Петр родился в 1921 году, Игорь в 1934-м. Трудно сказать, почему, но внешне братья не походили друг на друга. Петр был высокий, плечистый; Игорь, наоборот, роста небольшого и фигурой хрупок. У Петра лицо мужественное, может, чуть грубоватое. Игорь казался изнеженным. В школе его до шестого класса дразнили девчонкой. Как знать, может, форма наследственности имеет свои весны и осени, потому и дети, рожденные одними и теми же родителями, как времена года, отличаются друг от друга.
Игорь поднял руку, помахал и заторопился навстречу брату.
Петр кивнул, давая понять, что увидел. Но руки не поднял. И не улыбнулся, не в пример брату. Они обнялись. Ткнулись губами друг другу в щеки.
На площадке напротив выхода из здания Внуковского аэропорта стояла вереница такси. Они взяли машину. Поехали.
– Это не дело, – сказал Петр, скучно и хмуро глядя в затылок таксиста.
– Что? – спросил Игорь.
– В тридцать пять лет менять профессию.
– Слишком громко сказано.
– Сказано вполголоса.
– Тогда я не понимаю тебя, – Игорь искоса посмотрел на брата. – Это очень условно: поменял профессию. Я остался в звании майора. Нахожусь в рядах Вооруженных Сил. Правда, прилагаю усилия свои и применяю знания несколько в ином направлении.
– У тебя были хорошие возможности.
– Не понимаю.
– Надо было брать полк, когда тебе предлагали.
– Зачем мне такая обуза?
– Обуза?
– Твой пример – лучший ответ.
– Это просто фраза. И не очень удачная. Хотя бы потому, что я никогда не считал службу обузой для себя.
– Да, – согласился Игорь. – Ты прав. Я сказал неумно. Я хотел сказать, что я по натуре не хозяин. Не знаю, хороший ли я специалист или не очень. Но точно знаю, что я не хозяин.
– Возможно, – процедил старший брат и насупился.
Машина выехала на кольцевую дорогу. Редкий лес выгибался зеленой дугой, подступая прямо к бетону. По правой стороне, ревя моторами, плотно шли трейлеры.
Шофер повернул голову. Лицо у него было рябое. Вопросительно посмотрел на Игоря.
– До мотеля и по Минскому шоссе, – сказал Игорь.
4
В прихожей царил устойчивый запах сапожного крема, и полковник Матвеев догадался: Игорь щадит себя настолько, что не выходит чистить обувь на лестничную площадку. Тумбочка перед зеркалом была уставлена пузырьками и банками с лосьонами, кремами и даже пудрой. Тут же лежали катушка зеленых ниток, пуговица со звездой, градусник.
На вешалке висели гражданская куртка, цветастая рубашка, обшитая мехом кепка с маленьким кожаным козырьком.
Большая комната с дверью на балкон имела вполне обжитой вид: на полу кофейного цвета палас, сервант с баром, тахта, телевизор. Зато другая, меньшая размером комната, соседствующая с кухней, вовсе не была обставлена. Только книги лежали на полу беспорядочно, точно кирпичи на стройке.
Полковник Матвеев снял шинель. Повесил на вешалку.
Зашел на кухню.
Игорь сидел на корточках возле холодильника, доставал банки с консервами, свертки.
Из окна кухни открывался вид на железную дорогу, идущую пустырем в сторону Очакова.
Далеко у горизонта белыми башнями вставали дома на проспекте Вернадского. Ближе был Мичуринский проспект. И какая-то старая деревенька, выходящая огородами к железнодорожной линии.
Матвеев опустился на табуретку, голубую, пластмассовую, на тонких коричневых ножках. Закурил и сказал:
– Отхватил ты квартирку совсем неплохую. Поздравляю.
Игорь выпрямился, захлопнул дверцу холодильника.
– Не забывай, во Львове я оставил трехкомнатную. Конечно, Львов не Москва. Но город прекрасный.
Игорь вынул из кухонного ящика консервный ключ и начал открывать банки.
– Ты приедешь к нам на учения? – спросил полковник Матвеев.
– Постараюсь.
– Постарайся. Дивизию принял новый человек. Молодой генерал. Таким… Понимаешь… Когда человек молод, то люди моего возраста кажутся ему глухими стариками.
– Ну, брось ты это, Петр. Какой же ты старик! – запротестовал Игорь.
– Не перебивай… Мне, как никогда, важно, чтобы мой полк выступил на «отлично». Мы все делаем для этого.
– Я понимаю. И просто верю, что все будет хорошо.
5
Ночь дрожала на запотевшем стекле. Окно перечеркивала темная линия леса, неровная, с серыми провалами предрассветного неба. У самой кромки под рамой на стекле отражался белый плафон, освещавший купе мягко, ненавязчиво. Свет от него исходил туманный, подрагивающий в такт стуку колес.
…Колеса проносились совсем близко. И было видно, как прогибались под ними рельсы. Загорелая женщина в соломенной шляпе с васильками под золотистой лентой посмотрела на него из раскрытой двери тамбура, улыбнулась ему, мальчишке.
Он стоял на переезде в закатанных по колено штанах, с удочкой и стеклянной банкой, в которой шевелились рачки, такие же золотистые, как лента на шляпе женщины.
Она улыбнулась ему еще раз и что-то сказала спутнику в красно-зеленой тюбетейке. Тот, кивнув, высунул голову из тамбура и тоже стал смотреть на мальчишку.
Поезд проносился мимо в грохоте, запахах мазута и разогретого металла.
Женщина все выглядывала из тамбура, но теперь уже не видно было, улыбается она или нет.
А море в тот день оказалось тихим и розовым. Розовым не только у горизонта – в этом не таилось бы никакого чуда, но и у проржавевших свай причала, с которого он ловил барабульку.
Он знал, что больше никогда не увидит эту красивую женщину. И ему было грустно, а отчего, он и сам бы не мог сказать…
Извиваясь, сверкнула молния. На какое-то мгновение Матвеев увидел верхушки деревьев в зелено-золотистых отливах. Потом окно снова сделалось темным. Но Матвеев все еще видел заколдованную толпу осин, берез, сосен…
Проводник заглянул в купе, почтительно, словно извиняясь, объявил:
– Вам скоро выходить. Я помогу вынести вещи…
– Спасибо. У меня мало вещей.
– Это хорошо, – сказал проводник, – когда вещей мало. Ведь люди что? Ведь сколько с собой тащат, будто в последний путь… А в тот… совсем ничего и не требуется.
6
Жанна стояла на перроне среди двух чемоданов, высокой сумки и картонного ящика, крепко перевязанного веревками, – мать и отец поместили туда банки с вареньем и разными соленьями, заготовленными еще прошлой осенью.
Носильщиков не было.
Она видела, как из соседнего вагона вышел офицер с портфелем, оглянулся по сторонам. И пошел тропинкой мимо деревянного здания станции, где не светилось ни одно окно…
Небо серело. Утренний туман, слабый, будто разбавленный, все же заметной дымкой висел над мокрой землей, над мокрыми деревьями, над товарными вагонами, что стояли на запасном пути. Стояли, как и месяц назад, когда она уезжала в отпуск.
В городке лаяли собаки, кричали петухи. Несмотря на ранний час, сладковато пахло жареным луком. Жанна уныло посмотрела на сторожившие ее вещи, вздохнула, поморщилась, отчего лицо ее вдруг сделалось старым и умудренным.
Впереди разлеглась лужа. Жанна подняла два чемодана, обошла лужу, поставила чемоданы возле столба, на котором, по всей вероятности, должна была висеть лампочка, но не висело ничего. Потерев ладонь о ладонь, медленно пошла назад, к ящику и сумке. Вот тогда она и услышала голос:
– Одну секунду. Я вам помогу.
Оглянувшись, она увидела офицера. Того самого, что сошел с поезда. Он поставил свой портфель возле ее чемоданов и широким шагом обогнул матово отсвечивающую лужу. Сказал:
– Доброе утро.
– Доброе утро, – ответила она.
Он поднял ящик и сумку и понес их, не сказав больше ни слова.
Слышны были только шаги…
Шаги на мокром асфальте.
Его и ее. Не в такт, сами по себе, и звуки их уплывали в грязный туман, которого почему-то не было только над морем. Они знали это и шли к морю. Мимо бывшей типографии Хаджибекова, одноэтажного здания телеграфа, у которого было красивое каменное крыльцо с лестницей, железными перилами и высокой старой магнолией возле ступеней.
Ребята, их одноклассники, вынырнули из тумана, как из волны. Присвистнули. А один из них, драчливый и придурковатый Ленька Васагонов, тихо, но внятно сказал:
– Жених и невеста.
Она гордо повела подбородком, покосилась презрительно. Прижалась к нему плечом. Усмехнулась:
– Догадливый мальчик.
Он понял, до чего же высоко она себя ценит. Давно догадывался, а теперь вот убедился. И это испугало его. Может, даже не столько испугало, сколько огорчило. Он вдруг отчетливо и ясно осознал, что всю свою жизнь будет помнить этот вечер, потому что другой такой никогда не повторится…
Он поставил ящик у обочины шоссе, а на ящик сумку. Жанна сказала:
– Спасибо.
– Пустяки, – ответил он. Представился: – Матвеев Петр Петрович.
– Жанна… Лунина.
Имя не совпадало с тем, давним, именем, но звучало похоже.
Он спросил:
– Вам далеко?
– В Каретное[6]6
Названия гарнизонов и географических пунктов, за исключением крупных городов, в романе вымышленные.
[Закрыть].
Матвеев кивнул. Наверное, это следовало понимать как подтверждение – мол, знает он такой захудалый районный городишко.
– Я там работаю после института по распределению…
– В школе. – Матвеев не спросил. Просто догадался. Ну где еще может работать молодой специалист в Каретном?
– В поликлинике, – ответила Жанна.
– Довольны?
– Очень даже. Отработаю еще год и сорвусь к папе с мамой в Армавир.
– В Армавире, Жанна, я полагаю, и без вас врачей хватает.
– Если так ставить вопрос, то нужно ехать на край света. А где он, этот край? Земля-то круглая.
– Тоже верно. – Матвеев взглянул на часы: пять часов одиннадцать минут. Шофер Коробейник опаздывал.
– Я посмотрю расписание автобусов, – сказала Жанна, хотя отлично помнила, что первый рейсовый автобус на Каретное отходит в четверть седьмого.
Она прошла вдоль фасада станционного здания, остановилась возле голубой будки, похожей на табачный киоск. На будке висело выгоревшее расписание, и черной краской было написано: «Автобусная касса».
Память не изменила Жанне. Автобус на Каретное действительно уходил в шесть пятнадцать.
Матвеев закурил. Смотрел на уходящие в туман рельсы с блестевшими глазками росы, на вымазанные землей и мазутом шпалы с ржавыми пятнами вокруг металлических костылей. Красный огонь светофора застыл в пространстве жирной размазанной точкой – саму мачту поглотил туман, и огонь висел, будто нарисованный на холсте. Оглашая утро вызывающе громким криком, низко пролетела ворона. Села. И стала пить из лужи.
Потом донесся звук подъезжающей машины. Взгляд у Коробейника был смущенный:
– Виноват, товарищ полковник. Правое переднее колесо подвело.
– Где тонко, там и лопается, – сухо заметил Матвеев.
– По всем признакам дефект заводской, – старался оправдаться Коробейник.
– Ладно. Поехали, – сказал Матвеев. Увидел выходящую из-за машины Жанну, добавил: – Но сначала подвезем доктора. Бери чемоданы.
…В машине говорили исключительно о природе. О том, что она здесь красивая, но диковатая.
В Каретном Коробейник остановил машину возле общежития. Помог Жанне внести вещи в вестибюль.
– Спасибо, Петр Петрович, – сказала на прощание Жанна.
Он пошутил, а может, нет. Черт знает как это прозвучало:
– Одним спасибо не отделаетесь. Вот возьму и прикачу в гости.
– Милости просим.
Что она еще могла ответить? Не кричать же ей: «Нет, нет, не приезжайте!»