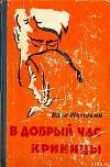Текст книги "Вдруг выпал снег. Год любви"
Автор книги: Юрий Авдеенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 30 страниц)
У окна не ветер бродит,
Задувается свеча,
Кто-то близкий тихо входит,
Встал – и дышит у плеча.
Обернусь и испугаюсь…
И смотрю вперед – в окно:
Вот, шатаясь, извиваясь,
Потянулся на гумно…
Не туман – красивый, белый,
Непонятный, как во сне…
Он – таинственное дело
Нашептать пришел ко мне…
В коридоре была тишина. Не гудел пылесос. В будние дни он свирепствовал ровно с восьми утра, и с того самого момента уборщицы переговаривались, вернее, перекликались на самые разные темы. Впечатление складывалось такое, что ты находишься на рынке, хотя никакого рынка в городе не имелось. Здесь даже столовая была лишь одна – при леспромхозе для рабочих. По субботам и воскресеньям столовая, естественно, не работала, потому что леспромхоз был выходной. Жанна запасалась в магазине болгарским компотом, который заменял ей и суп и борщ, покупала граммов двести сыра, колбасы, хлеба. Стиль работы местного общепита, конечно, нельзя было признать идеальным, однако от преждевременной полноты он гарантировал. Спасибо хоть за это.
Но сказкой веяла синяя даль,
За сказкой – утренний свет.
И брезжило утро…
В одиннадцать она вылезла из постели для того, чтобы нырнуть в теплый халат, взять полотенце, мыльницу, зубную щетку. Потом вышла в коридор. Туалетная комната была справа в самом конце коридора. Идти нужно было мимо столика вахтера. По обыкновению вахтер за столиком не сидел. Если дежурил Сидоренко по прозвищу дед Мазай, то он сейчас находился, разумеется, у магазина, потому что в одиннадцать открывался винный отдел. Если кто-то из женщин, то они, наверное, ушли домой готовить обед.
На столике Жанна увидела телеграмму в обложке – алели красные маки. Из любопытства развернула ее. И замерла. Телеграмма адресована была ей.
«Дорогая доченька, – писал отец. – Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю крепкого здоровья и хороших успехов в работе. Мама сейчас гостит у Тани в Грозном. Обнимаю тебя и целую».
«Боже мой, – испугалась она и вздохнула. – Забыть о собственном дне рождения. Что это? Замотанность или ранний склероз? Товарищ доктор, ставьте диагноз… Отец помнит. Бедненький! Сидит один – сторожит дом. Собаку, кошку, канареек».
Жанна как-то очень ясно представила себе маленький дом под Армавиром. И сад с яблонями, грушами, вишнями, сливами, виноградом. Огород с засохшей картофельной ботвой. Отца, колдующего в саду или в огороде…
Отец Жанны Павел Корнилович – пенсионер. Инвалид Отечественной войны 2-й группы. Служил во время войны морским летчиком в 63-й авиабригаде на Черном море. Бомбил Констанцу на ДБ-3, на СБ. Участвовал в налете 24 июня 1941 года, когда 36 наших бомбардировщиков рано утром метко сбросили бомбы на порт, нефтебазу, аэродром Мамайя и вернулись без всяких потерь.
Павел Корнилович любил вспоминать свою боевую молодость. Но Жанна никак не могла представить отца за штурвалом самолета, хотя слушала его рассказы часто и охотно.
Однажды она спросила (было ей тогда лет двенадцать):
– А если бы тебя убили, меня бы не было?
Он посмотрел на нее удивленно. Сказал:
– Да.
– Выходит, я воевала вместе с тобой?
– Выходит.
– Может, поэтому мне снятся твои бомбардировщики так ясно, словно я сама на них летала?
– Не знаю, – отец очень серьезно посмотрел ей в глаза, – это дело науки. Я, дочка, объяснить не могу.
…Жанна сложила телеграмму. И уже собралась продолжать путь, как на столе вахтера зазвонил телефон. Она сняла трубку, сказала:
– Вас слушают.
Незнакомый мужской голос попросил:
– Позовите, пожалуйста, к телефону доктора Лунину.
– Я слушаю вас.
– Одну минуточку. Сейчас с вами будут говорить.
Что-то щелкнуло в трубке. Видимо, телефон переключили.
– Здравствуйте!
Она сразу узнала, что слово это произнес полковник Матвеев. Уже тогда, когда незнакомый мужчина сказал: «Одну минуточку. Сейчас с вами будут говорить», она подумала о полковнике. Почему? Может, просто потому, что у нее не было других знакомых, которые могли бы звонить ей через секретаря или дежурного.
– Здравствуйте, – ответила она.
– Вы узнали меня? – спросил он.
– Еще бы… – сказала она весело и бодро.
– Это хорошо.
– Что это?
– Ваше настроение.
– А… Еще бы… – Вот уж привязались эти слова, прилипли. – У меня сегодня день рождения!
– Поздравляю.
– Спасибо. Только не спрашивайте, сколько мне лет.
– В вашем ли возрасте об этом думать?
– Конечно. Мне грохнуло двадцать шесть, а это совсем не шестнадцать.
– У каждого возраста свои прелести, – сказал он серьезно, почти строго.
– Как ваше здоровье? – спросила она.
– Я хочу к вам приехать.
– Лучше в понедельник, – сказала она, будто не поняв интонацию его последних слов. Подумала, что вот растерялась. Потому и пояснила: – В понедельник можно сразу сделать ЭКГ.
– ЭКГ подождет, – сказал Матвеев. Собственно, не сказал, а решил. – Я хочу приехать сегодня. Скажем, часа в четыре. Можно?
– Приезжайте, – после паузы ответила она.
…Все-таки машина – это действительно чудо. Сорок километров, меньше часа езды, а уже не хочется верить в то, что где-то есть захолустье Каретное, холодное общежитие для молодых одиноких специалистов, болгарский компот из слив вместо супа…
В летнее время ресторан обслуживал интуристов, и только интуристов. Он стоял на автомобильной трассе, окруженный соснами. И озеро лежало рядом. Сегодня оно было занесено снегом, но весной, летом, осенью плескалось под окнами, голубое или серое. Легко представить, какая это была красота.
– Вам нельзя коньяк, – сказала она. – Коньяк играет с сосудами. Он вначале расширяет их, потом сужает.
– Что же мне можно?
– Немного водки. И минеральной воды.
– Хорошо, товарищ доктор.
«У него очень высокий лоб, – подумала Жанна. – Глаза строгие. Но добрый. И улыбка хорошая. А строгость – это, наверное, профессиональное. Командир… Полковник».
– Расскажите о себе, – попросил он. Перевел взгляд от окна, за которым в сиреневато-розовом свете заката таял день, таял, как снежинка в ладонях.
– Очень непростая просьба, – ответила она, продолжая смотреть в окно.
По дороге за высокими соснами катила машина с включенными фарами. Свет от них был еще не очень заметен на белом снегу и бросался в глаза лишь на стволах деревьев, белкой прыгал с сосны на сосну.
– Разве? – удивился он.
– Я могу рассказать свою биографию. – Она посмотрела на него с какой-то веселой подозрительностью. Щелкнула языком. И добавила: – Которую писала для отдела кадров. Окончила среднюю школу, медицинский институт. Была замужем. Разошлась.
– Отчего?
– Отчего расходятся… Несовместимость характеров. – Она пожала плечами. – Супружеская измена.
– Да, – сказал он. – Характер – это как группа крови. Супружеская измена – совсем другое.
– С группой крови проще, – возразила она. – Ее несложно определить.
– Врачам виднее, – улыбнулся он, подвинул к себе пепельницу. – Разрешите?
Показал пачку сигарет. Она кивнула.
– Как врач я должна сказать твердое «нет». Но сегодня я здесь не как врач.
– Спасибо.
– Характер… Измена. И еще многое другое – неоткрытые рифы в океане супружества. Так говорил мой бывший муж. Он хирург, но пишет стихи. И даже печатается в местной газете.
– Сейчас многие пишут. У нас в гарнизоне прямо-таки какое-то поветрие на поэзию.
Официант, седой, в черном, внешностью напоминающий скорее концертмейстера, чем официанта, с профессиональной почтительностью и аккуратностью ставил перед ними тарелки с закусками. Жанна вначале хотела сделать вид, что процедура накрытия стола ей совершенно безразлична. Но потом передумала и следила за официантом с подчеркнутым вниманием. Улыбнулась Матвееву. И облизала губы, откровенно, точно маленький ребенок.
Пришли музыканты. Пятеро неопределенного возраста мужчин. Угрюмые. Во фраках.
Уже зажглись хрустальные люстры, то ли сделанные «под старину», то ли действительно старые. Этого нельзя было определить отсюда, из-за столика, потому что стены, обшитые дубом, и столы и стулья были явно стилизованные. Но люстра могла быть и старой – бронзовая, с гнездами для ламп, похожими на подсвечники. Должно же хоть что-то старое, неподдельное быть в этом ресторане, рассчитанном прежде всего на иностранных туристов.
Официанты задергивали шторы. Зал как бы сдвигался, становился меньше. Но почему-то уюта в нем не прибавлялось. Интерьер обретал торжественность, будто в фойе театра. А Жанне хотелось теплоты, хотелось чего-то простого, бесхитростного. И когда официант подошел к их шторе, она прикоснулась к его руке и сказала тихо:
– Не надо.
Официант растерянно посмотрел на Жанну, потом перевел взгляд на полковника. Матвеев кивнул. Официант сказал:
– Пожалуйста. И ушел.
– Этот ресторан называется «Старый замок»? – спросила Жанна.
– Нет. По-моему, «Прибой».
– А зря, – сказала она, оглядывая зал. – Название вполне подходящее. Доспехи рыцаря в угол. И вывеску… Реклама – двигатель торговли.
– Они в ней не нуждаются. Летом сюда не попадешь. Да и зимой… Сами видите, тоже не пусто.
Когда они приехали, в ресторане было занято три или четыре столика. Сейчас же за каждым столиком сидело по крайней мере два человека, кое-где и больше. Жанна мысленно еще раз сравнила зал с фойе театра. Гул, приглушенный гул голосов стоял здесь, как в фойе.
– Почему вы вспомнили обо мне? – спросила она.
Он видел перед собой ее молодое лицо – нельзя сказать, чтоб очень красивое, просто молодое и приятное. Разглядел настороженность, веселую, как первый иней, замершую у краешков губ, над переносицей. Он понимал, что должен быть с ней честен. Предельно честен. Что здесь не может быть и речи о легком флирте между одиноким, средних лет мужчиной и одинокой женщиной, достаточно молодой, но и самостоятельной. Он сказал:
– Я еще не разобрался в этом.
– Так сложно?
– Отсутствие опыта, – признался он. Еще улыбнулся. Но улыбка получилась вовсе не веселой. Грустной получилась эта улыбка.
Жанна догадалась:
– У вас была неудачная любовь.
– «Неудачная любовь» звучит очень книжно.
– Условно, – поправила она.
– Возможно, да… Конечно, да. Люди условились называть схожие события, ситуации определенным сочетанием слов. Неразделенная любовь, несходство характеров, мужественный поступок… Условились как в математике.
– В математике ясность. «А» квадрат плюс единица… И за этим все точно до бесконечности… А в жизни, наоборот, до бесконечности все неточно.
– Может, это и хорошо? – спросил он. – Может, за этим кроется какой-то смысл?
– Вы ушли от ответа, – сказала она. – Это не по-товарищески. Тем более после того, как я поведала вам автобиографию.
– У меня взрослая дочь… – произнес он. Посмотрел в окно, там было темно. Зал отражался в стекле, точно в воде или в зеркале.
– Все остальное – секрет? – спросила Жанна.
– Нет, – быстро и охотно ответил он. – Мы живем втроем. Я, моя мама – Софья Романовна и дочь – Лиля. Я вас познакомлю.
– Спасибо.
– Спросите, где моя жена.
– Вы скажете сами.
– Она не умерла. Вероятно, вы уже догадываетесь, она ушла к другому.
– Давно?
– Десять лет назад. Ровно десять. Лиле тогда было девять.
– Это худо, – сказала Жанна. – Когда мать оставляет ребенка, это очень худо.
Он увидел, что сигарета у нее потухла. Достал плоскую хромированную зажигалку и щелкнул ею ловко, как фокусник.
– Все можно пережить. – Лицо его на секунду сморщилось, ему было неприятно, ноздри расширились, будто он принюхивался к чему-то. – Все… Простить, конечно, нельзя всего… И не от доброго или злого сердца… В принципе прощение, как ржавчина, разрушает справедливость.
…Он подвез ее к самому подъезду общежития для молодых специалистов. Дремала поздняя ночь. Небо было темным, высоким. Мороз звенел протяжно, но тихо, надо было прислушиваться, чтобы услышать. Жанна прислушалась, когда машина Матвеева исчезла в глубине застывшего леса. Наверное, это звенели деревья. А может, звезды – медные колокольчики – сплетничали меж собой про молодую врачиху, вернувшуюся из ресторана после двух часов ночи.
Жанна потянула ручку двери. Конечно, дверь оказалась запертой. Рука в перчатке не могла наделать достаточно шума, чтобы разбудить деда Мазая после вечернего возлияния. Жанна колотила в дверь изо всех сил, но безрезультатно.
Тогда она пошла по дороге к лесу, в ту сторону, где скрылась его машина. Снег скрипел под ногами, но Жанна не чувствовала холода. На душе было легко. Спать не хотелось. Хотелось читать стихи.
И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?)
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.
И медленно, пройдя меж пьяными.
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.
И веют древними поверьями
Ее упругие шелка…
6
Дым над костром почти незаметен. Сухие сосновые сучья горят легко, как бумага. Гудит пламя, рыжие его языки красиво смотрятся на фоне зеленого леса, синего ясного неба. И солнце смотрится красиво, только вот не греет. Не греет совсем. Потому что дует северный ветер с самого Баренцева моря. Это очень плохо, когда баренцевый ветер пожалует в гости. Тогда шинель солдатская из родной матери превращается в злую тещу. Прапорщик Ерофеенко знает это, так как служит в Карелии не первый год. Шофер сидит на корточках у машины, возится с домкратом.
– Ты того, – говорит ему прапорщик, – пошустрее. За машиной в гараже ухаживать надо, а не на глухой дороге. Опоздаем на склад за сапогами, рапорт на тебя командиру автороты подам.
– Не волнуйтесь, товарищ прапорщик. Я совсем и не виноват. Машина не моя… Моя на профилактическом осмотре…
– Мне неважно, чья машина, – ворчит Ерофеенко, – твоя или царя Горохового. Мне задание выполнить надо по обеспечению личного состава вещевым довольствием.
Он закуривает. Идет к костру, у которого греются Игнатов, Истру, Асирьян. Веселые ребята. Прапорщик Ерофеенко прислушивается. Истру рассказывает что-то про киностудию.
– Слушай, – говорит прапорщик, – рядовой Истру, а какое ты отношение к кино имеешь?
– После окончания школы семь месяцев ассистентом оператора на «Молдова-фильм» работал, – докладывает Истру.
– О, – удивляется прапорщик. – Я по молодости тоже чуть в операторы не попал.
Истру вскакивает, кажется, он готов обнять и расцеловать прапорщика. Но служба есть служба, Истру с достоинством произносит:
– Позвольте пожать вашу руку, коллега.
Прапорщик Ерофеенко позволяет. Присаживается к костру. Поправляя палкой горящие сучья, объясняет:
– В войну дело было. Уже в Германии, в сорок пятом. Я, можно сказать, жизнью рискуя, нашим фронтовым кинооператорам большую солдатскую помощь оказал. В сложных условиях пленку на аэродром доставил… Уж они меня благодарили, благодарили… А начальник их, армянин, как сейчас помню – майор, очень мне даже руку жал. Сказал, что мне учиться надо, что у меня способности.
– Из чего же он такой вывод сделал? – поинтересовался Истру.
– Как из чего? – удивился Ерофеенко. – Из меня.
– Хотите яблоко, товарищ прапорщик? – предложил Истру. – Молдавское. Предки посылочку подкинули.
Ерофеенко благосклонно взял яблоко, посмотрел на дорогу, где шофер ставил домкрат, недовольно покачал головой.
Между тем Истру улыбнулся. Переглянулся с Игнатовым и Асирьяном. Спросил вкрадчиво:
– Значит, из вас?
– Что из меня? – позабыл прапорщик Ерофеенко.
– Вывод сделал армянин-начальник, – пояснил Истру.
– Да, да… – кивнул Ерофеенко, надкусывая яблоко.
– По внешнему виду? – понимающе спросил Игнатов. – Или вы с камерой работали?
– Работал, – сказал Ерофеенко. – Туда прямо как посмотришь – и все видно. А внизу ну словно спусковой крючок. Чуть больше, чем в автомате. Нажмешь, а она стрекочет… Тр-р-р.
– Сейчас бесшумные есть, – скучно заметил Истру, поняв, что разыграть прапорщика не удастся.
– То сейчас, – сказал Ерофеенко. – А тогда… Начальник-армянин говорит, хороший ты кореш, Ерофеенко, давай в нашу команду… А я нет.
– Чего же это вы? – спросил рядовой Игнатов.
– С пехотой жаль расставаться было, – вздохнул Ерофеенко.
– С царицей полей, – напомнил Асирьян.
– Это вы маху дали, товарищ прапорщик, – категорически заявил Истру. – Перед вами, можно сказать, светлое будущее открывалось, а вы примитивным чувствам поддались.
Помрачнел Ерофеенко, произнес глухо:
– Разговорчики… – Потом откашлялся. Сказал, но не оправдываясь, а, наоборот, утверждая: – Я своим настоящим и своим будущим вполне доволен. А относительно чувства с вами, рядовой Истру, совершенно не согласен. Чувство любви к своей части, к своему подразделению не может быть примитивным. Это у вас в голове еще детство бродит.
– Совершенно верно, товарищ прапорщик, – согласился Игнатов. – Он думает, если ноги у него что ходули, то он уже взрослый. Мало каши еще съели, рядовой Истру.
– Товарищескую критику принимаю. Обязуюсь исправиться, – доложил Истру.
– Да-а, – покачал головой Ерофеенко. – Тяжелая вы публика… И к важному учению, видать, еще не готовы. Группа… встать, – подал он предварительную команду. – В одну шеренгу становись!
Прапорщик хотел было на досуге позаниматься строевой подготовкой. Но, к счастью Игнатова, Истру, Асирьяна, шофер уже заменил колесо. Вытер руки тряпкой. И сказал:
– Можно ехать.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ1
Жанна Лунина – Герасиму Обочину.
«Герка, молодчина! Я обалденно обрадовалась твоему письму. Даже не представляла, что способна так радоваться. Правильно говорят: старый друг дороже новых двух.
Я хорошо помню, как ты целовал меня на лестничной площадке. Ты не только пытался целовать, но и поцеловал. Три раза. В ухо, в лоб и в подбородок. Я запомнила все хорошо, потому что раньше никогда не целовалась с мальчишками. Вертела я головой не от того, будто ты мне не нравился. Просто я боялась. А от тебя пахло вином. И вел ты себя как ненормальный…
Относительно тайны в человеке. Я совсем позабыла. Скорее всего где-то вычитала. Ты знаешь, я в школе читала много и все подряд…
Очень рада, что у тебя все нормально в жизни. И заграничная командировка тоже совсем неплохо. Посмотришь другую страну, узнаешь других людей.
Как ты догадываешься, я работаю в далеком районном центре. Этим все сказано, хотя природа сама по себе красивая. Суровая, но красивая. Много озер, хорошие леса. Чудесный, здоровый воздух. Конечно, будь у меня другая судьба, другая жизнь, вполне возможно, что я осталась бы здесь навсегда. Но сегодня я вольный, свободный человек, холостой, неженатый. И я хочу на родную Кубань, к папе, к маме. Хочу и не скрываю этого.
Возможно, мечты мои сбудутся и я вернусь на родину. Возможно, и ты вернешься из Монголии в наши края. Возможно, мы встретимся. Возможно, ты захочешь поцеловать меня на лестничной площадке. Возможно, я не стану так резво вертеть головой.
Все возможно…
Пиши.
Жанна».
2
Ежедневно после занятий рядовой Игнатов уходил в клуб к Сосновскому. Старшина роты прапорщик Ерофеенко очень переживал по этому поводу. И даже имел разговор с лейтенантом Березкиным. Честное лицо Березкина было молодым и свежим, как весенний луг. Широко открытые глаза казались подернутыми туманной дымкой и, конечно, видели не прапорщика, не казарму, пропахшую солдатским потом, а что-то другое, ведомое только им. Всем своим обликом взводный раздражал старшину. Поэтому красноречие, обычно присущее Ерофеенко, куда-то пропало. И он косноязычно повторял:
– Непорядок это… является…
Березкин кивал и говорил:
– Великолепно сказано.
Ерофеенко давно подметил, что эти два слова составляют любимую фразу взводного. Но страсть к соблюдению дисциплины одолевала старшину так жестоко, что затмевала логику и чувство юмора. С упрямством, достойным лучшего применения, он повторял:
– Непорядок это… является…
– Великолепно сказано, – подтвердил Березкин, потом разъяснил: – Командир полка полковник Матвеев в моем присутствии лично приказал рядовому Игнатову явиться в распоряжение начальника клуба.
– Непорядок это…
В конце концов Березкину надоело спорить. Звонким, чуть ли не пионерским голосом он громко напомнил:
– Приказ начальника – закон для подчиненного. Приказ должен быть выполнен точно и в срок.
…Капитан Сосновский приветливо пожимал Игнатову руку. Называл его просто – Славик. Угощал сигаретами. Клуб был большой и старый. Требовались умелые руки – что-то починить, что-то покрасить. К Сосновскому приходил еще один парень – шрифтовик. Но он был последнего года службы. И работы у него было по горло не только в клубе.
Игнатов в школе увлекался радиоделом и теперь вызвался отладить аппаратуру, дающую трансляцию на зрительный зал.
– Фонирует, фонирует, Славик. Прошлой весной сам Матвеев перед сержантским составом выступал. И вдруг фон как пошел со свистом. Пришлось все к чертовой матери отключить. А полковник на ковер меня вызвал, втык сделал.
Однажды перед самым ужином, когда Игнатов наладил освещение сцены, Сосновский спросил:
– У вас в роте ребят талантливых по линии самодеятельности нет? Или, может, ты и сам что умеешь?
Игнатов пожал плечами.
– Не поешь ли?
– Нет… Для себя иногда наговаривал что-то под гитару.
Сосновский хлопнул в ладоши:
– На гитаре играешь?
– Немного.
Сосновский провел его в свой кабинет, в который можно было попасть, лишь спустившись по крутой темной лестнице мимо кинобудки. Большую часть крохотного, похожего на кладовку кабинета занимал канцелярские стол, в центре которого громоздилась облезлая пишущая машинка. Гитару Сосновский достал из шкафа, предварительно попросив Игнатова перетащить в другой угол рулон плакатов на уставные темы.
Игнатов попробовал струны, немного подстроил. И, как говорится, не ударил в грязь лицом.
– Ты меня выручил, Славик, – радостно заявил Сосновский, осанисто дернув подбородком. – Завтра начнешь репетировать с солистами. У меня полоса сплошных невезений. Три парня прекрасно играли на гитарах. Представляешь, трио! И все трое осенью демобилизовались…
…С субботы на воскресенье прапорщик Ерофеенко все-таки определил Игнатова в наряд по кухне. Наряд заступал в шесть часов вечера, и, естественно, Игнатов не мог явиться к Сосновскому в четыре часа дня, как это было условлено. Заступающим в наряд полагался дневной отдых. И вообще они не имели права отлучаться из казармы. Мишка Истру, как он сам признавался, «по причине длинного языка и врожденного неуважения к дисциплине» за полгода стал крупнейшим специалистом по уборке сортиров, мытью полов и чистке картофеля. Легко догадаться, он тоже был в составе наряда. И по мере сил и опыта оказывал моральную поддержку другу.
– В детстве я верил, что Земля по форме напоминает мячик и вертится в пустоте. Теперь же я убежден, что она плоская и лежит на трех китах. Первый кит – спокойствие, второй кит – терпение. Третий кит – дружба… Мы все вышли из земли и вернемся в нее, значит, должны опираться на тех же китов, что опирается она. Послал нас Ерофеенко в наряд – спокойствие. Заставит повар мыть миски, убирать столы, выскребать из котлов остатки каши – терпение. Но зато, когда наступит ночь и повара уйдут спать, придет к нам кит дружбы. Нажарим мы всем нарядом картошки с хорошим мясом. Где ты такую еду попробуешь? Разве что у родной мамы.
Игнатов любил жареную картошку и мясо тоже. Но еще он любил спать по ночам. Между тем все знали – наряд на кухне не то место, где можно выспаться.
– Конечно, – говорил Мишка Истру, – и на кухне среди ночи выпадает часика два-полтора, когда можно бросить кости. Но телеграфным столбом встает вопрос, куда их бросать. На столах спать негигиенично, на полу холодновато. Остаются, старик, скамейки. Узкие, как выщипанная бровь красавицы.
В казарме на тумбочке дневального стоял телефон. Теоретически по телефону можно было позвонить в клуб и переговорить с Сосновским. Однако без разрешения офицеров или прапорщика Ерофеенко рядовые не имели права пользоваться телефоном. Лейтенант Березкин в расположении роты после обеда не появлялся. О том, чтобы просить разрешения у Ерофеенко, не могло быть и речи…
Прапорщик важно и молча ходил по казарме, как уран, излучал энергию каждым своим взглядом, каждым своим жестом и даже многозначительным сопением. Миновав пустые стеллажи для чистки оружия, на которых, как ни старайся убирать, оставались следы масла и щелочи, прапорщик Ерофеенко замер, пораженный тоскливым, как дождливый понедельник, напевом, доносившимся из приоткрытых дверей курилки.
…В ресторане на эстраду вышел
Молодой оборванный скрипач.
Оцепенение, поразившее старшину, было сродни тому, которое может случиться глухой ночью, когда стоишь на боевом посту и вдруг слышишь настораживающий хруст веток, кустарника и понимаешь – кто-то приближается к объекту с самого опасного направления. «Стой! Кто идет?!» – знаешь, надо так крикнуть. А в глубине души чувство самосохранения подсказывает: может, вначале выстрелить?
Он остановился на минуту,
Повернул огромные глаза
Так, что побледнели проститутки
И на миг умолкли голоса.
Ерофеенко почувствовал, у него отвисает челюсть. Нет, он не уловил в содержании какой-то крамолы. Ясно, песня была приблатненная. Но слово «проститутки» неприятно резануло слух, хотя родной сын старшины Вавила, еще будучи десятиклассником, показал отцу орфографический словарь, выпущенный в 1968 году издательством «Советская энциклопедия», где на странице 431 в первом столбце шло «проституированный», а за ним по порядку «проституировать, -рую, -руешь, проституироваться, -руется, проститутка» и т. д.
– Зачем они все это публикуют? – потрясенно спросил тогда Ерофеенко сына.
Вавила со знанием дела ответил:
– Чтобы при написании ошибок не наделать.
– Зачем же я стану писать такое похабное слово? – изумился прапорщик.
– Это, папа, у вас от бескультурья, от начального образования. Слово совершенно нормальное. Литературное и цензурное.
– Вот получай, – громко и отчаянно сказала Мария Ивановна, жена прапорщика, имевшая, как ее муж, начальное образование. – Учи их больше. Все Советская власть правильно сделала. Только десятилетки зря придумала. Убытка от учения больше, чем пользы. Пользы-то с ноготок.
Ерофеенко одернул китель. Он почему-то всегда поступал так в минуту растерянности. Движение рук словно встряхнуло его. Он сделал глубокий выдох. И осторожно открыл дверь в курилку.
Естественно, в курилке пахло не цветами, а табаком. Но дым не стоял заставой богатырской, наоборот, сиротски висел над самокруткой рядового Асирьяна, сидевшего в глубоком одиночестве перед урной, заполненной водой и как осенние листья плавающими в ней окурками.
Он стоял, наигрывая жутко,
Строя горы человечьих мук.
Он играл, а скрипка вырывалась
Из его ошеломленных рук.
Асирьян пел с такой тоской в голосе, что прапорщик Ерофеенко почувствовал, как на голове шевелятся волосы.
Без меня та скрипка жить не может,
Так играй, родимая, и плачь…
– Рядовой Асирьян, вы что поете? – не своим голосом спросил Ерофеенко.
Асирьян повернул голову, посмотрел на старшину без служебного рвения, потому как твердо помнил: в туалете, в бане, в курилке все равны. Сказал:
– Да так… Вартана Вартановича вспомнил.
Поскольку Ерофеенко запамятовал, кто такой Вартан Вартанович, а может, никогда и не знал, то строго предположил:
– Уголовника?
Асирьян умудренно поморщился. Крякнул. Потом объяснил:
– На этот вопрос одним словом не ответишь. Кодекс, в том числе и уголовный, всего лишь систематизированный свод законов. А на все случаи жизни законов не придумаешь.
– Закон надо блюсти, – назидательно сказал прапорщик Ерофеенко.
В ответ на эти слова Асирьян неопределенно пожал плечами и отвернулся. Ерофеенко оскорбился. Его так и подмывало крикнуть: «Встать! Смирно!» Но он помнил, что уставы нужно блюсти, как и законы.
– Песня ваша… – Он умолк, силясь подобрать верное, точное слово, но, кроме слова «похабная», ничего другого память не могла выплеснуть. Говорить же это слово прапорщик считал неприличным. Он немного вспотел и начал усиленно растирать пальцами переносицу.
– Ущербная, – подсказал Асирьян.
– Вот-вот, – обрадованно согласился Ерофеенко. – И когда же она была написана?
– При проклятом царском режиме.
Разъяснение насчет давнего происхождения песни несколько успокоило прапорщика, однако он счел своим долгом отметить:
– Тем более вам, молодому человеку, солдату, не очень здорово петь песни… ущербные. Лучше бы взяли книжку почитали.
– А где я ее возьму? Я в библиотеке не записан.
– Пойдите запишитесь.
– Как? – удивился Асирьян. – Можно сейчас?
– Пожалуйста, я разрешаю.
– Вот спасибо, товарищ прапорщик, – округлил в улыбке лицо Асирьян.
Однако, прежде чем уйти в библиотеку, он повидался с Игнатовым и получил от него записку для капитана Сосновского.
3
Лиля злилась. Утром она поругалась с бабушкой. С десяти до одиннадцати плакала. Потом позвонила отцу, попросила машину до Каретного, чтобы съездить к парикмахеру. Отец машину не дал. Она заранее предвидела такой ответ. Дерзко заявила, что отец черствый, глухой на чувства человек. Бросила трубку.
Софья Романовна не сдержалась, укоризненно заметила:
– Телефон казенный.
– Тем более. – Лиля подняла трубку, бросила ее еще раз, сильнее, чем прежде.
«Вся в мать, – с сожалением подумала Софья Романовна, никогда не любившая свою бывшую невестку. – И красивая, и капризная, и высокого мнения о себе. Очень высокого…»
– Станешь зарабатывать деньги, – сказала Софья Романовна, – будешь иметь свои вещи. Тогда и распоряжайся ими. Хочешь беречь – береги. Хочешь ломать – ломай.
– Ты повторяешься. Я слышала эти слова уже сто раз.
– До тебя с одного раза ничего не доходит.
– Я тупая, – заявила Лиля с вызовом. – Вы же с папочкой очень умные. Все мозги к вам ушли. На мою долю ничего не осталось.
Софья Романовна, посмеиваясь, качала головой:
– Бедненький ребенок.
– Конечно, бедненький. – Лиле стало себя жалко. Она вновь заплакала, всхлипывая и причитая. – Всю жизнь одно и то же… Солдаты, казармы, военторги… Осенняя проверка, весенняя проверка… Мать правильно поступила, сбежав отсюда… Велико счастье сидеть в четырех стенах и смотреть в окно на эту проклятую дорогу… Сухая она или мокрая. В снегу или в желтых листьях… Мне чихать, в каких она листьях… Где-то есть города, театры, музеи…
– Счастье не в театрах и не в музеях, – возразила Софья Романовна из кухни.
– А в чем же оно тогда? – с вызовом спросила Лиля.
Софья Романовна посмотрела на внучку пристально, сказала, не повысив голоса, твердо, неторопливо:
– В любимом деле, в любимой работе…
– Слышала я это. По радио! – Лиля повернулась к зеркалу, платочком вытерла поплывшую с ресниц краску. – Старо все это. Ста-ро!
– Понятия добра, зла, любви, ненависти, храбрости, трусости не могут быть ни старыми, ни молодыми. Они другого порядка – вечного.
– Я вообще в вечность не верю. Мамонты, наверное, казались сами себе сверхвечными. А погибли в одну секунду. И до сих пор никто не знает почему. Между прочим, об этом тоже по радио говорили.
– Реши эту загадку, – посоветовала Софья Романовна. – Поставь себе такую цель. Пусть она станет смыслом твоей жизни.