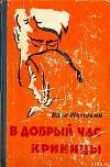Текст книги "Вдруг выпал снег. Год любви"
Автор книги: Юрий Авдеенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 30 страниц)
Баженов на меня прямо как на брата смотреть начал. Свой свояка видит издалека.
…Минут через тридцать пять – сорок пришел Щербина. Теперь он был более спокоен, не вертел шеей, и улыбка, которую я помнил еще с детства, вернулась к нему. И мне немного полегчало.
– Написал? – спросил он и почему-то прищелкнул языком.
Я подвинул ему бумажки. Сказал:
– Не очень складно получилось.
– Главное, чтобы верно было. – Он не сел на стул, читал стоя. Лица его я теперь не видел. Пальцы, державшие бумаги, нетерпеливо шевелились. Иногда он покашливал.
Светлый зайчик задрожал на словно бы помолодевшем столе, задрожал из-за шторы, которая немного колыхалась. Там, на улице, проглянуло солнце, но вскоре тучи увели его, и стол опять оказался старым и невеселым.
За окном по радио певец Владимир Бунчиков старательно чеканил слова:
Летят перелетные птицы
Ушедшее лето искать.
Летят они в жаркие страны,
А я не хочу улетать…
– Расписаться надо, – сказал Щербина, подвигая мне последнюю страничку. – И поставить число.
Я расписался и поставил число. Сказал:
– Пойду домой.
– Иди, иди, – согласился Щербина, но взгляд его что-то недоговаривал.
Я спросил:
– Их сегодня заберут?
– Нет.
– Почему?
– А за что их брать? – Щербина сел на стул и блаженно вытянул ноги.
– Как за что? – удивился я. – Они замышляют кражу.
Щербина усмехнулся и даже зевнул. Волосы его рассыпались, прикрыли лоб. И вид у капитана получился сонный.
– В твоем возрасте, Антон, думать надо, – он говорил строго, но по-дружески. – Ты хочешь жить не думая. Потому и попадаешь в такие истории. Представь, возьмем мы Баженова и его Симу на основании твоего заявления. На допросе Баженов от всего откажется. Он заявит, что это ложь, что ты клевещешь на него из ревности. Дескать, не поделили вы девушку – и все. Про квартиру учительницы он ни слухом, как говорится, ни духом… Вообще скажет: я не знаю, живет ли такая учительница в городе. Мы должны будем перед ним извиниться и отпустить. И потом еще охранять твою милость, чтобы они перо тебе между ребер не сунули.
– Что же делать? – упавшим голосом спросил я.
– Жить! Иди, живи, устраивайся на работу. Дружи с Баженовым. Постарайся не насторожить его. Поступай так, как если бы ты на самом деле собирался обворовать квартиру. Запомни два телефона: 38-86 – это мой, 38-88 – дежурного. Телефонами этими пользоваться лишь в том случае, если уверен, что тебя не слышат и не видят. При сложных обстоятельствах звони лучше Наде Шакун. Она известит нас. Договоритесь с ней об условной фразе, которая бы означала: кража состоится этой ночью.
– Хорошо, – несколько ошарашенно ответил я.
– Главное, не трусь. Твои друзья будут в поле нашего зрения, – подбодрил Щербина.
– Я постараюсь.
– Да… Может случиться так, что они захотят тебя проверить. Будут брать на бога. Дескать, нам известно, что ты лягавым продался, и так далее. Ты держись спокойно. Ничего им не известно. Обычный дешевый прием… Остерегайся хозяина. Мне думается, этот одессит, интересующийся золотом, совсем не пешка, а скорее ферзь. Звони ежедневно. Учительница уезжает в Кисловодск послезавтра. Значит, в запасе двое суток…
19
Дважды в неделю я спал под буфетной стойкой. Мне было тогда пять лет, и мои родители почему-то жили отдельно друг от друга. Отец, не подавая вестей, загружал суда в Новороссийске, мать работала здесь, в нашем городе, буфетчицей ресторана «Интурист».
Смены ее выпадали так, что по средам и пятницам она заканчивала работу после часа ночи. А оставить меня дома было не с кем. И тогда под стойку клали одеяло, и я дремал на нем, свернувшись калачиком.
Звуки радиолы буравили тонкие стенки буфета. А когда я кашлял (у меня в ту пору часто случалась простуда), посетители, оказавшиеся поблизости, недоуменно оглядывались, а официантки, видя это, улыбались, потому что знали, кто кашляет под стойкой.
Я засыпал долго и трудно. Причиной тому было не жесткое ложе, а музыка. Она, конечно, была громкой, но не сила звуков смущала меня. Я не понимал, как в деревянном ящике, именуемом радиолой, который во много раз меньше буфетной стойки, мог уместиться взрослый певец вместе с джазом. В том, что они сидят там, я не сомневался. Какая нужда послала их на это? Не лучше ли выйти из ящика и сесть на эстраду, как это случается по субботам и воскресеньям?
Размышляя над заданием Щербины, думая о Баженове и Симе, я вдруг понял, что разбираюсь во всем этом ничуть не больше, чем разбирался ребенком в техническом устройстве радиолы.
Какая нужда толкает Баженова и Симу идти на преступление? Зачем понадобился им я? Так ли уж важно для истины застать воров на месте преступления?
Я находил какие-то ответы, однако наивности в них было больше, чем опыта и здравого смысла.
Мне всегда казалось, что если хорошенько над чем-то задуматься, то обязательно додумаешься до сути. Теперь я убеждался в простодушном самообмане. С равным успехом я, никогда не стоявший на лыжне, мог надеяться на собственные рекорды в лыжном спорте.
– Уменье мыслить глубоко и четко, – говорил Домбровский, – это капитал.
На поверку я оказался неимущим.
20
Нестор Иванович Семеняка был похож на моржа. Я позавидовал его усам, напоминающим бивни, мысленно дал слово отпустить себе такие.
Он сидел в кресле напротив стола Шакуна, выколачивал трубку – темно-вишневую, с мордой какого-то черта.
Валентин Сергеевич довольно пространно объяснил, что я в общем неплохой парень, влюбленный в море, и что железная рука Семеняки вернет меня на путь праведный, превратит в единицу, полезную обществу.
Семеняка с достоинством кивал головой, уверенный в крепости и твердости своей руки, а когда Шакун вспомнил про его добрую душу, Семеняка перевел свинцовый взгляд в мою сторону, нацелился глубокими амбразурами узких суровых глаз.
Я немного ерзал в кресле и понимал, что это не очень нравится боцману. Но волнение было выше меня. Я краснел и без причины улыбался.
Наконец Шакун пожелал мне успеха на новой работе. Поздравил со сбывшейся мечтой. Встал из-за стола, протянул руку. Я тоже встал.
Оставаясь сидеть в кресле, боцман хрипло и властно спросил:
– Медицинскую комиссию проходил?
Я впервые слышал его голос и даже почувствовал неприятное сердцебиение.
– Нет. Не проходил, – ответил я робко.
– Без комиссии нельзя, – заключил боцман и стал дуть в трубку.
– Я позвоню в поликлинику, – сказал Валентин Сергеевич Шакун, досадливо взглянул на боцмана.
– Спасибо, – пошевелил я губами.
– Получишь справку и прямым ходом в отдел кадров, – пояснил Шакун.
– Хорошо. До свидания.
…Портовая поликлиника была в пяти минутах ходьбы. Развесистые высокие акации укрывали тенью выложенный плитами тротуар, тянувшийся вдоль двухэтажного здания. Вход, обозначенный цементными ступенями, блестел застекленными дверями как раз напротив морского вокзала, и море отражалось в этих дверях как небо отражается в лужах.
Я вздрогнул: уж не следил ли за мной Баженов? Он появился между акациями, махнул рукой. Я остановился. Ноги не двигались, словно вросли в землю.
– Очень хорошо, что я тебя встретил, – сказал он. В голосе не было ничего необычного, настораживающего. Взгляд тоже ничем особенным не отличался: нахальный, самоуверенный. Разве чуточку деловитый.
– Вот, – сказал я. – Оформляюсь на буксир.
– Будем надеяться, что море окажется к тебе добрее, чем ко мне. – Баженов, как обычно, хлопнул меня по плечу. Спросил: – Как настроение?
Я ответил бородатой морской шуткой:
– Настроение бодрое, идем ко дну. – После небольшой паузы попросил: – Займи червончик.
– Слона дешевле прокормить, чем тебя. – Баженов вынул из кармана пиджака кожаный бумажник с золотистым ободком по краям. Такого я у него не видел. – Когда отдавать будешь?
– Отработаю, – ответил я и сунул десятку в карман. Не знаю почему, скорее всего подстраховываясь, заслоняясь от мысли, что Баженов может подозревать меня, я сказал: – Квартирка одна на примете есть. Богатая.
– Чья? – тихо спросил Баженов, зыркнув глазами по сторонам.
– Шакуна.
– Интересно, – одобрительно кивнул Баженов. – Кажется, ты не безнадежный.
– Как-нибудь, – недовольно процедил я.
– Только без психа, – Баженов сверкнул золотой фиксой. – В нашем деле психовать нельзя. Иначе потом запоешь: «Далеко из Колымского края шлю тебе я, родная, привет…»
– У меня голоса нет.
– Эта песня душой поется.
– Если в душе гармонь.
– Тоска. Тоска, Антон, мелодичней гармони… – Он взял меня за плечи, сказав с твердостью в голосе: – Идем сегодня… Встречаемся в одиннадцать вечера возле «метро».
Слова стегнули меня кнутом. Я раскрыл рот, чтобы вдохнуть, но воздух куда-то унесся на крыльях ветра. Покосились деревья, оплеснутые солнцем. А море… Море вывернулось наизнанку, стало не синим, а красным…
21
Дождь словно что-то рассказывал. И тусклая крыша, будто пришедшая из сна, и плоский монастырский дворик, и бензоколонка, возле которой стояла машина, терпеливо слушали, как лопаются капли. Белые облака бежали по ночному небу. За облаками проглядывали звезды. И было непонятно, почему же идет дождь. Под аркой не было дождя, но пахло сыростью и замшелым камнем.
Это была московская арка, и улица тянулась московская. И кругом светилась и темнела, стояла и двигалась на север, на запад, на юг, на восток – всюду была Москва.
Надя Шакун говорит:
– Первую ночь в Москве я провела на манеже. Нас было много девчонок, а в общежитии так мало мест. И мы лежали на мягком манеже возле чемоданов, как пассажиры на вокзале, и долго не могли уснуть. Потому что каждый думал о своем. А это свое казалось самым главным в жизни. И очень зыбким, как предутренний свет…
После окончания десятилетки Надя поехала к тетке в Куйбышев погостить две-три недельки. И там однажды попала в цирк. Тогда тоже был дождь, и светофоры смотрели в лужи. И брызги летели из-под машин прямо на тротуар.
– Но я не замечала непогоды. Все виделось мне необычным, словно приподнятым. Именно тогда, после представления, у меня родилась мечта стать цирковой артисткой.
– Что было потом? – спрашиваю я. И удивляюсь, что разговор этот возник не раньше, а только сегодня, сейчас, когда уже десять минут одиннадцатого и до встречи у «метро» остается только пятьдесят минут.
– Потом был маленький домашний скандал. Папа хотел, чтобы я стала врачом.
– Ты решила проявить самостоятельность.
– Мне очень нравится это делать. Я поехала в Москву на экзамены.
Мы сидим на диване. Горит лишь маленькая ночная лампа. Надя рассказывает. Я представляю. Представляю, как могу, потому что никогда не был в Москве и видел ее только в кино…
Москва. Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Набирают девять девочек, желающих – больше тысячи. Ваш экзаменационный лист – номер пятьдесят. Хорошо бы верить, что он счастливый.
Экзамены. Первый тур. Внешние данные. Улыбка, затяжка, переключение…
Второй тур.
– Что вы умеете делать, девочка?
– Ничего.
Вытянутые лица членов комиссии. И злорадные улыбки соперниц. Трудно винить их: конкурс ведь более ста человек на место.
– Может, мостик, – неуверенно говорит кто-то из педагогов и приближается к Наде.
…Нелегко становиться в первый раз на мостик, даже с помощью опытного педагога.
Слезы. Слезы как ливень. Обидно же… И вдруг… Словно счастливая находка: «Вы допущены к третьему туру».
Цирк знали еще в Древнем Египте, и на острове Крит, и в Микенах. И уже сотни лет назад Европа дивилась мастерству гистрионов, Азия – дорвозов, Русь – скоморохов…
Надя говорит:
– Наверное, это были одержимые люди. Настоящее искусство всегда требует одержимости. И труда. Цирк прежде всего труд. Кропотливый, упорный… Ты не представляешь, что это такое.
– Не представляю, – признаюсь я. – Не представляю, за что же тебя все-таки приняли.
– За внешние данные, – отвечает Надя несколько раздраженно, конечно же, огорченная моей несообразительностью.
– Тогда все понятно. В тебя сразу влюбились.
Она возмущается:
– Ничего тебе не понятно. Педагоги прямо говорят: «Нам нужны красивые люди. Мы готовим артистов». А из красивых они выбирают тех, кто талантливее.
– Прости меня, – говорю я и смотрю на часы.
Она тоже смотрит на часы. Гладит ладонью мою голову:
– Тебе пора. Будь осторожен, береги себя. Я буду ждать твоего звонка.
22
Рассказывал однажды Женя Ростков, как шел в первый раз к немцам в тыл в составе разведгруппы. Было это зимой сорок первого, наши фашистов только от Москвы погнали.
В группе было человек двенадцать, в основном молодые необстрелянные ребята. Командир группы опытный, да еще опытным был партизан, который встретил их в условленном месте за линией фронта.
Шли гуськом по неглубокому снегу. Снег хрустел под сапогами, шурша, сыпался с ветвей невысоких отливавших синевой елок. Было еще темновато, однако рассвет уже стегал светлыми прутьями, тянувшимися по краю леса с востока.
Тишина.
И вдруг – взрыв.
Разведчики залегли, приготовились к бою. Проходит минута, другая. Противник себя не обнаруживает, словно его вовсе и нет.
Потом выяснилась грустная история. Разведчик, шедший последним, не предупредив товарищей, свернул в лес по нужде. Через какое-то время кто-то из разведчиков обернулся и в предрассветных сумерках увидел, что к отряду из-за деревьев приближается незнакомый человек. Не раздумывая разведчик бросил в незнакомца гранату…
– Почему он так поступил? – спросил Ростков.
– Испугался, – ответил я.
– Это вторая причина, – объяснил Ростков. – Прежде всего он проявил неопытность. Это вранье, что на фронте люди не испытывали страха. Случались ситуации, когда пугались и бывалые солдаты. Но и тогда они оставались солдатами, а не мальчишками, на которых напялили солдатские шинели. Мы в то утро были мальчишками.
Он посмотрел на меня (мы тогда возвращались с завода домой). Сказал:
– Во всех поступках ты только мальчишка.
– Естественно, – ответил я. – Время опередить нельзя. Среди стариков мальчишек не бывает.
– Доживем до старости – и это выясним, – заключил Ростков, потирая небритый подбородок.
Доживем ли? Я вспомнил серое лицо Щербины, металлический шкаф в его прокуренном кабинете и слова капитана: «В твоем возрасте, Антон, думать надо».
Ночь была холодной, темной. Старый забор, осевший под тяжестью ежевики и хмеля, тягуче поскрипывал, когда ветер, скатываясь по обрыву, натыкался на него. Так, наверное, поскрипывают мачты на парусниках при бризе в океане.
Я сунул руку в карман и нащупал пистолет ТТ. Теперь он не был таким холодным, как в тот момент, когда Баженов вкрадчивым движением передал его мне. Он спросил:
– Ты когда-нибудь стрелял из ТТ?
– Да, – твердо сказал я.
– Возьми. – Черное тело пистолета сверкнуло скупо, потому что столб с электрической лампочкой под колпаком был только на углу улицы, за акацией. Баженов добавил: – На всякий случай.
Нет у меня способностей и сил описать мое состояние в тот момент. Испугался, растерялся, обомлел – это совсем не те слова.
Помню, я взял пистолет и спрятал его в карман спокойно, ловко, будто делал это десятки раз.
Еще сегодня вечером у меня была мысль попросить пистолет у Щербины. Но я не решился это сделать…
Я не знаю, почему Баженов решил передать мне пистолет: был ли это обдуманный поступок или просто секундный порыв?
Улица пролегала внизу, а над ней справа и слева тянулись другие улицы. По правой, как слепой палкой, ощупывая пучком света мостовую, вдруг прорезавшуюся в ночи серебристой чешуей, двигалась машина. Размазанные тени скользили по садам быстро, словно сносимые ветром. Где-то у забора сочилась вода: шелест ее был мягкий-мягкий…
Около десяти минут назад Баженов и Сима скрылись во дворе дома Марианны Иосифовны, а я остался «стоять на стреме». Они вошли во двор неслышно. И калитка не скрипнула за ними, и дорожка не откликнулась звуками шагов.
Уж ты, ночка, ты, ночка темная,
Ты, темная ночка, осенняя!
Нет у ноченьки светлого месяца,
Светлого месяца, ни частых звездочек! —
пел дребезжащим голосом, бывало, на печи дед Антон. Онисим кряхтел, сморкался в темноте, наконец умоляюще говорил:
– Заглохни, дед… Дозволь, как собаки воют, послушаю.
То у ключика было у текучего,
У колодца то было у студеного…
А вода сочится где-то близко. Наверное, труба проржавела или стерлась. Подземных ключей на этой улице нет – я точно знаю.
Тихо.
Может, Щербина и его люди не пришли. Может, переиграли. Или случилось какое другое дело, важнее этого…
И вдруг…
Сухо треснула доска. Кто-то сильный и ловкий хватил ее о колено, и она треснула, как вскрикнула.
Потом стали трещать другие доски: три, четыре подряд. Красноватая вспышка, похожая на ту, что бывает при крепкой затяжке папиросой, там, среди листвы, озарившая ствол дерева и край дорожки, объяснила причину треска.
Во дворе Марианны Иосифовны стреляли…
23
Прошел час. Два. А может, целых десять. И я не мог понять, почему же до сих пор не светает.
Ночь шевелилась – холодная, равнодушная. Лаяли собаки. Лаяли зло и громко.
Баженов по-прежнему лежал меж лопухов, вытянув правую руку к забору, словно еще надеялся встать, ухватившись за перекошенную трухлявую штакетину. Но я-то догадывался – и в этом был весь ужас, – что больше он не встанет никогда-никогдашеньки. Отходил по земле Баженов, отбегал.
– Кто это его? – спросил словно спустившийся с неба Щербина.
– Я.
Щербина осторожно разжал мои пальцы, мокрые от страха. Забрал пистолет.
– Случайно?
Как мне хотелось кивнуть в ответ, закричать: «Да, да! Пистолет выстрелил случайно!» Но я знал, что это неправда. И еще я знал: сейчас неправду говорить нельзя.
Почему-то запахло ландышами. Ландыши не могли цвести поздней осенью – это было ясно и ежу. Но в прозрачном воздухе стоял запах именно этих цветов, а не пистолетного пороха, как должно было быть по логике.
– Нет, – сказал я. – Нет… Я выстрелил сам.
Милиционеры стучали сапогами по сухой земле. Их оказалось сразу шестеро. Где же вы были, милые мои, раньше? Почему, когда выбежав со двора Марианны Иосифовны, Баженов бросился в гору, на его пути оказался я один? Баженов тогда выдохнул:
– Дай пистолет.
В его собственном случилась какая-то неполадка: заклинило гильзу или отказал курок.
– Нет, – сказал я.
– Пистолет, – прохрипел Витек.
Но я понимал, что не отдам ему ТТ, даже если ради этого мне придется загнуться здесь, среди лопухов.
– Су-у-ка! – Каким образом в руке Баженова оказался нож, я объяснить не в состоянии. Возможно, нож был в рукаве.
Блеснуло лезвие. Так холодно блестит на траве чешуя гадюки. Баженов чуть присел, пружиня в коленях. И я понял: через секунду он пырнет меня…
Шуршали листья. У забора сочилась вода. Белые камни на дороге, скрюченной и горбатой, казались похожими на кости.
Баженов сделал глубокий выдох…
И тогда я утопил спусковой крючок.
– Почему вы так долго не приходили? – устало спросил я Щербину. – Вас не было целую вечность, – пояснил я.
Щербина снял фуражку, вытер платком лоб и волосы. Сказал:
– Мы преследовали его по пятам.
Я с сомнением покачал головой. Щербина посмотрел на часы:
– Вся операция заняла восемь минут.
– Мне показалось – восемь часов, – я тоже посмотрел на часы, но ничего не увидел.
– Это у всех так бывает, – успокоил Щербина. Добавил: – Когда в первый раз…
Подъехала машина. В свете фар зарябила улица. Я увидел возле машины Симу. Руки его были за спиной. Он щурился и вертел головой.
– Вот палил, вот палил, – говорил один милиционер другому. – Пуля возле носа пролетела. Понимаешь, всю войну прошел – ни одного ранения. А тут пуля возле носа…
Фары скрестили лучи с другими лучами. Значит, машин было уже две. Из второй вышел большущий рыжий дяденька, обвешанный фотоаппаратами. Он улыбался и жевал яблоко.
Потом, пугая собак, резали тьму вспышки магния. Оживали окна в соседних домах. Заспанные жильцы выходили из калиток, одетые наспех. Говорили преувеличенно-громко.
Собаки затихли.
Кто-то из милиционеров, перевернув Баженова, спокойно сказал:
– В самое сердце. Точь-в-точь, как в копеечку.
Щербина потрепал мне волосы. Буркнул:
– Поехали.
В машине было темно. Заднее сиденье показалось необычно глубоким. Я провалился в него, словно в яму.
Уже за поворотом улица тянулась неразбуженная, пустая. Возле одной из калиток парень целовал девушку. А так больше не было никого…
24
– Маркиз жив?! – спросил отец, распахнув калитку. Спросил так громко, что эхо прокатилось в предутренней тишине между горами по задернутому туманом ущелью.
– Не подох, – сказал я, продолжая сжимать теплый локоть Нади Шакун.
Мы остановились на тропинке, где редкие листья винограда заплатками прикрывали небо с поблекшими звездами и легкими как пух облаками.
– Одичал? – Отец держал в одной руке авоську с арбузом, в другой чемодан средних размеров в черном чехле.
– Я с ним не беседовал. – В свой ответ я старался вложить как можно больше спокойствия.
– Ну ладно. – Отец сделал несколько шагов, решив обойти нас слева. Тропинка была узкой, и он подмял кусты гортензии: они даже немного затрещали. – А мне сон снился, что Глухой утопил Маркиза.
– До этого дело не дошло.
– Я бы ему голову оторвал, – заверил отец.
Я сказал:
– Это Надя Шакун.
– Большая.
– Выросла, – пояснил я.
– Возьми арбуз. – Отец протянул сетку.
– Нет, нет, спасибо, – смутилась Надя.
– Возьми арбуз, – мрачно повторил отец.
– Возьми. А то хуже будет, – посоветовал я.
Надя улыбнулась растерянно и немного испуганно.
– Подарок для Валентина Сергеевича, – сказал отец. – В молодости он уважал арбузы. Все, бывало, говорил, для печени они полезны.
– Спасибо, – тихо сказала Надя и приняла из рук отца сетку. Я тут же забрал ее у Нади.
Отец спросил:
– Где Онисим?
– Спит.
– Новость я для него привез. Будить надо. Будить.
– Старец крепко спит. Теперь не добудишься.
Отец засмеялся:
– Я кого хочешь разбужу. Даже покойника.
– Желаю совершить чудо, – сказал я и раскрыл перед Надей калитку.
Свет над улицей плыл медленно, почти незаметно. Он был немного розовый, немного желтый, но больше сизый, как голубь. Прямо на глазах дворы обретали глубину и перспективу, очерчивались ветвями и листьями, поигрывали золотистыми стеклами окон. Свободно и мощно накатывалось внизу море. Многозвездье затухало над ним до следующей ночи.
– Когда Щербина рассказал мне об этом, я боялась, что не узнаю тебя. Я ожидала увидеть на твоем лишь в твоих глазах печать происшедшего, следы секунд, когда ты стоял между жизнью и смертью. А ты нисколько не переменился.
– Хорошо, – сказал я. – Отпущу усы и бороду.
Надя пришла ко мне часа в три ночи.
Я вышел от Щербины и не пошел домой, а направился в порт. И с набережной долго смотрел, как четыре толстых шланга подают нефть в беленький финский танкер, как он оседает под тяжестью нефти, теряет легкость, изящество.
Потом я пришел домой.
Ключа над крыльцом не было. Я подумал, что вернулся отец. Впрочем, Надя тоже знала про ключ. Но мне не пришло в голову, что она может быть здесь.
В коридоре скрипнула доска – третья от стены: пи-и-и. Четвертая скрипела иначе. Она даже не скрипела, она рычала. И балка рычала под ней, глухо стукала о сухую глину дальним концом, где ржавая скоба вырвалась из подгнившего дерева. Балка держалась на первом и среднем столбах, провисала, но почему-то не обламывалась.
Щеколды у нас не было. Дверь потянули на себя. Откинули крючок. Теплый запах керосина выпрыгнул из коридора раньше, чем заспанное лицо Нади выплыло из полумрака, выплыло и остановилось, белое, словно гипсовое лицо.
– Явился, – сказала она спокойно и тихо. Знакомым жестом поправила волосы и вместо того, чтобы впустить меня, вышла на крыльцо.
– Что ты тут делаешь? – напряженно спросил я. Вернее, не столько напряженно, сколько растерянно.
– Уснула, ожидая вашу милость.
– Да-а. – Я пошарил по карманам, хотя точно знал, что папирос у меня нет. Спросил: – Курить есть?
– Дыши свежим воздухом.
Я сел на перила. Они были влажными, и сидеть на них было противно. Однако ноги гудели. И ощущение тошноты усиливалось, может, от голода, может, от теплого запаха керосина.
– Ты звонила Щербине?
– Я ходила к нему.
– Ночью полезно спать.
– Если на душе спокойно.
– От спокойствия образуется жир, – вяло сказал я.
– Это не самое страшное. – Она сжала ладонями мои щеки. Спросила почти испуганно: – Антошка, скажи честно, эта история хоть чему-нибудь научила тебя?
– Поживем – увидим.
25
Из сообщения городского радиоузла от 24 ноября 1949 года:
«Сегодня в торжественной обстановке в Приморском сквере был открыт памятник героическим защитникам города – морякам Черноморского флота. Памятник представляет собой скульптурное изображение передней части эсминца, на бортах которого золотыми буквами начертаны фамилии погибших героев.
На открытии памятника присутствовали представители партийной и советской общественности.
…Новая автобусная линия соединяет район Верхне-Кордонной с центром города. Это третий маршрут, вступивший в строй за послевоенные годы.
…Небывалый снегопад и морозы обрушились на город в ночь с 23 на 24 ноября. По сведениям краевой метеорологической станции, столь раннее выпадание снега в нашем районе отмечалось только в 1896 году. Холодная погода с температурой минус два градуса сохранится в городе не меньше суток».
26
Утро всплыло, глухое и белое… Неподвижно, не взмахивая ветвями, стояли деревья, удивленные, придавленные. Хлопья снега цепко держались за обледеневшую кору, провисали на еще не опавших листьях винограда. Воздух, вытканный свежестью, разлился легким морозцем и ни на что не похожим, редким для наших мест запахом чистого снега. Снег был везде, даже на электрических проводах, словно две трещины, рассекающие холодную плиту неба.
Я поднял воротник пальто, натянул на уши кепку и ступил с крыльца. Через несколько шагов остановился. Посмотрел на свои следы: оставить следы на снегу – дело нехитрое.
А в жизни?
Нет.
Я знал, что правительство Союза Советских Социалистических Республик в 1949 году не имеет нужды назначать меня командиром пехотного полка. Командиром корабля. И даже буксира.
И даже через пять лет обо мне, молодом, двадцатидвухлетнем, не останется документов в Центральном военном архиве.
У нашего времени другие задачи. Несопоставимо другие, чем у тех ребят, что попали на войну и шли под огнем в атаку.
«…В 7.00 после артподготовки полк вместе с 4-м танковым корпусом переправился через реку Нейсе по заранее наведенному мосту…»
«Боевая характеристика на командира 463-го стрелкового Висленского полка майора Сорокина Антона Федоровича…»
Нет, нет, нет.
Я – другое поколение…
В доме Домбровского светилось окно. Старый учитель собирался в школу.
Окна светились и в доме Глухого. Тетка Таня сметала возле порога снег. Закутанная крест-накрест платком, в своей неизменной стеганке, она распрямилась и спросила почему-то недовольно:
– Чей ты, Антон, с ранья поднялся?
– На работу, тетя Таня. На работу.
– И куды ж таперича?
– В порт. На буксир.
– Ох, укачает тебя в море, – заскорбела тетка Таня, и глаза ее совсем сузились: не глаза, а две морщинки. – Море-то какое, посмотри. Злющее.
Море действительно было недобрым. Темным, штормовым…
– Меня не укачает. Я сам укачаю кого хочу.
Тетка Таня не возразила. Оглянувшись, она быстрыми шагами приблизилась ко мне, сказала шепотом:
– Слышь, Лидка Мухина замуж вышла.
Я не был знаком с Лидкой Мухиной. Знал, что выше нас, через четыре дома, живет такая долговязая блондинка. Но не был с ней знаком и даже не здоровался.
– Таскалась, таскалась, – вздохнула тетка Таня, – а какой парень в жены взял! Военный, с кортиком ходит. И все потому, что отец ее подполковник.
– Нехорошо о людях судачить, тетя Таня, – сказал я.
– Где ж судачу? Где? – Она загнула палец. – С Мишкой-армяном жила? Жила. Вот тебе раз. С Ростова приехала – Люська рябая из портовой поликлиники ей аборт сделала. Это два. С этим самым аккордеонистом… ну-ну, Сидором… У него ночевала. Три. Где ж судачу? Дожили, что уже и правды сказать нельзя.
Снег на улице не был нетронутым, как в нашем дворе, потому что те, кто уходил на работу рано утром, уже успели протоптать широкую тропу, к которой ручейками стекались жидкие тропки от калиток.
Я подумал: какое счастье, что Щербина строго-настрого запретил вести всякие разговоры о происшедшем возле дома Марианны Иосифовны и тетка Таня ничего не знает. Вот была бы тема для разговора…
Дети шли с портфелями в школу. Через две улицы из дома, наверное, сейчас выходила и Даша Зайцева, Грибок, чтобы сесть за парту в своем десятом классе. Я не видел ее давно. И почему-то чувствовал, что на снегу судьбы у нее своя тропка, а у меня своя и едва ли они сольются в одну общую.
Надо мной пролетел снежок. Но я знал, что его бросали в кого-то другого. За моей спиной кричали мальчишки, пищали девчонки, чистые, как этот снег, но счастливее снега, потому что им было весело.
Когда я вышел к кинотеатру «Родина», в начале сквера, белого и лохматого, увидел фигуру мужчины, сгорбленную, как вопросительный знак. Это был Заикин.
Майя Захаровна вчера поделилась новостью:
– Деточка, погорел товарищ Заикин. Погорел. За что, в точности не знаю. Узнаю – скажу. Заведующим бани назначен. Все-таки есть правда на белом свете. Ржавыми шайками много не заработаешь…
За лето Майя Захаровна похудела. Лицо ее удлинилось, усики над губой стали темнее, заметнее.
– Вы, деточка, на кассацию подавайте. Пусть отец справки соберет, что он инвалид, что ему уход нужен. Сократят срок Шуре. А как же? Попомни мое слово, сократят.
Горы тоже были покрыты снегом. Без солнца, без теней все вокруг казалось плоским, как на равнине. За хлебным магазином буксовала полуторка. Двое рабочих подталкивали ее, упершись руками в задний борт. Надрывался мотор, лысые шины злобно плевались снегом. Машина вздрагивала, но не двигалась.
Я подошел к машине. Приналег на борт, рядом с коренастым рабочим без шапки. Машине не хватало, наверное, самую малость. Я вовсе не считаю себя богатырем, но стоило мне поднатужиться, и уже секунд через пять машина тронулась с места, неторопливо, с черепашьей скоростью поползла вверх по улице Сибирякова.
– Спасибо, браток, – сказал рабочий без шапки, схватился за борт и на ходу перевалился в кузов.
Второй рабочий не сказал ничего: отчаянно двигая локтями, побежал садиться в кабину.
– Давай, давай! – крикнул я и помахал им рукой.
Улица теперь пахла не снегом, а бензином и теплым хлебом. Женщины несли его в авоськах разного цвета. Но хлеб был один и тот же: белый, с румяной коркой.
Через улицу от развалин молокозавода шел парень с чемоданом, очень похожий на Ахмеда. Но это был не Ахмед. Ахмед почему-то запаздывал. Может, передумал, решил остаться у себя в леспромхозе.
Небо впереди зажелтело. Солнце пробивалось к морю длинными иглами, проткнув тучу, словно клубок пряжи. Шумели волны и птицы. Но волн еще не было видно. Не было видно пристани и буксиров, пришвартованных возле нее.