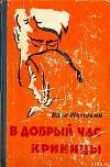Текст книги "Вдруг выпал снег. Год любви"
Автор книги: Юрий Авдеенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
Третьей была женщина с широким, как таз, лицом, чем-то напоминающая тетку Таню, только повыше ростом. Она голосила на весь рынок:
– Ракушки! Черноморские ракушки! Со дна морского!
Поскольку ни старуха, похожая на индейца, ни дядька с культяпкой, ни голосистая женщина по своим физическим данным не могли спускаться на дно морское, я стоял и думал, где же они могли доставать ракушки. Наконец, не придумав ничего лучшего, я решил, что они дружат с рыбаками.
– Молодой! – сказала женщина, напоминающая тетку Таню. – Купи ракушку.
– Денег нет, – ответил я.
– Так уж нет, – не поверила она, всем своим видом давая понять, что ее не проведешь. – Если на водку, то найдется…
– Водка – это лекарство, – назидательно заметил Баженов, появившийся из-за пивного ларька.
Дядька с культяпкой одобрительно засмеялся. Старуха не повела и бровью.
– Извини, Боцман, – взглянув на часы, сказал Баженов, – четыре минуты – это не время.
– Когда спишь, – ответил я.
– Два ноль… – приложил руку к груди Баженов. Тут же деловито осведомился: – Товар не забыл?
– На корабле полный порядок, капитан…
Осенью к трем часам даже в солнечный день жары у нас не бывает. Солнце висит над морем низко, словно поглядывает на часы: не пора ли за горизонт. По улицам обязательно бродит какой-нибудь ветер. Хорошо, если не норд-ост. Норд-ост – это холод, стаи листьев, гоняющихся друг за другом в воздухе, дружный дымок над крышами, свинцовое море и грохот волн…
Мы вышли на широкую улицу, которая продувалась больше, чем рынок, и я пожалел, что не надел пальто, ибо, по всем признакам, к вечеру норд-ост должен был обрести силу.
Тент над прилавком, где продавали минеральную воду и яблоки, надувался, словно парус. Покупателей не было. По пыльному прилавку, шурша, катилась луковичная шелуха. Видимо, до обеда здесь торговали и овощами. Продавщица поправляла косынку, повязанную вокруг головы. Глаза ее ничего не выражали. Скорее всего она терпеливо ждала, когда окончится рабочий день.
Баженов шагал широко, наклонив корпус вперед. Руки спрятал в карманах. С севера плыли тучи. Но город еще утопал в солнечном свете, потому что солнце двигалось над морем, на запад.
Мы шли быстро. Шли на север – туда, под тучу. Я понял: Баженов ведет меня в район Нахаловки. Этот район ничем не отличался от других районов города, разве что лучше сохранился. Бомбы сюда не падали из-за горы. А раз все уцелело – и дома, и вещи, и сады, – значит, люди здесь жили получше, зажиточнее.
У калитки, где за крепким забором находился хороший сад, где висела голубая дощечка, на которой была нарисована морда пса и бросалось в глаза предупреждение: «Осторожно, во дворе злая собака!», – мы остановились. Баженов уверенно просунул руку между штакетинами и открыл задвижку. Сказал:
– Пошли!
– А собака?
– Рекс должен быть на цепи.
И действительно загремела цепь. Между лозами показалась крупная голова овчарки. Овчарка не лаяла, она рычала негромко, с достоинством, чувствуя за собой силу и право.
– Рекс! Рексик! – ласково позвал Баженов.
Мне стало ясно: собака знает его. Она зевнула сладко-сладко и больше не рычала. Только смотрела, как мы идем по зацементированной дорожке к дому, едва видимому из-за деревьев и виноградных лоз.
Дом был невысокий, даже низкий, похоже, много раз достраивавшийся. Основа дома выделялась шиферной крышей, а справа, слева, спереди распластались пристройки, которые прикрывал не шифер, а железо, крашенное охрой. Сами пристройки были выкрашены в зеленый цвет, только рамы – белилами.
Баженов постучал. Дверь открыл мужчина, седоватый, в пенсне и брезентовом фартуке, из кармана которого выглядывал складной желтый метр.
– Это Боцман, – сказал Баженов. – Он принес вещь.
Мужчина цепко посмотрел на меня, потер тыльной стороной ладони кончик острого, как перо, носа и, не сказав ни слова, посторонился.
Мы переступили порог – вначале я, потом Баженов. Хозяин закрыл дверь. Мы стояли в прихожей, которая могла считаться и застекленной террасой, и летней комнатой. У окна был стол, а напротив старая кушетка, как и стол, ничем не покрытая.
– Я слушаю вас, – самым обыкновенным, неприметным голосом сказал хозяин.
– Показывай, Боцман, – посмотрел на меня Витек, почему-то сузив глаза.
Мне вспомнился Онисим и слова, которые старец говорил про Баженова: «Остерегайся! Мухомор он». И я пожалел, что пришел сюда только с Баженовым. Можно было довериться Паше Найдину, и Паша, конечно, согласился бы пойти со мной. Я вынул крестик с цепочкой без особой охоты.
На террасе было темновато. Во-первых, кусты и деревья, во-вторых, туча уже накрыла Нахаловку, и солнце не попадало теперь сюда. Хозяин подошел к окну, долго разглядывал крест на ладони, пробовал цепочку на зуб, пытался царапать бриллиант каким-то маленьким черным камнем. Потом он не спеша и почти неслышно переместился к нам, не возвращая креста, сказал:
– Чтоб мне так жить… Как я и полагал, цепочка позолоченная. Камень, правда, бриллиант на четыре карата. Сам крест золотой, но золото не червонное, процентов сорок примесей. В Ювелирторге это будет стоить две тысячи. Но там вы обязаны будете объяснить, где вы его взяли. Мне объяснения не нужны. Вместо объяснений я сбрасываю пятьсот рублей. Таким образом, моя цена полторы тысячи… Если вы согласны, по рукам!
Мне расхотелось продавать крест. Я сказал:
– Не согласен.
– Зря, – спокойно ответил хозяин. – Вы желаете получить больше?
– Я хочу четыре тысячи, – заявил я, твердо уверенный, что эту сумму мне никто не даст. – В бриллианте шесть каратов, крест из червонного золота. Цепочка тоже золотая, но, возможно, с примесями.
– Откуда у вас такая уверенность? – спросил хозяин.
– Я знаю, – ответил я.
Он подбросил крест на ладони. Вздохнул:
– Хорошо. Поскольку я от природы человек не любопытный, я не буду делать скидку относительно происхождения товара. Получайте свои две тысячи. Это очень хорошая цена, молодой человек.
– Я продам только за четыре, – упрямо повторил я.
Баженов потер виски, зажмурился, повертел головой, всем своим видом давая понять, что я поступаю глупо.
Капли дождя стали биться о крышу, мазаться о стекло. Темнота наметалась ветром. Я забрал крест и спрятал его в карман. Хозяин сказал:
– Молодой человек, чтоб мне так жить, наверное, вам приходилось торговать на рынке.
– Не приходилось.
– Однако законы торговли, купли-продажи вам знакомы, – он улыбнулся, но так, словно одновременно жевал лимон.
– Знакомы.
– Вы полагаете, что покупатель всегда предлагает вдвое заниженную цену? – хозяин не тяжело, но испытующе посмотрел мне в глаза.
– Я продам крест только за четыре тысячи.
Баженов нервно, как-то по-женски напомнил:
– Не забывай, что должен две сотни. Мне деньги к праздникам очень нужны.
– Деньги всем нужны, – ответил я хмуро и сухо.
– И всегда, – добавил хозяин. – Две с половиной тысячи – это очень честная цена.
– У меня есть покупатель, который даст больше, – выбросил я свой козырь.
– Ну, чтоб мне так жить, – сказал хозяин. – В Ростове, в Одессе… Конечно, где есть большие деньги. Интеллигентные люди и немножко верующие… При известной ловкости и настырности можно взять за ваш товар и пять тысяч. Но здесь, в этом нищем городе, где только один старший морской начальник получает уважаемую сумму, а директора четырех заводов имеют в месяц всего лишь по тысяче восемьсот рублей, кто здесь может дать четыре тысячи? И кому здесь нужно золото?
– Моя мать работала в торговле, – опять козырнул я. – И среди ее знакомых имеются люди, у которых есть деньги и которым нужно золото.
– Ну, торговля, – хозяин сел на кушетку. Лицо у него было очень недовольное. И не было прежнего спокойствия, с которым он открыл нам дверь. – Конечно, в торговле могут быть люди при деньгах. Но они тоже не выложат перед вами в страхе и поте накопленные сбережения. Они будут торговаться с вами. Три тысячи – и закончим разговор.
– Четыре, – равнодушно сказал я.
– Это нечестно. Чтоб мне так жить! – Хозяин вскочил с кушетки. Изо рта его летела слюна. – У вас нет никакой квалификации. Вы совершенно не умеете торговаться. Если я несколько повышаю цену, вы должны несколько понижать. Но вы твердите одну и ту же цифру, словно арифметика вам незнакома.
– Четыре тысячи, – сказал я и повернулся к двери.
– Три с половиной и мой магарыч.
Я не ответил. Открыл дверь и вышел в дождь. Где-то в пустыне Сахаре восьмой год не было дождя, а здесь бушевал настоящий ливень. Потоки воды неслись с неба, обрушивались на землю. И земли не было, а была вода – холодная, желтая, подвижная…
Наугад шел я в сторону калитки, забыв и думать о собаке. А собака, наверное, забыла думать обо мне. Жалко свисали виноградные листья, плыли щепки и палки. Вода пенилась, кружилась.
Баженов нагнал меня на улице. Трубил пастуший рожок. Мокрые козы торопились домой и тихо блеяли.
– Он согласен, – сказал Баженов, вытирая ладонью лицо.
– Я передумал, – ответил я, не останавливаясь.
Его пальцы крепко взяли меня за плечи, развернули.
– Это не по-джентльменски, – сказал он. – Так не принято. За подобные шутки сурово наказывают. Раз тебе дают цену, которую ты назвал сам, ты обязан продать. Понимаешь?
– Хорошо, – без всякой охоты согласился я, понимая, что в данном случае Баженов, конечно, прав. – Я продам. Пусти.
Он снял руки с моих плеч, и мы пошли назад.
– Не забудь, – напомнил Витек. – С тебя четыреста комиссионных.
Еще из сада я увидел, что на террасе горит свет. Хозяин находился там не один. Рядом с ним стоял очень худой мужчина в двубортном синем костюме. Волосы у него были совсем короткие: еще недавно его стригли наголо.
– Давай товар, – сказал хозяин.
Я дал.
– Чтоб мне так жить… Намочил только зря.
Худой мужчина, которого, как я узнал позднее, звали почему-то женским именем Сима, бросил на крест быстрый взгляд и почти незаметно подмигнул хозяину. Хозяин ушел из комнаты. А мы остались втроем.
– Ну как? – спросил Витек.
– Подходяще, – ответил Сима. Голос у него оказался звучным, как у радиодиктора.
Хозяин вернулся с пачкой сторублевок. Протянул их мне. Столько денег я не только никогда не держал в руках, но и никогда не видел.
– Здесь четыре тысячи, молодой человек, – сказал хозяин. – Надеюсь, магарыч за ваш счет.
– За мой, – согласился я.
Отсчитал шесть бумажек и передал Баженову. Витек радостно тряхнул ими, достал бумажник и, сложив деньги пополам, спрятал их. Сказал:
– Безусловно, деньги не делают человека счастливым. Но очень способствуют этому…
Я не имел бумажника. Карманы и пиджака и брюк были мокрыми. Я бросил одну бумажку на стол, а остальные спрятал за пазуху.
– На эти деньги купите себе магарыч, – сказал я.
– Чтоб мне так жить, – ответил хозяин. – Считайте, что мы его уже купили.
Он сгреб сто рублей и опять ушел в дом.
– Я пойду, – сказал я.
– Погоди, – остановил меня Баженов. – Дождь скоро прекратится. А пока пропустим по стаканчику.
– Мне не хочется, – сказал я.
– Нужно уважать обычаи, – веско заметил Сима.
Хозяин вернулся с двумя бутылками «Столичной» и пивом. Потом принес хлеб, соленые огурцы и тарелку с нарезанным салом. Сразу налили по стакану. Хозяин поднял свои стакан и попросил слова:
– Я хочу выпить за Антона. Я хочу выпить потому, что мое старое сердце всегда радуется, когда видит крепкий характер, твердую волю, слышит трезвые суждения из уст молодого человека. Я хочу заверить вас, Антон, что мы совершили честную сделку, не обманули друг друга. Разве что я немножко переплатил, но уж больно вы мне понравились. Ваше здоровье!
Дождь лил и лил. Но после водки стало тепло и было наплевать, какая на дворе погода. Хозяин рассказывал, что он хочет ломать этот дом и ставить кирпичный, в два этажа. И непременно красивый, как в Прибалтике.
Потом в руках у Симы появилась гитара. Он весело запел:
Есть у нас в районе Молдаванки
Улица обычная, друзья.
Скверики и дворики
Подметают дворники,
Чтоб блестела улица моя.
Витек постукивал в такт песне костяшками пальцев по столу. Хозяин блаженно улыбался: вспоминал свою одесскую молодость.
Улица, улица, улица родная —
Мясоедовская улица моя…
Дождь не кончался. Мы сидели втроем: я, Баженов, Сима. Хозяин вытер стол и унес посуду в комнаты.
– Перекинемся, – сказал Сима, доставая из кармана своего синего двубортного костюма колоду карт.
– Во что? – спросил Баженов.
– В очко.
– Я только в дурачка умею, – признался я.
– Научим, – сказал Сима. – Считать умеешь? Валет – два очка, король – четыре, дама – три, туз – одиннадцать.
– Что это еще такое? – строго спросил хозяин. – Чтоб мне так жить… В моем доме водку пьют, но в азартные игры не играют.
– Мы по рубчику, – добродушно сказал Сима и пожал плечами: дескать, какой разговор. – Антона поучим. Куда они в дождь пойдут?
Хозяин ничего не ответил. Набросил на себя брезентовый плащ с капюшоном и пошел кормить собаку.
Первым «банк» держал Баженов. Он положил на стол рубль. Спросил Симу о его ставке, выдал ему две карты, потом себе, и в «банке» стало два рубля. Сима пошел на все и «сорвал банк». Потом я выиграл рубль. Проиграл два. А когда в «банке» была десятка, Баженов подбил меня пойти на всю десятку. И я сорвал «банк», сделался «банкиром».
– Оставляй двадцатку, – посоветовал Баженов. Предупредил: – Иду на «банк».
Карта шла мне как по заказу. Баженов проигрывал раз за разом. Сима, который упорно ставил на весь «банк», сделался белым и потным. Мне трижды подряд выпадали десятка и туз…
В восемь часов вечера «банк», который держал я, составлял четыре тысячи рублей…
13
Я очнулся от холода. Лежал на подушке под теплым одеялом, и все же зуб на зуб не попадал. Комната была незнакомая, с книжными полками во всю стену. Я лежал на кровати у окна. Окно мерцало в ногах, занавешенное тюлевой гардиной. Судя по тишине, по чуть заметно светящемуся экрану окна, пробивалось раннее утро, должно быть, прохладное, пахнущее горами и речкой. Наверное, скоро кто-то станет колоть дрова, а потом дымок закурится над крышами, поползет вверх кругами, словно по лестнице.
Книжные полки загораживали дверь, но я услышал, как она скрипнула, увидел, как осторожно вошла в комнату Надя Шакун с распущенными волосами, в халате, отделанном широкими кружевами. Мне не хотелось говорить, и я закрыл глаза. Слышал, Надя стояла у кровати, пробовала пальцами мой лоб. Потом протяжно затрещал матрац, я почувствовал, что Надя села на кровать. Притворяться дальше не имело смысла. Я открыл глаза, однако ошибся в предположении: Надя не сидела. Одной ногой она стояла на кровати: наклонясь к окну, открывала форточку. И холод покинул меня. Наоборот, стало жарко. Я шумно вздохнул. Надя спрыгнула на пол.
– Наконец-то, – облегченно сказала она, увидев, что глаза мои открыты.
– Что со мной случилось? Как я оказался здесь? – голос звучал так слабо, словно я говорил за тремя дверями.
– Ты пришел около двенадцати ночи. Совершенно пьяный и мокрый. Плакал… Это счастье, что отец задержался в Новороссийске и вернется только после праздников. – Надя не сердилась, во всяком случае внешне, не смеялась, просто бесстрастно информировала меня. – Ты был мокрый насквозь. Мне пришлось раздеть тебя. Под майкой я обнаружила почему-то три сторублевки, прилипшие к телу.
Лицо мое вспыхнуло, грозя, наверное, запалить подушку. Я почувствовал, что лежу под одеялом совершенно голый.
– Мне нужно одеться, – сказал я с напряжением.
– Я сейчас…
Надя ушла и, казалось, не возвращалась больше часа. Но, конечно, это только казалось, потому что небо за окном оставалось прежним, а если и посветлело, то самую малость, как может оно посветлеть за три-четыре минуты. Просто мне хотелось видеть ее. Нестерпимо.
Она вернулась с огромной чашкой в руке. В том же халате, однако на этот раз повязанном широким поясом. Очевидно, расческа побывала в ее волосах. Я узнал прежнюю челку, чуть скошенную набок. В чашке мутнела какая-то бурда.
– Это рассол, – сказала Надя. – Выпей все сразу.
Я сел на кровати. Оказался голым по пояс. Надя усмехнулась впервые за это утро. Я выпил рассол жадно. Похоже, что мне стало лучше. Надя вынула из кармана три купюры по сто рублей и подала их мне.
– Я проиграл много денег, – сказал я.
– В карты?
– В «очко».
– Это ничего, – проговорила она. – В карты всегда так: кто-то проигрывает, кто-то выигрывает.
– Я проиграл десять тысяч.
– Больше стоимости «Москвича», – сказала она задумчиво. Потом настороженно спросила: – Откуда ты взял такие деньги?
– Я вначале выиграл много, а потом все проиграл.
– Тогда вообще не стоит расстраиваться. Не радуйся, когда найдешь, не жалей, когда потеряешь.
– Я занимал деньги. И написал расписку.
– Большая сумма?
– Две тысячи. Кажется, две. Нет, точно две. – Меня знобило.
Надя коснулась рукой моей груди. Сказала:
– Ты накройся.
Я накрылся, но руки она не убрала. Перебирала пальцами чуть заметно: то ли нервничала, то ли хотела успокоить меня.
– Занимать деньги не следовало, – проговорила она. – А тем более писать расписку.
– Я думал отыграться.
– Наивный мальчик, – сказала она с сожалением, глядя мне в глаза пристально-пристально. – Вначале тебе дали выиграть, потом все забрали, потом навязали долг. Это игровой прием, старый, как опач.
– Что такое опач? – спросил я.
– Из клоунады. Ложная пощечина.
Окно розовело. С улицы доносился звон пилы, воркование голубей…
14
– Пустое стремление к показному, сценические действия, – Станислав Любомирович, дирижируя вытянутым пальцем, пересказывал Марка Аврелия, – стада, отары, бой на копьях, щенятам брошенная косточка, крошки для кормления рыб, муравьи, надрывающиеся при переноске тяжестей, беготня испуганных мышей, марионетки на веревочках! И вот нужно среди всего этого выстоять, не теряя ровного настроения и не морщась. Притом надо учитывать, что каждый стоит столько, сколько стоит то, о чем он хлопочет.
– Кто такой Марк Аврелий? – спросил я, продемонстрировав широту и разносторонность своих знаний.
– Философ-стоик и между делом римский император.
– Вот бы мне родиться императором, – помечтал я.
– Относительная удача, – Домбровский наклонился, чтобы взять чурку и бросить ее в печь. – Сколько их было казнено, сколько убито или отравлено. Властелин – это не просто профессия, это синтез многих профессий и талантов. И, конечно, это еще и характер. Можно быть хорошим, но бесхарактерным поэтом, композитором, инженером, врачом. Бесхарактерный властелин – это катастрофа…
– Ты к власти и должностям не стремись, – учил меня старец Онисим. – Ты в сторонке бугорочек выбери, чтобы тебя не растоптали. И наблюдай, наблюдай. Жди своей выгоды, своего часа…
– Всю жизнь прождать можно, – не соглашался я.
– Как бог пошлет. – Помнится, Онисим отчаянно зевал, прикрывая рот ладонью. – Сам знаешь, человек я неверующий. Но все, Антон, на земле от бога…
Пламя лизнуло чурку не сразу. Верткий беловатый дымок заюлил внизу, ища, быть может, дорогу кверху, потом расплясался вдоль чурки, обнимая ее. Она зашипела, обиженная, и прозрачные капли, точно слезы, выступили у нее на срезе.
– «Каждый стоит столько, сколько стоит то, о чем он хлопочет», – повторил я.
Домбровский сказал:
– Надеюсь, ты понимаешь значение глагола «хлопочет» в данном контексте. Будь я переводчиком, я бы записал эту фразу так: «Каждый стоит столько, сколько стоит то, к чему он стремится».
15
Я ехал на велосипеде. Это было больше года назад, веселым майским утром, когда город был заметен сиренью и молодой зеленью, огромными сугробами цветов, вздымавшимися в садах. Небо походило на тонкий лед, голубой и прозрачный. И прохлада была бодрящей, точно зимой.
Но я знал, что сегодня Первое мая, что в десять утра начинается демонстрация. А в семь я ехал на велосипеде к портнихе тете Моте, которая всегда нам все шила, шила хорошо, но тянула до самого последнего момента. Я ехал к ней за новой рубахой, в которой собирался пойти на демонстрацию.
Машина шла легко. По смоченному росой асфальту приятно шелестели шины. Про улицы можно было сказать, что они пустынны: прохожие встречались очень редко, с корзинками направлялись в сторону рынка. Еще реже попадались машины.
Я ехал быстро. Радовался утру, солнцу, прохладному воздуху, пахнущему чистым морем. Проезжая по Севастопольской улице, увидел встречную полуторку. Между нами был поворот к морскому вокзалу. Я ехал по основной улице и знал, что, если водителю нужно повернуть к морскому вокзалу, он обязан пропустить меня.
Оказалось, что ему действительно нужно было к вокзалу. Но он не пропустил меня. Хладнокровно повернул влево, и машина устремилась прямо в мою сторону. Проскочить я уже не мог. Я мог затормозить, но в этом случае через секунду оказался бы под радиатором. Я притормозил и круто повернул вправо. От резкого поворота велосипед занесло. Я прокатил метра два и рухнул на мостовую.
Машина затормозила. Колесо ее остановилось в сантиметре от моей головы. Я видел потертую шину, чувствовал горьких запах паленой резины. Значит, среагировал я правильно. Два метра спасли мне жизнь.
Перепуганный шофер, молодой, белобрысый, выскочил из машины. Руки у него тряслись.
– Что же ты делаешь? – спросил я, вставая.
Он ощупал мою голову и плечи и все равно не верил, что они целы.
– Что же ты делаешь? – повторил я, отряхивая грязь с колеса.
– Откуда ты взялся? – он стал оттирать мне локоть.
– Не надо спать за рулем! – зло выкрикнул я.
– Всю ночь еду, – оправдывался он, но бледность уже сошла с его лица, и он откровенно радовался, что все кончилось так хорошо.
– Все равно спать не надо, – мне вдруг стало страшно.
Я посмотрел на номер. «КБ 16-04». Кажется, краснодарская машина.
– Велосипед цел? – спросил шофер. Поднял его.
На руле с левой стороны самую малость был поцарапан никель. Шофер вытер грязь с руля. Сказал:
– Это ничего. Могло быть хуже.
– Спасибо, утешил. – Я повернул педали. Левая стучала, задевая о дужку.
– Минута дела, – засуетился шофер. Достал из-под сиденья разводной ключ, несколько раз аккуратно, через тряпку, ударил им по педали.
Спасибо хоть за это. Педаль больше не стучала.
Мы расстались без вражды. Я только напомнил:
– За рулем не спи. Раз на раз не приходится.
– Уж постараюсь…
Я никому не рассказал про этот случай, однако с тех пор почему-то охладел к велосипеду. Нет, я еще ездил иногда на нем, но без удовольствия, испытывая напряжение и беспокойство.
…Сегодня без сожаления выкатил его во двор. Решил почистить, смазать и продать на толкучке, чтобы вернуть Симе хотя бы часть карточного долга.
Баженов увидел меня во дворе. Подошел, спросил:
– Решил отвертеться?
– Сколько он может стоить? – Я говорил зло и не скрывал этого.
– Рублей восемьсот, если поторговаться. А за шестьсот можно с ходу.
– Сам знаешь, мне надо две тысячи.
– Две тысячи за него не дадут. Две тысячи мотоцикл стоит.
– Мотоцикла у меня нет.
Баженов оглянулся: не подслушивает ли кто.
– Разговор есть.
– Мне твой разговор вот как, – я провел большим пальцем по горлу.
– Ты рассуждаешь точно ребенок, которому не повезло и он злится. В жизни не всегда везет. Твой старец Онисим гонялся за этим везением, как за жар-птицей, а подох под бревнами сукой.
– Еще неизвестно, как ты подохнешь, – вытирая втулку, ответил я.
– Сукой я не подохну! – стукнул себя в грудь Баженов.
– Красивые фразы. Болтать все умеют.
– Как хочешь, – кисло сказал он. – Хотел тебе дать совет… Сима человек жестокий. Он долго ждать не будет. Деньги нужны ему завтра.
– Завтра денег не будет… Я могу продать только велосипед.
– Отец что скажет?
– Велосипед принадлежит лично мне. Это моя вещь, я могу делать с ней все, что хочу… Я скажу, что проел деньги. В конце концов я еще несовершеннолетний. Не имею никаких доходов. Папочка же доверенность на свою пенсию мне не оставляет.
– Чего ты орешь на меня так, словно я виноват в том, что твой папаша жадный! – Баженов взял тряпку и, присев на корточки, стал вытирать переднее колесо.
Я не унимался:
– Все укоряют меня: почему ты бросил школу, почему ты бросил школу? А на какие шиши я бы учился? Сердобольные!
– Ты абсолютно прав, – согласился Витек. – Я готов подписаться под каждым твоим словом. По существу, ты такой же сирота, как и я. Наверное, именно на этой почве у меня к тебе симпатия.
– Трепач ты тоже… Ободрать ближнего – вот и все твои высокие материи.
Витек вздохнул и покачал головой. Сказал без настроения, без веры в успех:
– Я тебе дело предложить хочу. Денежное. Ты не желаешь меня слушать?
– Слушаю, – разрешил я.
– Лучше в дом зайдем. У тетки Тани уши как звукоуловители…
16
Из сообщения городского радиоузла от 8 ноября 1949 года:
«Торжественно и достойно трудящиеся города, как и все советские люди, встретили знаменательный праздник – XXXII годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.
Праздничное шествие трудящихся на городской площади вылилось в яркую демонстрацию преданности идеям марксизма-ленинизма, в демонстрацию любви к нашей великой Родине.
У микрофона участник демонстрации, прославленный ветеран нашего порта Нестор Иванович Семеняка:
«Личный состав буксира «Орион» с чувством глубокой ответственности отнесся к выполнению обязательств, взятых в честь XXXII годовщины Октября. Все трудились так, как в годы войны трудились мы, моряки Черноморского флота, доставляя оружие и боеприпасы в осажденный Севастополь, эвакуируя из города местное население и раненых».
Ни одного потерянного часа, ни одной потерянной минуты! Все силы на восстановление разрушенного войной народного хозяйства!»
17
Вопрос, гвоздем сидевший в моей башке, формулировался шестью словами: почему Баженов предложил это именно мне? Сомневайся серьезно в моем отказе, он не стал бы рисковать без нужды, обнаруживать себя с такой стороны, которая, являясь с точки зрения морали безнравственной, находится к тому же под серьезной опекой Уголовного кодекса. С кодексом Баженов не мог не считаться хотя бы потому, что дорожил здоровым цветом своего лица, бархатным загаром и возможностью перемещаться в пространстве без конвоиров.
По здравом рассуждении и ответ мог быть только один: Баженов видел во мне единомышленника, человека, созревшего для этого предложения.
Допустим, единомышленника. С чего бы?
Про жизнь я говорил с Домбровским, говорил с Онисимом, но только не с Витьком Баженовым. Мы даже про женщин с ним не разговаривали. Ну, может, раза два трепал он что-то из своей мореходной жизни, так, общие фразы. Но, во-первых, я не верил этому; во-вторых, ничего не говорил, а только хихикал.
Каких-то своих особых мыслей по поводу житья-бытья я вообще никогда не высказывал, да и не смог бы высказать, потому что никаких мыслей по этому поводу не имел. Здесь я полностью солидаризировался с теткой Таней, говорившей:
– Пусть лошадь думает, у нее голова большая.
Так что идею, будто мы с Витьком единомышленники, можно было смело исключить.
Выходит, Баженов обратился ко мне, поскольку я созрел для этого предложения.
…Беда, до чего же я не привык размышлять. Придется танцевать от печки.
За два месяца до окончания девятого класса самовольно бросил школу. Согласен, хорошего мало!
Поступил на машиностроительный завод. И вскоре ушел – не понравилась работа.
Начал пить водку… Про женщин Баженов не знает и никто ничего не знает, – значит, это можно не учитывать.
Не задержался и на судоремонтном заводе по причине большого самолюбия.
Связался со старцем Онисимом. Кто такой Онисим? Проходимец? Авантюрист? Жулик? Я не знаю, не могу ответить на вопрос. Онисима уже нет. Он ушел в вечность со своим пониманием всего на свете.
– Компромисс, – говорил Домбровский, – это не более чем короткий привал для путника, совершающего дальнее путешествие. Набрав сил, путник обязан идти дальше, иначе ему придется отказаться от своей цели.
Все-таки цели.
Чем достойнее цель, тем достойнее человек. Большому кораблю – большое плавание.
Это все мне известно. Настолько я разбираюсь в жизни.
Не разберусь никак в другом: почему же Баженов предложил мне это?
Мой карточный долг, конечно, повод.
Надя Шакун точно сказала:
– Они к тебе давно присматривались. – И добавила: – Простоватый ты.
Ну нет, я не согласен. Я тогда Баженова железно «прикупил», поставив условия об альбомах с марками. Он даже посмотрел на меня уважительно и говорить стал без напряжения, по-свойски.
– Риска никакого нет, – хлопал он меня по плечу, и глаза его светились совсем как у кота. – Я бы никогда не стал втягивать тебя в дело, которое вызывало бы хоть малейшее сомнение. Ты мне веришь? К тому же от тебя требуется самая малость: погулять минут пятнадцать напротив дома, через дорогу.
– Это называется «стоять на стреме»?
Баженов поморщился:
– Не надо жаргона. Ты же образованный, интеллигентный парень.
Надя сказала:
– Им важно зацепить тебя. Пойми их положение. У них нет институтов, школ, училищ, техникумов. А молодые кадры требуются. Вот они и ловят их, как могут.
– Ты считаешь, что я на крючке?
– Они так считают.
– Давай поженимся, – сказал я.
– Я же старше, – она гладила меня по голове, как маленького.
– Четыре года – это ерунда.
– Спасибо за утешение. Однако для начала мне нужно развестись с первым мужем, а тебе дождаться восемнадцатилетия.
– Это быстро, через два месяца.
– Два месяца нужно еще прожить, – сказала она умудренно.
18
Капитан Щербина ходил по прокуренному кабинету, большую часть которого занимал металлический шкаф, коричневый, как сургуч. Вертел шеей недовольно, точно ворот кителя был ему удручающе тесен. И лицо и взгляд Щербины казались тяжелыми, а может, были на самом деле такими. Он держал руки за спиной, скрестив пальцы. Похрустывал ими, сжимая до побеления.
Я смотрел на листок, вырванный из ученической тетради, на желтую, немного облезшую ручку, увенчанную пером «уточка».
Тошноватая слабость проступала заметным потом между пальцами и на ладони, на лбу и на шее. Мне тоже хотелось вертеть шеей, как это делал Щербина.
Кашлянув, Щербина наклонился над столом, словно, отвесив поклон, забыл разогнуться. Ноздри у него были широкие, подбородок тоже широкий, плохо выбритый.
– Ты пиши, – сказал он и скосил глаза на телефон, который коротко звякнул, будто поперхнулся. – Пиши. Шапку официальную – начальнику уголовного розыска товарищу Щербине. Потом слово «заявление». А дальше все от себя. Чем проще, тем лучше.
Щербина выпрямился, помедлил. Отступил на шаг от стола. Затем решительно вышел из кабинета, громко закрыв за собой дверь.
Я стал писать. Мне трудно давались слова, может, потому, что я торопился. Хотелось сбросить с себя груз, передать другим. Пусть разбираются, за это им деньги платят.
«…Когда мы пришли в комнату, гражданин Баженов спросил, бывал ли я когда-нибудь в доме учительницы математики Марианны Иосифовны. Я сказал, что да, поскольку Марианна Иосифовна преподавала у нас математику. И я однажды был у нее в доме вместе с одноклассницей Дашей Зайцевой.
Гражданин Баженов сказал, что Марианна Иосифовна приехала из-за границы и у нее много ценных вещей. Я сказал, что точно не знаю, но в комнате у нее красиво и не бедно. Тогда гражданин Баженов попросил, чтобы я начертил план дома, где жила учительница. Я спросил: зачем это? Гражданин Баженов ответил, чтобы я не спрашивал, если хочу отработать карточный долг в две тысячи. Я спросил: значит, это для Симы? Для Симы, ответил гражданин Баженов. Я сказал, что смогу начертить только план террасы и первой комнаты, потому что во вторую комнату я не заходил. Гражданин Баженов пожалел об этом, но велел чертить то, что знаю. Я выполнил его просьбу. Гражданин Баженов спрятал план в карман и сказал, что ему известно о том, что Марианна Иосифовна через неделю уезжает в Кисловодск в сердечный санаторий и что нужно будет наведаться к ней в гости, чтобы освободить от лишних вещей, так как для полного счастья человеку нужен только минимум. Он предложил участвовать в краже, сказав, что за это Сима погасит мне долг. Я сразу решил сообщить об этом органам милиции, но, чтобы не вызвать у гражданина Баженова подозрений, сказал, что не против избавиться от долга, но боюсь. В ответ я получил заверение, что дело верное, бояться нечего.
Я считал целесообразным сделать все так, чтобы гражданин Баженов поверил в мое добровольное участие, потому и поставил условие, чтобы альбом с марками достался мне…»
С этим альбомом я «прикупил» Витька чисто. Все-таки он понимал, что если я пойду на дело, то из-под палки. А тут вдруг у меня свой интерес, своя корысть к имуществу учительницы появилась. Баженов, конечно, не ожидал такой удачи. Парню сети расставляют, мозгуют, что, как, а он сам в руки просится.