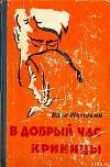Текст книги "Вдруг выпал снег. Год любви"
Автор книги: Юрий Авдеенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц)
Дядя Вася Щербина однажды увидел у меня автоматные патроны – маленькие, тупорылые. Дело было зимой в самом начале сорок третьего года. Моросил дождь с мелким прозрачным снегом, и земля была нечистой, как тарелка с недоеденной кашей. Я махал топором, силясь наколоть щепок от бревна, которое приволок утром с нижней улицы. Разумеется, помогали ребята. Бревно мы случайно нашли под старыми виноградными листьями во дворе кирпичного дома, разбитого еще в июне.
Дядя Вася крикнул от калитки:
– Привет, хозяин!
Весело приподнял руку и пошел ко мне, широко шагая. Длинные полы синей милицейской шинели не мешали ему. Спросил:
– Не получается?
– Злое, – ответил я и показал на сучки: – Во какие!
– Пилой бы надо.
– Тупая пила. И развода совсем нет, – объяснил я.
– Плоскогубцы есть?
– Есть!
– Значит, и развод будет.
Он сел на бревно, зажал пилу между коленями. Отжимал, поджимал зубья тщательно. Так тщательно, я видел потом, настраивают гитару.
Когда стали пилить, Щербина сказал:
– Ты бы перчатки надел.
Я полез в карман за перчатками. И вот тогда патроны выпали из кармана – целых три. Они лежали на первых, еще не успевших промокнуть опилках, такие красивые и блестящие.
– Ой-ей! – качнул головой Щербина. – Зачем они тебе?
– Стрелять буду.
– Пистолет есть? – спросил Щербина вкрадчиво.
– Где-нибудь достану.
– Так уж и достанешь?
Я пожал плечами:
– Вдруг повезет!
– Стрелять умеешь?
– Конечно, нет, – сознался я.
Щербина хитро улыбнулся, потянул на себя пилу:
– Хочешь, научу?
Я думал, что ослышался. Даже ничего не ответил, так растерялся. Но Щербина все понял по моему обалдевшему, радостному лицу. Сказал строго:
– Распилим бревно. Будешь старательно пилить, не лениться, так и быть, используем твои патроны.
Я пилил на совесть: не замечал ни холодного ветра, ни слякоти…
Потом мы пошли в овраг. Он был глубокий, с одной стороны поросший шибляком, с другой совершенно желтый из-за глины. Среди хлама и мусора на дне оврага лежал дырявый эмалированный таз. Мы приспособили таз под мишень. Щербина разрядил пистолет – черный новенький «ТТ». Показал, где предохранитель, где курок, научил, как оттягивать затвор. Я раз десять щелкнул вхолостую. Потом он зарядил кассету, сказал:
– Все это воспринимай как урок военной подготовки. Вырастешь, заберу тебя к себе в уголовный розыск.
Я кивнул, хотя точно знал, что не пойду в уголовный розыск, потому что синие моря и белые пароходы снились мне по пять раз на неделе.
Дождь усилился. В овраге не было ветра. Низкое небо смотрелось отсюда как купол шатра. Жалкие стебли полыни, росшей понизу, чернели, мокрые, потрепанные.
Пистолет вздрогнул в моей руке, точно хотел вырваться. Эмалированный таз маленько сдвинулся вниз, и на одну дырку в нем стало больше.
– Терпимо, – сказал Щербина. Посоветовал: – Спокойно опускай руку. Спусковой крючок нажимай плавно. Не дергай!
Щелкнул выстрел, и порохом запахло вдруг сильно-сильно. Щербина похвалил:
– На этот раз лучше!
Но пистолет забрал, спрятал в кобуру, пояснив при этом:
– Хорошего понемногу.
Еще раз, недели через три, в том же овраге мне представилась возможность пострелять из пистолета Щербины.
– Совсем молодец, – сказал тогда Щербина. – Расти большой. Смех смехом, а может, я и вправду себе помощника готовлю…
Солнце было как шарик. Туманная пелена вздымалась над горизонтом высоко-высоко, и солнце висело там маленькое и желтое, словно шарик на елке.
Тетка Таня, распатлатая и неумытая, в длинной ночной сорочке, стояла под нашими окнами и голосила:
– Шура-а-а! Шура-а-а!
Мать распахнула раму. Виноградная лоза уронила росу – с десяток капель. Они покатились по стеклу узенькими и прямыми дорожками.
Я был у окна рядом с матерью. Думал, тетка Таня и дядя Прокоша опять что-нибудь не поделили и убеждают друг друга в правоте с помощью физической силы.
– Таня, что случилось? – дрожащим голосом спросила испуганная мать.
– По-о-беда! – закричала соседка. И вдруг заплакала, обыкновенно, как плакала всегда, когда бывала несправедливо обижена мужем.
Потом в городе возле моря играл духовой оркестр. А в школах отменили занятия. На улицах было полно людей. Салютовали из ракетниц и даже из охотничьих ружей…
Но почему-то мне больше всего запомнилась тетка Таня, плачущая под нашим окном.
22
Я вновь уснул. Незаметно, без всяких усилий.
Когда открыл глаза, за окнами уже серел рассвет. На стене, возле которой стоял мой топчан, просматривалась размытая тень рамы. Похоже, что стену когда-то белили мелом. Но это было так давно и мел стерся настолько, что теперь даже не пачкал.
Одежда моя висела на крючке, вбитом в стену между полкой для посуды и столом. Крюк поражал воображение массивностью, надежностью. Казалось, он был способен выдержать свиную тушу.
– На таком крюке хорошо вешаться, – пошутил однажды Онисим. Дед Антон посмотрел на него неодобрительно и повертел бледным, словно промерзшим пальцем у виска.
Сев на кровати, я вначале сунул ноги в ботинки, а уж потом отбросил одеяло и встал. В комнате температура была подходящей, потому что печь все еще отдавала тепло. Но испещренный щелями пол студил холодом заметно, настойчиво…
Я быстро оделся. Вышел во двор. Удивился, что входная дверь оказалась незапертой.
Сад был в легком тумане, который белел над самой землей, как мог бы белеть снег, выпади он этой ночью. Но снега не было. На деревьях все еще висели листья, староватые, однако крепкие.
Влажная трава рыжеватыми космами нависла над тропинкой, стыдливо уползающей в дальний угол двора к маленькому строению, которое Онисим называл «толчком», а дед Антон «уборной». Я же, как человек, твердо решивший стать моряком, употреблял мудреное слово «гальюн», от которого дед Антон морщился, опасливо смотрел на икону, а однажды прямо сказал, что употребление матерных слов в стенах дома лишает икону способности бороться с нечистой силой.
Не доходя до конца тропинки метров пять, я несколько раз кашлянул, на мой взгляд, достаточно громко, чтобы поторопить старца. Но он не торопился, потому что находился совсем в другом месте. Меня же ввела в заблуждение незапертая входная дверь…
Когда я вернулся в дом, дед Антон уже стоял возле печи, натягивая на себя стеганку.
– Где Онисим? – спросил я.
– На шуры-муры пошел, – ответил дед Антон.
Я не понял:
– Какие еще шуры-муры?
– Самые обыкновенные, – зевнул дед. Потом пояснил: – По женской части, значит… Встал среди ночи крадучись. Так и пошел…
– Кому он, плешивый, нужен? – усомнился я. Дед Антон хихикнул:
– Опосля войн мужчины всегда в цене великой.
Я плюнул, но не стал спорить. Вынул из печи чайник, наколол сахару. У нас было еще немного колбасы, и мы с дедом позавтракали за милую душу.
В совершенно безмятежном состоянии духа я пошел на дровяной склад.
Как обычно, дежурный на проходной отсутствовал, а ворота были распахнуты настежь. За воротами, ближе к конторке, стояла машина «скорой помощи». Солнце освещало ее облезший желтоватый корпус и нарисованный слева крест, который казался сейчас не красным, а темно-коричневым.
Штабеля дров отбрасывали строгие, почти траурные тени на усыпанную корой землю – горько пахнущую, ухабистую, заметно сползавшую в сторону речки.
Мотор работал: у выхлопной трубы внизу машины трепыхался заметный голубоватый дымок.
Потом из-за штабелей вышел заведующий складом. Выражение его круглого плоского лица отличалось удрученностью и даже испугом. За ним двое санитаров в халатах держали носилки, покрытые белой простыней. На правом углу простыни, чуть свесившемся, темнел, точно дырка, черный больничный штамп.
– Кто это? – напряженно спросил я, предчувствуя недоброе.
– Онисим, – сказал заведующий и остановился.
– Сильно? – я не слышал собственного голоса.
– Совсем, – махнул рукой заведующий. И, скорее жалея самого себя, добавил: – Вот же какое несчастье…
Между тем санитары погрузили носилки в машину.
Онисима задавило на рассвете.
Не знаю, всегда ли он хотел обмануть меня, или мысль об этом пришла ему в самый последний момент. Но, распив со сторожем бутылку, он взял лопату и спустился вниз к реке, где штабеля дров благодаря моим усилиям подтаяли, как мартовский снег. Он стал копать, едва забрезжил рассвет. Что-то сделал не так – штабель рухнул, похоронив под собой старца.
Я рассказал людям про клад, и то место, как говорится, ископали вдоль и поперек. Клада не нашли. Почти под самым штабелем, под тем, что рухнул, обнаружили остатки большого стеклянного баллона. Был ли это тот самый баллон, в котором Онисим спрятал сокровища, или другой, установить не удалось.
Старца похоронили на местном кладбище. Без оркестра. Причем дед Антон по этому случаю любезно пожертвовал новое солдатское белье, которое Онисим дарил ему на гроб.
Ничего не осталось от Онисима. Даже крестик с бриллиантом исчез бесследно…
Часть третья
БУКСИР В ДАЛЕКИЕ МОРЯ
Добро и зло – вечные истины. Тем более предназначение человека – служение добру.
Сосед Домбровский
Человек не знает, для чего назначен. Вот собака знает. А человек – нет.
Старец Онисим
1
Потом дождя не стало. Вдруг зажелтели небо, и рельсы, и деревянная платформа, обнесенная почему-то высоким, в рост человека, забором. Ясно зажелтели доски на переходе, аркой перекинутом через пути к другой платформе, низкой, забетонированной. Бетон отпугивал солнце: эта, другая, платформа и лес, начинавшийся шагах в десяти за ней, были мрачными, а небо над ними ершилось мелкими тучами. Ржавая щебенка в маленьких пятнах тепло пахла мазутом, скрипела, покряхтывала, скрежетала – не разберешь – под моими ботинками.
Стрелочница, а может, обходчица шла впереди, так и не откинув капюшон плаща. Я почти не видел ее лица. А голос показался молодым.
– Сумасшедший, – сказала она. – Разве можно на ходу прыгать с поезда?
Я мог объяснить, что прыгнул с поезда, убегая от контролеров, что пожалел деньги на билет, что у меня их не было. Но я не сказал этого, спросил:
– В какой стороне станция?
– Пошли, – ответила женщина и повернулась ко мне спиной.
Крякнула утка. В ответ пискливо залаяла собака, загремела цепью. Слева от полотна появился кирпичный домик путевого обходчика. Рядом некрашеный сарай, белье на проволоке между сараем и акацией.
У сарая стоял мальчишка лет десяти в подвернутых резиновых сапогах. Рукава большого и старого в крупную клетку пиджака были тоже подвернуты. Мальчишка запрыгал, улыбаясь широко-широко. Радостно завизжал пес, громадный, черный, с лохматыми ушами.
– До станции четыре километра, – обходчица показала рукой вперед.
«Эт не путь, – говорил в таких случаях Онисим. – Эт чистая физкультура». «Физкультура – дура, – считала тетка Таня. – Работать надо. Работать… А руками, ногами махать – все равно что дырки в воде прокалывать».
– Спасибо, – сказал я обходчице и нехотя, без вдохновения поплелся по шпалам.
– Эй! – услышал я вдруг голос обходчицы. – Куда тебе, собственно, ехать?
Я остановился, повернулся и с гордостью произнес название своего любимого города.
– Мой брат едет на машине в Евдокимовку. А оттуда до города рукой подать. На любой попутной.
– Да, – согласился я. – На любой попутной…
– Тогда возвращайся, – сказала обходчица. И я увидел, что глаза у нее синие-синие…
Брат обходчицы оказался приятным малым. Воевал и ни разу не был ранен. После обеда он долго крутил патефон, а на патефоне была пластинка:
…Мы вели машины,
Объезжая мины,
По путям-дорогам фронтовым.
– Водил ее, родимую, водил, – весело и горько говорил он. – От города Вышнего Волочка начал и до города Дрездена довел. По-разному случалось. Вот бы написать книгу! Все как по правде. Вот бы читали…
Часов около шести вечера он сказал мне, чтобы я забирался в кузов. И мы покатили.
Я крикнул синеглазой обходчице:
– Спасибо!
Она оказалась солдаткой-вдовой.
2
С машиной расстался внезапно. Когда до Евдокимовки оставалось километра три и дорога резко сворачивала с Майкопского шоссе, я что было силы застучал по кабине кулаком. Брат обходчицы остановил машину, распахнул дверцу, высунул голову.
– Я сойду! – крикнул я и перемахнул через борт.
– Чегой-то? – не понял брат обходчицы.
– Попутные здесь чаще ходят, – уверенно сказал я, словно много раз ловил машины на этой развилке.
– Валяй! – добродушно кивнул он.
– Будешь в городе, встретимся.
– Точно, – заверил он.
Машина фыркнула, завертела колесами, скрипнула старыми бортами. Мутный свет фар поплыл впереди, покачиваясь, словно сам по себе.
Вскоре сделалось тихо. И немного страшно. Все оставалось прежним: незатейливый свет звезд, дорога в мелкой белой щебенке, отрезанная поворотом, будто ножом, кустарники – торчком по очень крутому склону горы. Но воздух теперь не свистел в ушах, а лежал, как может лежать на столе простая буханка хлеба.
Три огонька в лощине, смутившие меня и соблазнившие, желтели по-прежнему, но были неподвижны, не гнались вслед за машиной. Даже без топографических расчетов – на глазок – угадывалось: добраться до них будет непросто. Так и вышло…
Не меньше часа блуждал я между кустарниками, по камням, выскальзывавшим из-под ног, обходил крутые склоны и скалы. Наконец выбрался к подворью, обозначенному высокими столбами и светлыми рейками, притянутыми словно струны. Свет в окнах уже не горел. Ясно, люди в доме спали. Я почувствовал запах свежего сена и слева за колодцем увидел сарай с широко распахнутой дверью, в которую могла бы въехать телега.
Ведро, стоявшее на мокром срубе, было полно воды. Звезды ночевали в нем на самом дне. Точно разбуженные, зашевелились, когда я припал к краю ведра губами.
– Простите, – извинился я. – Больше не потревожу вас. Спите себе в воде, как рыбки. А я буду спать в сарае, на свежем сене. Понятно? Ничего вам не понятно.
Я оглянулся. Стараясь не шуметь, осторожно ступил в запах сухой травы, распирающей темноту сарая. Я не видел сена, но чувствовал, что его здесь много. Протянул вперед руки и замер. В сарае кто-то дышал…
– Эй! – сказал я. – Добрый вечер.
– А ты кто? – спросили из темноты.
Голос был мужской, молодой, доносился сверху.
– Антон Сорокин, – ответил я.
– Чего пришел? – вопрос был задан тихо, почти шепотом.
– Хочу поспать здесь.
Примерно с минуту мне не отвечали. Только чуть слышно шуршало сено, словно кто-то там, наверху, перебирался к другому месту. Потом сказали:
– Лезь сюда. Протяни руку и справа нащупай лестницу.
Я сделал, как велели, и лестница действительно оказалась в шаге от меня. Значит, оттуда, сверху, я был виден.
Лестница скрипела под моими ботинками так жалобно и громко, что наверху со вздохом заметили:
– Какой же ты тяжелый.
– Я не тяжелый, а неуклюжий, – признался я.
– Протяни руку.
Я протянул. Кто-то взял ее крепко, но дружелюбно и помог мне взобраться на сеновал. В сарае было очень темно. Но, как всегда, даже в самой непроглядной темноте, я уже мог различить силуэт парня, тем более когда распахнутая дверь сарая, мерцающая как экран, оказалась от него справа.
– Как тебя зовут? – спросил я.
– Ахмед[5]5
Это имя оканчивается на «т» и «д» в зависимости от национальности.
[Закрыть].
Я вздрогнул.
– Ты, случаем, не парикмахер?
– Нет, – покачал он головой. – Я никто. – Вдруг предложил: – Хочешь каштанов?
– Давай, – сказал я. – Меня зовут Антон.
Он опрокинулся на спину, потом вновь сел. На коленях у него был портфель с каштанами.
– Ешь, – сказал Ахмед.
Я взял горсть, спросил:
– А ты?
– Нет, Антон… Надоели они мне по самую макушку.
– Почему? – удивился я.
– Только и питаюсь каштанами, – признался он.
– Почему? – вновь спросил я.
– От отца с матерью скрываюсь.
– Сколько же тебе лет?
– Восемнадцать, – грустно признался Ахмед.
– Что же ты натворил?
– Не спрашивай.
Он лег на спину, посоветовал:
– Забирайся поглубже в сено. Ночи холодные.
– А змей здесь нет? – спросил я.
– У нас в сарае ежики живут. Уже двенадцать лет. Там, где еж, туда змея не ползет. Можно спать спокойно.
– Хорошо, – зевнул я.
– Только встаем рано, – предупредил Ахмед. – На рассвете. А то проснутся мои родители, придется целый день в сене преть…
Я лег, раскинув руки. Так лежал обычно на пляже, подставив тело ветру и солнцу. Глаза плотно сжаты. На них газетка. Она пахнет разогретой бумагой, типографской краской. А близко шумят волны. Здорово шумят.
– Слушай, Антон, как же ты очутился в нашем селе? – вдруг спрашивает Ахмед.
– Увидел огоньки и слез с машины.
– Просто слез?
– Просто…
Ахмед цокает, говорит:
– Спокойной ночи, Антон.
– Спокойной ночи, Ахмед.
…Просыпаюсь от холода. Щели в крыше замазаны туманом. Тьма из сарая ушла, и теперь видно, что сена в сарае всего лишь на две трети. Его придерживает решетка из старых досок, оставляя в центре, напротив входной двери, свободное квадратное пространство. Туман не лезет в сарай: стоит на шаг от двери, стесняется.
Какой-то мужчина вполголоса удивленно говорит за стеной:
– Сегодня их там уже двое.
В ответ женский голос, сдержанный, тихий:
– Значит, друг к Ахмеду приехал. У нашего сына везде друзья.
– Радостные сердцу слова, – говорит мужчина, и в его голосе столько убеждения, сколько воды в море. – С друзьями легче идти по жизни.
– Откроемся Ахмеду, – предлагает женщина. – Пригласим в дом сына и его друга.
– Нет, – твердо отвечает мужчина. – Пусть Ахмед сам придет. Пусть будет джигитом, а не ребенком.
Ахмед был весь в сене. Над сеном только голова. Он совсем еще молодой. Как я. Нет, на год старше. Интересно, по какой причине он не живет дома, а прячется в сарае от отца и матери?
Кажется, Ахмед почувствовал, что я смотрю на него и о нем думаю. Открыл глаза и как-то ловко и быстро выбрался из сена.
– Проспали, – сказал он уныло.
– Туман, – я пожал плечами.
Он протер глаза, покашлял в кулак, немного ободрился:
– Туман – наш брат. В тумане проскочим.
– Нужно ли? – спросил я как можно равнодушнее.
– Зачем вопрос? – удивился Ахмед.
– Они знают, что ты здесь.
– Кто «они»? – глаза у Ахмеда округлились.
– Твоя мать, твой отец…
– Шутишь?! – он схватил меня за лацкан шинели.
– Нет, – я неторопливо, но твердо отвел его руку.
– Как же они могли узнать? – Лицо Ахмеда зарумянилось, скорее всего от гнева, но, может быть, и от стыда. – Я же все предусмотрел.
– Значит, не все…
– Похоже, что не все, – согласился Ахмед. – А надо все. Надо видеть вперед.
Я кивнул.
Это верно, что человек должен видеть хотя бы на один день вперед. А еще лучше на месяц или на год. Мой отец с молодых лет был очень дальновидным. Мать рассказывала, что, когда они поженились, отец повел ее в магазин покупать обручальное кольцо. Тогда носить кольца, как и галстуки, считалось несовременным. Но мать была женщиной с отсталыми вкусами, и ей хотелось обязательно иметь кольцо, как имели кольца ее мать и бабушка.
Она долго выбирала кольцо. И, как выяснилось, ей впору был восемнадцатый размер. Но отец потребовал, чтобы она купила девятнадцатый. Продавщица очень удивилась этому требованию и спросила: «Зачем? Ей в самый раз восемнадцатый». В ответ отец заметил: «Что же, у нее всю жизнь такие тонкие пальцы будут?»
Я усмехнулся.
– Ты чему? – насторожился Ахмед.
– Прости… Вспомнил одну историю… Слишком предусмотрительным тоже быть глупо. Не случайно пословица есть: знал бы, где упасть, соломки бы подстелил.
Ахмед улыбнулся. Улыбка у него была хорошая, совсем еще ребячья.
– Ты обо мне плохого не думай, Антон, – попросил он. – Я не трус, понимаешь? Я, хочешь, сейчас с крыши спрыгну… Стыдно мне.
– Причина есть?
– Есть, – кивнул он головой. – Поехал я в город Майкоп в институт поступать. Двойку по математике получил. Экзаменатор подумал, что я списывал. А я не списывал. Ты мне веришь, Антон?
– Верю, Ахмед.
– Я сам все решил. Экзаменатор ошибся… Как я сейчас приду, отцу на глаза покажусь, уважаемому учителю, уважаемым односельчанам? Они же всегда верили, что Ахмед первый математик.
Я положил руку ему на плечо:
– Твой отец сказал: «Пусть Ахмед сам придет. Пусть будет джигитом, а не ребенком».
– Хорошо, – Ахмед на секунду прикусил губу. – Слово отца – закон.
Он подвинулся к краю и ступил на лестницу.
3
В город я попал только через сутки. Местным поездом. Ахмед на телеге подвез меня до станции. Прощаясь, крепко пожал руку. Сказал, что самое позднее через месяц приедет в город поступать на машиностроительный завод.
В доме Ахмеда за завтраком я похвалился, что у меня есть хороший друг, бригадир из литейного цеха. Выяснилось, Ахмед с детских лет мечтал плавить металл. Я дал слово познакомить Ахмеда с Женей Ростковым и заверил, что Женя возьмет Ахмеда в свою бригаду. Я не сомневался в этом, я знал – Ростков настоящий человек. Честно говоря, мне даже тоскливо стало, что я не оправдал его надежд и доверия. Но где-то в душе я понимал: Ростков на меня не в обиде. Моя любовь к морю для Росткова не секрет.
Из тамбура я еще с полминуты видел станционную будку, лампочку на столбе, у столба телегу и Ахмеда, поглаживающего лошадь.
Протискиваясь между горами, поезд скользил к морю. Фонарями мелькали окна редких домов. Дома лепились ближе к дороге, а дорога, убогая и старая, то, будто боясь заблудиться, прижималась к железнодорожному полотну, то вдруг, стыдясь, убегала в горы.
Рождалось небо – розовыми и голубыми пятнами, выступавшими словно по воле ветра.
Людей с поезда сошло много. Колхозники с Кубани везли на рынок продукты – в корзинах, в мешках. Мне вспомнился Онисим с его неистребимой потребностью околачиваться на рынках, приглядываться, прицениваться.
– Рынку кланяться поясно надо, – говорил старец. – Рынок, он людей вынянчил и выкормил…
– Мне бы взвод автоматчиков, – вздыхал отец, понимая несбыточность желания. – Я бы на рынке враз порядок навел. Мух там много и вони всякой…
– Как социальный институт, – пояснял Домбровский, – рынок оказался удивительно долговечным. Пережил эпохи и поколения. Думаю, что какое-то время без него не обойтись. Если внимательно присмотреться к рынку, то можно неожиданно обнаружить немало любопытных личностей. В дни моей молодости идеалисты утверждали, что понятие личности, равно как и понятие свободы, есть явление не научное, а нравственное. Смешно. Еще Спиноза определил свободу как осознанную необходимость.
Рынок в нашем городе обладал одним неоспоримым преимуществом – находился рядом с железнодорожным вокзалом. Колхозники скорее всего по этой причине предпочитали его другим рынкам ближних городов.
На павильоне Майи Захаровны еще висел большущий замок. Она открывала только в девять. Лужа на привокзальной площади не убавилась, только желтые листья на ней покачивались, как яхты в море. Фронтон вокзала украшал лозунг: «Встретим XXXII годовщину Великого Октября новыми успехами по восстановлению разрушенного города, по введению в строй новых промышленных объектов».
Через квартал от вокзала улицы оказались совсем пустыми и тихими. Среди поросших бурьяном развалин водолечебницы ходили дикие коты. У перекрестка возле мотоцикла стоял милиционер в синей шинели. Лицо у него было серое, а в глазах усталость.
Я почувствовал волнение, когда увидел нашу улицу. Ничего в ней особенного не было. Улица как улица, только чуточку выше других. Неасфальтированная, горбатая. В дождь глинистая и скользкая, хоть плачь. Но это была улица, где я жил, где прошло мое детство, по которой сегодня уходила моя юность. Другой такой улицы не было на всем земном шаре. И на других, если они существуют…
Вот и наш двор. Тетка Таня, патлатая, в довоенном пальто, наброшенном на плечи, в галошах, из которых выглядывают посиневшие босые ступни, стоит на крыльце, щурясь, смотрит вниз, вдоль улицы.
– Антон, – спрашивает она без надежды, – ты случаем черта моего глухого нигде не видел?
– Сбежал? – догадываюсь я.
– Открытки в поездах продавать поехал.
– Давно?
– Три дня.
– Тогда надо искать его в Сухуми. Там чача страшно дешевая.
– Господи, прости мою душу грешную, – тетка Таня забыла перекреститься, а может, и не умела это делать. – И за что я такая несчастная?
– За доброту, – нагловато объявил я.
Но тетка Таня ничего не поняла. Наоборот, приняла за чистую монету. Глазки ее сузились, замокрели.
– Это точно, Антон. Простофиля я. А жизнь… – тетка Таня разочарованно махнула рукой. – Сколько ей! Господи, может, ты, Антон, молока хочешь?
– Хочу, – потрясенно ответил я.
Тетка Таня проворно скрылась в доме и меньше чем через минуту вышла с кружкой в руках. Молоко было холодным и вкусным.
– Этот бандюга Витек Баженов, – вполголоса пояснила тетка Таня, показывая пальцем на флигель, – опять у нас живет. Вчера притащил вечером бидон молока. Как пить дать, украл где-то.
Я пил молча. Что я мог ответить? История с чемоданом проворачивалась в моей памяти, как кинолента. Вполне возможно, Баженов нечист на руку, только какая корысть в бидоне молока?
– А этот твой плешивый старец, – не унималась тетка Таня, – с тобой или разошлись?
– Разошлись.
Тетка Таня приоткрыла маленький розовый рот, с сомнением покачала головой:
– Прилипчивый он, вернется.
– Не вернется, – твердо ответил я. – Умер Онисим.
Тетка Таня всплеснула руками, закачала головой, плечами и корпусом, почти как кукла-неваляшка.
– Закопали, значит… У-у… Закопали. Я так и знала. Как увидела его рожу… Так и знала, что он этим кончит.
– Все этим кончим, – громко и весело сказал Витек, выходя из флигеля.
Лицо его показалось мне мятым и обрюзгшим. След от подушки, на которой он спал, пропечатался вдоль щеки, словно шрам. На Баженове была тельняшка, не заправленная в брюки, тапочки.
– Здорово, Миклухо-Маклай! – сказал он, протягивая руку.
– Ты потише, горло луженое, – рассердилась тетка Таня. – Матюками с утра пораньше на всю улицу пуляешь. Я тебе как маклакну, костей не соберешь.
– Зачем шумишь, хозяйка? – примирительно сказал Витек. – Совсем это не мат. А повышая голос, ты просто демонстрируешь низкое интеллектуальное развитие…
– Какое?! – вцепилась в тельняшку тетка Таня. – Это ты с проститутками такими словами разговаривай. Гад, забирай вещи! Отказываю тебе в крыше!
– Тетя Таня, тетя Таня… – попытался вмешаться я.
Но она не слышала меня. Покрасневшая, говорила решительно, брызгая слюной:
– Забирай! Милицию вызову…
– Тетя Таня, – мне удалось оказаться между ними, – Миклухо-Маклай – это путешественник. Даже очень великий.
Она недоверчиво смотрела на меня. Конечно, не верила. Но вполне вероятно, что она уже устала кричать и теперь была не прочь пойти на примирение. Поэтому, сузив глаза так сильно, что сетка морщин сделала лицо похожим на листок из тетради по арифметике, тетка Таня удивленно, однако тихо спросила:
– И так вот похабно его звали?
– Почему же похабно? Обыкновенная фамилия.
– Не верю, – сказала тетка Таня. – Таких фамилий не бывает.
– Я книжку показать могу, есть у Станислава Любомировича.
– Книжку, – недоверчиво усмехнулась тетка Таня и вдруг твердо сказала: – Хорошо, пошли к соседу. Пусть Домбровский покажет эту самую книжку.
Покачиваясь, как гусыня, она двинулась через сад, Витек приставил палец к виску, выразительно покрутил. Хорошо, что это было за спиной соседки.
– Станислав Любомирович еще спит, – подсказал я.
Тетка Таня махнула рукой:
– Выспится на том свете.
Утро уже окрепло. С востока над горой поднимались золотистые выплески. Они падали светлыми полосами на вершины оранжевого леса, и потому синева в лощинах казалась такой же густой, как на море.
Ожина и хмель, оплетавшие забор, были еще в росе, и, когда тетка Таня качнула рейку, протискиваясь сквозь дыру, роса дрогнула и застучали капли.
– Эй, сосед! – крикнула тетка Таня и забарабанила кулаком в дверь с такой энергией, словно Домбровский горел.
Баженов наблюдал за нами из сада, иронически улыбаясь и покачивая головой.
К счастью, долго стучать не пришлось. Домбровский, видимо, не спал. Он открыл дверь – щурясь, в длинном, до пят, халате. Из комнаты тянуло запахами керосина и кислой капусты.
– Доброе утро, Станислав Любомирович, – сказал я.
– Здравствуйте, – ответил он. И спросил: – Что случилось?
– Это правда, что был такой путешественник Маклухо-Миклай? – тетка Таня повела носом, словно принюхиваясь.
– Да, – не удивившись, кивнул Домбровский. – Миклухо-Маклай, Николай Николаевич, великий путешественник и ученый. В тысяча восемьсот семидесятом году на военном судне «Витязь» посетил северо-восточный берег Новой Гвинеи. Прожил там среди местных жителей – папуасов – пятнадцать месяцев. Узнал много интересного. А самое главное – дружелюбием и умным, тактичным поведением завоевал любовь и доверие аборигенов.
– Вы ей книжку покажите, – сказал я.
Тетка Таня, притихшая и даже несколько смущенная, вяло призналась:
– Я соседу и без книжки верю.
– Спасибо, – сказал Домбровский.
– Вам спасибо, – ответила тетка Таня. – Разбудили вас в такую рань… Так что спор у нас вышел по научному вопросу. Извините…
– Пожалуйста, пожалуйста, – заверил Домбровский. – По научным вопросам приходите в любое время.
– Вот спасибо, – обрадовалась тетка Таня и, шлепая галошами, засеменила к забору.
– Вы когда вернулись, Антон? – спросил учитель.
– Сегодня утром.
– Вас не было полтора месяца.
– Сорок дней, Станислав Любомирович.
– Сорок дней – это много. За сорок дней можно полмира посмотреть.
– Если больше ничего не делать.
Домбровский приподнял воротник халата, поежился. Наверное, ему было холодно.
– Кстати, что же собираетесь делать вы, Антон? Как думаете жить?
– После праздников пойду к товарищу Шакуну Валентину Сергеевичу. Он обещал меня на буксир устроить.
– До праздников еще ровно три дня.
– Я пойду после праздников, – повторил я.
– Будет время, заходите чай пить, – сказал учитель и закрыл за собой дверь.
4
Тетка Таня передала письмо от отца. Оно было недельной давности, датировалось концом октября.
«Я не знаю куды писать тибе с холодами ты перебродишь и возвернешься до дому я тоже возвернусь патаму здоровье мое поправляется и уже много дней не трясет есть надежда кагда вернешься иди к Шакуну но не в порт потому как тварь секретарша тибя не пустит к Шакуну а иди прямо домой привет передай живет он на улице Шмидта…»
Я распахнул и окна и двери. Комнаты ожили от света, от осени, сухой и ясной, с высоким-высоким небом. Виноград в саду был уже сорван. Постарался, конечно, дядя Прокоша. Сад был один на два дома, и когда обрывали фрукты, то делили поровну. Так было в прошлые годы. А сейчас делить было не с кем. Глухой оборвал виноград и надавил три, а может, и четыре бочки вина. Я никогда не бывал в его подвале. Подвал Глухого – святая святых.
Только в одном месте возле крыши, где росла высокая старая вишня и виноградные лозы взбирались по ней, как по лестнице, еще висели большие черные кисти с матовым отливом. Глухой, видимо, побоялся лезть к нам на крышу, потому что знал: дранка на крыше ненадежная, трухлявая.
Став на подоконник, я схватился за ветку вишни, подтянулся точно на турнике и через секунду сидел на дереве, окруженный спелым ароматным виноградом.