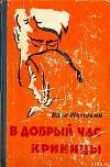Текст книги "Вдруг выпал снег. Год любви"
Автор книги: Юрий Авдеенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 30 страниц)
– Это еще не причина для развода, – сказал я.
Она удивилась:
– То есть как?
– Сами знаете. Изменили бы ему раз в десять больше – и квиты.
Надя засмеялась несколько настороженно. Сказала:
– Так бы мы далеко зашли. А работа в цирке требует, между прочим, хорошей спортивной формы.
К ночи похолодало. Когда мы вышли из «метро», ветер дул не со стороны моря, как прежде, а с каменистого русла реки, шумевшей за железнодорожным вокзалом. Река делала там полупетлю, заворачивала вправо и впадала в море рядом с высоким молом.
В годы войны вдоль реки и на молу стояли зенитки, прикрывая порт, нефтебазу и нефтеперегонный завод. Зенитки стояли и на горах. Но здесь, вдоль реки, их было особенно много, потому что именно за этими объектами охотились немецкие летчики. Не было налета, чтобы немецкий самолет не взорвался и не рухнул в море. И если ветер дул по руслу реки с гор, город не чувствовал запаха гари, пороха, нефти. Ветер с гор всегда бывал прохладным и свежим…
…Мы остановились у подъезда Нади Шакун. Я ощущал усталость, и мне хотелось скорее к себе, на нашу высокую улицу. Но Надя молчала, не прощалась, и я подумал, что, наверное, нужно поцеловать ее, как это принято. Но, с другой стороны, я помнил, что у нее есть муж, с которым она не развелась, и подъезд для нее пройденный этап. И еще – она интеллигентная женщина. Старше меня по возрасту, к тому же дочь уважаемого большого человека. Это Жанне можно было сказать:
– Пойдем к тебе, я хочу спать.
А перед Надей Шакун я стоял немой, как рыба, и тупо смотрел в темноту на точку далекого фонаря, раскачивающегося маятником.
– Я знаю, о чем ты думаешь, – сказала вдруг Надя, перейдя на «ты».
Будь светло, она непременно заметила бы, что я смутился.
– Интересно, – на всякий случай ответил я.
– В нашей судьбе есть по крайней мере три общих вещи, а может, пункта, неважно… И у тебя и у меня что-то было вчера. И у тебя и у меня пустота сегодня. И у тебя и у меня все надежды на завтра.
– Верно говоришь, – согласился я.
Я был уверен, что сейчас она возьмет меня за руку и поведет к себе. Я готов был спорить на это. Однако она только кивнула. Сказала:
– До свиданья, – и, не подав руки, скрылась в подъезде.
Подобно Онисиму, я почесал затылок и еще раз убедился, что совершенно не понимаю женщин.
Первый раз я обнаружил это в восьмом классе и очень удивился открытию, потому что к тому времени был убежден, что знаю и понимаю все на свете.
У нас в восьмом классе училась одна девчонка – Ира Ларионова. Отец ее был стармонач, по-простому – старший морской начальник. Капитан первого ранга. Ира была длинноногая, светловолосая и очень приятная на мордашку. И хотя она училась только в восьмом классе, за ней «стреляли» мальчишки из девятого-десятого класса и даже из других школ. Но Ира выглядела девочкой строгих правил, к тому же была не очень низкого мнения о себе. И усилия большинства мальчишек оказывались напрасными. Вокруг ее имени было больше трепа, чем дела.
Я никогда не «стрелял» за Ирой, потому что в то время увлекался спортом: ходил в секцию бокса и гонял футбольный мяч. Вдобавок Грибок выказывала мне свои симпатии, и все считали, что она моя девчонка.
Так вот, однажды, ранней весной, когда дни стояли уже солнечные, а ночи были еще холодные, поэтому днем всегда имелось достаточно воды и грязи, я после уроков задержался на несколько минут в классе, чтобы перевязать проволокой отскочившую на ботинке подошву. Когда я вышел в коридор, то увидел Иру Ларионову с портфелем, спокойно прохаживающуюся возле окна. Заметив меня, она нервно передернула плечиками, нахмурила брови, потом, словно приняв нелегкое решение, тяжело вздохнула и, поманив пальцем, сказала строго:
– Подойди.
– Чего тебе? – спросил я, соображая прежде всего, какую рвань натянуть себе на ноги, чтобы сбегать сегодня на стадион. Поле теперь наверняка просохло.
– Антон, – сказала Ира Ларионова, – ты единственный порядочный мальчишка в этой школе.
– Чего? – я насторожился. Кажется, втянул голову в плечи, ожидая подвоха.
– Я не могу выйти из школы, – она посмотрела в окно. – Вон стоит Лешка Житный. Он сказал, что побьет меня за то, что я не хочу с ним дружить.
Лешка Житный учился в девятом. И не у нас, а в железнодорожной школе на Сортировке. Хорошо играл в баскет, в футбол. А вообще был драчливый и наглый парень.
Я тоже посмотрел в окно. Лешка стоял у выхода из школы, небрежно опершись на постамент скульптуры юного пионера с горном. Лешка лузгал семечки, сплевывал себе под ноги. Рядом с ним стояли еще трое мальчишек с Сортировки. Одного звали Карапетом. Он был левым крайним в их школе, обладал хорошим ходом и обводкой. Двух других ребят я знал только в лицо: в футбол они не играли.
– Видишь? – Возможно, Ира Ларионова была напугана, возможно, сильно злилась. Во всяком случае, лицо ее покрывала удивительная бледность, а глаза, обычно выразительные и подвижные, казались просто стеклянными.
– Ладно, – сказал я. – Пойдем. Проведу тебя.
Она покачала головой, рассудительно возразила:
– Нет. Сегодня ты проводишь, а завтра он побьет меня в другом месте. Нет… Ты пойди и дай Лешке Житному раза три в ухо. И скажи, чтобы он отстал от Ларионовой. Так и скажи: «Отстань от Ларионовой».
Я стоял как в тумане. Не от страха перед Лешкой Житным. Один на один я был готов драться с любым мальчишкой в городе. Но тех было четверо… И все равно голова моя кружилась не от страха. Я подумал, что Ларионова влюблена в меня. Давно. А я, дурак, не замечал этого. Она же, бедняжка, из-за моей персоны не хочет встречаться с Лешкой и вот стоит, несчастная, держит портфельчик в руке…
– Давай свой портфель, – шепотом сказал я.
Она быстро оглянулась, решив, что нас подслушивают. Но никого рядом не было. Коридор был пуст, как дорога в полночь. Ира пожала плечами, однако портфель протянула без возражения.
Я пояснил:
– Возле школы драться нельзя: шум получится, Горик увидит… Ей же, как всегда, родителей подавай. Договоримся так: выходим вместе, идем мимо, как будто их не замечаем. Если Лешка позовет тебя, не обращай внимания.
– А если позовет тебя? – деловито спросила она.
– Я тоже не буду обращать внимания. Я уверен, они увяжутся за нами. Тогда… и объяснимся по всем вопросам.
– Хорошо, – сказала Ира Ларионова, моргнув, как кукла, сразу двумя глазами.
– Пошли.
Она шла рядом, молчала. Я нес в левой руке два портфеля: свой и ее. Сидевшая возле вешалки дворничиха баба Соня хитро покосилась на портфели, однако ничего не сказала.
Солнца было много, и я зажмурился. Сделал несколько шагов вслепую. Потом открыл глаза и увидел Лешку Житного и его друзей. Они смотрели на меня и на Ларионову, лица у них были озадаченные. Может, они думали, что Ларионова выйдет одна или будет идти с каким-нибудь другим мальчишкой. Ясно, они не ожидали увидеть меня с ее портфелем.
Я сказал ей тихо:
– Говори что-нибудь.
– А чего? – спросила она.
– Господи… Ну, что хочешь. Читай стихотворение.
– Какое?
Наверное, Ира Ларионова волновалась. Но со стороны, с точки зрения Лешки Житного и его друзей, мы скорее всего походили на увлеченных друг другом одноклассников, о чем-то оживленно беседующих.
– «Однажды в студеную зимнюю пору…» – подсказал я и посмотрел на нее, взглядом предлагая продолжать.
– Я не знаю это стихотворение, – призналась Ира, капризно оттопырив губу, и вновь, как кукла, моргнула двумя глазами.
От школьного подъезда до выхода со школьного двора было метров двадцать пять, не больше, и мы прошли эти метры. А когда повернули на улицу и двор оказался слева, я увидел, что Лешка и те трое не торопясь, вразвалочку следуют за нами. Лешка шел на полшага впереди остальных, держа руки в брючных карманах. Ира тоже посмотрела влево, но если я сделал это незаметно, будто бы случайно, то она повернула голову и глядела откровенно презрительно. Через несколько шагов она решительно взяла меня под руку. Признаться, это польстило мне и даже взволновало. И я очень пожалел, что нас не видит Паша Найдин или еще кто-нибудь из наших мальчишек, хотя по здравом рассуждении понимал: брать меня под руку в половине второго дня в пятидесяти метрах от школы ученице восьмого класса, конечно же, не следовало.
Вот тогда-то, секунд через пять, Лешка и окликнул нас:
– Эй, молодожены!
Мы не остановились, потому что остановиться на этот оклик было глупо. Ира крепче прижала к себе мою руку, наклонила голову и шепнула:
– Это он от зависти.
Асфальт дороги, по которой мы шли, уже просох, но вдоль обочины еще шумела вода, извиваясь рябоватым мутным ручейком. Тени деревьев плотно лежали на тротуаре, а там, где не было теней, золотом блестело солнце.
Движение, когда Ира наклонила голову, взбесило Лешку Житного. Возможно, он решил, что она хочет меня поцеловать, возможно, подумал, что она сказала в его адрес что-то оскорбительное. Он побежал. Я услышал топот ног. Мы остановились. Делать вид, будто это нас не касается, было дальше бессмысленно. Я повернулся. Ира быстро взяла у меня портфели. Лешка часто дышал. Я удивился: для парня, играющего в футбол и баскет, он пробежал слишком мало, чтобы дышать вот так.
Лешка сказал:
– Мне надо с ней поговорить.
– Она с тобой не хочет разговаривать, – ответил я.
– Ты за нее не отвечай, – набычился Лешка. – Адвокат выискался.
Дружки подошли, но остановились метрах в трех сзади без всякой враждебности, как бы подчеркивая свою роль наблюдателей и секундантов.
– Не только адвокат, – сказал я многозначительно.
Лешка позеленел. Уши у него оттопырились, стали острыми, как рога. Я засмеялся.
– Потолковать хочешь? – спросил Лешка. – Пойдем.
– Зачем ноги утруждать, – ответил я. – Потолкуем здесь.
Ребята смотрели на Ларионову равнодушно, без интереса. Она им, безусловно, не нравилась, и они скорее всего считали блажью драться из-за нее на виду у школы, почти что в центре города, где полно взрослых и встречаются даже милиционеры.
Лешка снял пиджак и кепку. На мне была вельветовая куртка, свободная в плечах из-за покроя реглан. И я не стал ее снимать, только чуть-чуть расстегнул молнию. Кепку я не носил.
– Леха, ты с ним поаккуратнее, – вяло предупредил один из парней, имени которого я не знал. – Он в секцию ходит.
– Все мы ходим, – сплюнул Леха и взмахнул кулаком. Сильно, прямо перед собой, как если бы в руке у него находился молоток, которым следовало забить гвоздь в центр моего лба.
Я нырком ушел от удара и по выходе нанес ответный прямой правой Лешке в челюсть, чуть влево от центра. Лешка упал, словно споткнулся. Кулак, который он не успел разжать, оказался в ручье у обочины. Вода обмывала его, как камень.
– Законно, – сказал Карапет.
– Законно, – равнодушно подтвердили два других парня, продолжая лузгать семечки.
Карапет пожал мне руку, сказал:
– Слушай, Сорокин, мы хотим организовать сборную школ, чтобы на следующей неделе сыграть с нефтяным техникумом. Пойдешь правым инсайдом?
– Пойду.
– Тогда приходи завтра в три на «Локомотив». Проведем тренировку.
– Хорошо, – сказал я.
Лешка встал, недовольно стирая грязь с голубой рубашки.
– Ну как? – спросил я. – Больно?
Он не хотел смотреть на меня. Уже надевая пиджак, сказал зло:
– Надо сразу говорить, что она твоя девчонка…
– Я говорил тебе, Леха, будь поаккуратнее, он в секцию ходит, – напомнил парень, имени которого я не знал.
Карапет сказал:
– Значит, завтра в три. Пока.
Они пошли вверх по улице. Бледная и красивая Ларионова передала мне портфель.
– Ты молодец, Антон. Я перед тобой в долгу не останусь.
– Я провожу тебя.
– Нет, не надо. Теперь меня никто не тронет.
На другой день вся школа знала, что я дрался из-за Ларионовой и послал Житного в нокаут. Даша Зайцева ходила хмурая, смотрела на меня исподлобья. Паша Найдин пожал руку, сказал:
– Молодец! Своих нельзя давать в обиду. Даже если они девчонки.
Прошла, кажется, неделя, и я увидел, что Зайцева и Ларионова ходят в обнимку по коридору. Я порадовался этому, хотя, в общем, ничего не понял. Вдруг на последнем уроке Ларионова написала мне записку, в которой пригласила к себе в гости без пятнадцати три.
Ровно в назначенное время я пришел к ее дому. Она вышла навстречу, даже спустилась с крыльца и подошла к самой калитке. На Ире было яркое-яркое платье, немного длинноватое, как мне казалось, но, может быть, именно соответствующее моде.
Она сказала:
– Антон, ты порядочный мальчишка. Разреши, я тебя поцелую.
Я обалдел. Не сказал ничего, кивнул. Она спокойно и даже несколько деловито взяла меня за плечи и поцеловала в губы.
Через минуту я спросил:
– Можно я тебя поцелую?
Она ответила:
– Не усугубляй.
Я не понял значения фразы, опустил глаза. Увидел под собой корявую дорожку, с камнями, глиной и короткой потоптанной травой.
– У тебя есть любовь? – спросила Ира.
Я кивнул.
– Назови ее.
– Футбол, – сказал я.
Ира поморщилась:
– Я не об этом… Ты же любишь Дашу Зайцеву.
– А почему я ее должен любить? – удивился я. – Что она мне, мать или сестра?
Ларионова даже порозовела, возмущаясь моей наивностью.
– Она же тебе нравится.
– Ты мне нравишься больше, – простовато признался я.
От этих слов Ларионова порозовела еще ярче и, как обычно, заморгала двумя глазами. Сказала:
– Пойдем в дом. Мы привлекаем внимание соседей.
Я не видел никаких соседей, потому что не смотрел по сторонам. Спросил:
– А мама ругаться не будет?
Она ответила:
– Мама с папой уехали в Геленджик.
Мы поднялись по ступенькам (мне кажется, в нашем городе даже нет домов без ступенек) и вошли в комнату. Она была большой, из нее выходило сразу четыре двери.
Ира спросила:
– Ты обедал?
– Да, – сказал я, потому что обедал на самом деле.
– Хочешь настойки? – предложила Ларионова.
– Какой? – спросил я.
– Вишневой.
– Давай попробуем.
Она хлопнула дверкой какого-то белого шкафа и вынула оттуда запотевшую бутылку объемом с литр.
Я спросил:
– Что это за шкаф?
Она ответила:
– Холодильник.
– А где же лед? – спросил я.
– Здесь вместо льда электричество, – пояснила Ира.
Я, конечно, не поверил. Подумал, что она меня разыгрывает. Но спорить не стал, так как чувствовал внутреннее напряжение и скованность.
Ира предупредила:
– Это не самодельная настойка. Это папе привезли из Болгарии.
– Все равно, – сказал я.
– Ясно, что все равно, – согласилась она. – Просто настойка крепкая, двадцать четыре градуса.
– Я в этом не разбираюсь, – признался я. – Знаю, что водка сорок градусов. А двадцать четыре чуть больше половины.
Мы глотнули настойки. Она оказалась приятной и не приторной. И крепость сразу не чувствовалась. Крепость дала о себе знать минут через пять, когда я вновь сказал Ларионовой:
– Разреши, я тебя поцелую.
Она вздохнула и покачала головой. И не сказала, а скорее промурлыкала с улыбкой:
– Запомни: о таких вещах никогда не спрашивают.
Я поцеловал ее раз тридцать, а может, сорок. Во всяком случае, до двадцати двух я считал, потом сбился. Начал считать вновь: раз, два, три, четыре… И позабыл, какая цифра следующая.
Вдруг, посмотрев на большие часы в деревянной оправе, висевшие на противоположной стене под рогами оленя, Ира вскочила с дивана и выглянула в окно. Многозначительно кашлянув, она быстро вернулась к дивану, взяла меня за локоть и вывела из комнаты на террасу, половина которой была заколочена фанерными щитами. Поставила в угол, сказала:
– Смотри в окно. Ничего не делай и не шуми… Когда я скажу: «Мама подарила мне французскую помаду», – ты выходи и стучи в дверь.
Я стоял на темной половине террасы, которую от светлой отделяла стена из досок и дверь, оставленная Ирой чуть приоткрытой. Рядом со мной была бочка из-под квашеной капусты, поломанный стул, выварка для кипячения белья, кипы запыленных журналов «Огонек». Слышно было, как скрипнула калитка. Кто-то достучался в дверь. Потом засмеялись Ира и Даша Зайцева.
Из террасы в комнату вело окно. Оно было проделано сразу при постройке дома, когда предполагалось, что терраса всегда будет открытой, а из комнаты будет вид на юрод, горы и даже на море. Но потом, видно во время войны, кому-то из часто меняющихся хозяев этого дома (он принадлежал морякам) понадобилась кладовая. Часть террасы перекрыли, а окно осталось, и вид из него был теперь не на город, не на горы и не на море, а в кладовку.
Окно прикрывали красивые шторы с выбитым красно-черным рисунком, но между шторами была щель, и комната, в которую вошли Ира и Даша Зайцева, просматривалась самым лучшим образом. К тому же вторые рамы отсутствовали, и все было слышно. Я же не был виден из комнаты, поскольку стоял в темноте, да еще в метре от окна.
Ира спросила:
– Хочешь попробовать настойки?
– Мне еще уроки делать, – с прискорбной миной ответила Зайцева, как бы подчеркивая печалью в голосе, что не отказывается от предложения.
– А ты не делай, – посоветовала Ира, доставая бутылку из холодильника.
«Это она зря», – грустно подумал я, имея в виду бутылку, а не уроки.
– Можно и не делать, – согласилась Даша, – но по геометрии спросят…
– Скажешь, голова болит. Предупреди заранее на переменке.
– Да… – сказала Зайцева. – Только на следующем уроке обязательно вызовут.
– Отвечать когда-то нужно. – Ира наполнила стаканы до половины.
– Верно, – вздохнула Даша.
Настойка пилась как лимонад, и девчонки выпили ее без всяких усилий. Если у меня слегка кружилась голова, то представляю, как она теперь должна была кружиться у Ларионовой.
– Дашка, – сказала Ира, – из Румынии прислали купальник, ты посмотри на него. – Она вынула из шкафа купальник, подбросила его на руках. Купальник оказался голубым в розовых яблоках.
– Ох! – выдохнула Даша.
– Такая жалость! Купальник мне тесноват вот здесь, – Ира непринужденно бросила руку вниз живота. – Померяй. Если он тебе впору, считай, это мой подарок к твоему дню рождения.
Даша приложила купальник к груди, повернулась к зеркалу. Она стояла слева от моего окна и была видна очень хорошо.
– Нет. Это не мой размер, – сказала она с сожалением. – Смотри: вверху купальник длинноват, внизу будет тесен. Ты думаешь, у меня бедра меньше, чем у тебя…
Даша приподняла платье достаточно высоко, чтобы у Ларионовой не осталось сомнений.
– Так нельзя, – возразила Ларионова. – Все равно нужно померить. Лямки можно укоротить. Потом, учти, ты растешь, за год еще как вымахаешь… Такие купальники один сезон не носят.
– Верно. – Даша стала расстегивать пуговицы на платье.
Но скрипнула калитка. Кто-то, как слон, затопал по террасе и застучал в дверь. Недовольная Ира пошла к двери, а Даша быстро застегнула пуговицы.
Вместе с Ирой в комнату вошла Сонька Артемьева из нашего класса. Толстая, как бочка, но лицо ничего. Вообще она переросток: из-за войны один год пропустила. Теперь ей было уже семнадцать.
– Вот хочу Даше купальник подарить, – сказала Ларионова, – а она отказывается. Мерить не хочет.
– Давай я померяю, – предложила Сонька.
– Он на тебе лопнет, – испугалась Даша.
– Я вообще не сторонница закрытых купальников. По мне лучше плавки и лифчик. Я знаю, армяне из козьей шерсти вяжут. Беленькие – прелесть! Мягонькие!
– Мягонькие, – возразила Даша. – А намокнут, все просвечивается.
– Ну и пусть просвечивается, – засмеялась Сонька.
– Неприлично же, – обиделась Даша.
– Ладно, меряй, – устало сказала Ларионова и посмотрела на окно. Она не видела меня, но знала, что я ее вижу, и, казалось, говорила взглядом: «Вся эта затея для тебя».
– Давай вначале посмотрим, как он сидит на твоей фигуре, – предложила Сонька.
– Хорошо, – вздохнула Ира.
Но тут зазвонил телефон, и Ларионова стала с кем-то разговаривать по телефону. Часы на стене показывали десять минут пятого, а в половине пятого мне следовало быть на секции. Опоздаешь – разберут перчатки, тогда занимайся «общей физкультурой».
Вообще я видел голых девчонок на женском пляже. И не только я, но и многие наши мальчишки видели. Смеялись, хихикали. Честно говоря, сегодня я не прочь был посмотреть, как они будут мерять этот купальник. Но дело затягивалось, а бокс был мне дороже…
Ларионова болтала по телефону целых семь минут. К тому же пришла соседка выяснить, есть ли у нее питьевая сода, потому что соседку мучила изжога. Оказалось, что сода есть, и соседка попросила, чтобы соду развели водой немедленно.
Я не вытерпел, выбрался из своего убежища и пошел прочь…
Вечер наступал прохладный. Земля была сухой и хрустела под ногами, как будто схваченная морозцем. Розовый свет дрожал над морем, над нефтеналивными танкерами, которые стояли на рейде неподвижно, точно дома. Коптила труба хлебозавода, но запахи вокруг него распространялись сладостные. Это были запахи свежевыпеченного хлеба. На станцию втягивался пассажирский поезд из Москвы.
…На другое утро я заболел. У меня началась малярия. Это паршивая болезнь, когда тебе и жарко и холодно, когда тебя трясет. Мать поила меня акрихином. А отец говорил, что нужно взять сто грамм водки, желток яйца, немного соли и черного перца, смешать все это и выпить, потом накрыться тремя теплыми одеялами. Мать возражала: говорила, что я еще мал, чтобы пить такую гадость. Возможно, она была права, но должен признаться, акрихин тоже не конфетка.
Я проболел больше двух недель. И однажды, дня за три до выздоровления, к нам в дом пришел матрос и принес новенький футбольный мяч. Матрос спросил:
– Ты Антон Сорокин?
– Я.
– Передаю тебе мяч по указанию капитана первого ранга Ларионова.
Паша Найдин, пришедший проведать меня вместе с ребятами из нашего Класса, сообщил неожиданную новость: отца Ларионовой перевели служить на Дальний Восток и сегодня утром Ира со своими родителями уехала московским поездом.
Больше я ничего не слышал об Ире.
9
– Древний философ Антисфен на вопрос, какая наука самая необходимая, ответил: «Наука не учиться чему не нужно». – Домбровский не смотрел на меня. Он стоял у крыльца, опираясь рукой о перила, и смотрел в сад, усыпанный желтыми листьями. Он никогда не убирал листья, поэтому в саду его не было тропинок. – Еще древние говорили: добродетель проявляется в поступках и не нуждается ни в обилии слов, ни в обилии знаний… У вас, Антон, пока все получается наоборот. Вы учитесь тому, чему не следует, полагая, что увеличиваете этим сумму собственных знаний. И много говорите в связи с этим, точно чувствуете собственную несостоятельность.
Перед домом тетки Тани кудахтала курица. Тетка Таня шарила в сарае и громко причитала:
– Зараза! Ах, зараза! Опять снеслась где-то в чужом дворе. Этак на тебя, паскуда, не наработаешься! Здесь в городе и людей столько нет, сколько ты кукурузы сжираешь.
– Станислав Любомирович, – вежливо и покорно сказал я, – вы, конечно, все знаете и читали столько, сколько мне никогда не перечитать. Но даже из того немногого, что я читал, можно привести примеры, когда люди, ставшие впоследствии очень полезными для общества, имели в юности, молодости очень пеструю, как вы бы сказали, не совсем благополучную биографию. Возьмем хотя бы великого пролетарского писателя Максима Горького…
– Биографии гениев нельзя приводить в пример. Гений – это звезда. Люди могут сколько угодно смотреть на звезды и даже ориентироваться по ним, но сами от этого звездами не станут.
– А жаль, – сказал я. И тут же спросил без всякого перехода: – В юности вам не казалось, что вы сможете стать гением?
Он посмотрел на меня долгим печальным взглядом. И мне даже стало неловко, что я задал такой вопрос. Но нет, Домбровский не обиделся. Спокойно и достаточно твердо он произнес:
– В юности еще много нерастраченности. Именно нерастраченность дает право думать о великом предназначении.
– Сосед Домбровский, – подошла к забору тетка Таня; она была в старой стеганке без пуговиц, повязана выцветшей, когда-то красной косынкой, – моя несушка случаем не в вашем саду гнездится?
– Не замечал! – нервно и поэтому немного пискливо ответил учитель, дернув невыбритым подбородком.
– Чего же замечать? – демонстративно вздохнула тетка Таня. – Яйцо, оно не кошка и не поросенок. Оно маленькое. Его взял и сварил.
– Не замечал! – выкрикнул Домбровский, и его худая шея побагровела.
– А я замечала, что у вас на помойке ежедневно шелуха валяется бежевенького цвета.
– Я на рынке покупаю яйца! – Домбровский мелко дрожал.
– Он покупает на рынке, – подтвердил я.
– Молчи, Антон, – разочарованно махнула рукой тетка Таня. – Все покупают.
Она повернулась и пошла от забора, сказав будто бы для себя, но достаточно громко:
– Господи, до чего ж обмельчал народ, – и крикнула на кудахтающую курицу: – Молчи, зараза!
– Холодно чего-то, Антон, – виновато признался Домбровский.
– Может, лучше пройти в дом? – сказал я.
– Совершенно верно, – согласился Домбровский. – Будем пить чай.
…Я сидел на диване, а Станислав Любомирович, как всегда, на низенькой скамейке. Сопел на плите чайник, и вообще от плиты шло доброе, хорошее тепло.
Мне хотелось продолжать разговор, бесцеремонно прерванный теткой Таней. Я не знал, с чего начать, потому и заговорил, на мой взгляд, о главном:
– Я понимаю, что мало сделал хорошего за минувшие восемь месяцев, но я не понимаю, что я сделал плохого.
– Прежде всего не следовало бросать школу. А уж если бросили ее, нужно было крепко держаться за работу. За завод. Не в обиду будь сказано, в настоящий момент вам, Антон, целесообразнее и практичнее брать пример с бригадира Росткова, а не с Максима Горького.
– Может, я тоже стану писателем.
– Для этого необходимо прежде всего, чтобы вы сами себе не помешали.
– Я не считаю себя пропащим, Станислав Любомирович. Я же не виноват, что у нас в семье случилось несчастье…
– Великое несчастье – неумение переносить несчастье, – строго сказал Домбровский. И, отхлебнув из кружки, мягко добавил: – Это тоже говорили греки.
10
Из окна я вижу горы. Три больших, очень похожих друг на друга горы. Их так и называют – Три брата. А может, они сестры? Все-таки слово «гора» женского рода. Когда я смотрю вдаль, где гуляет ветер и пылью запорошена синь, горы кажутся мне старыми усталыми женщинами, рядом с которыми прошла судьба с рождениями и смертями, печалями и радостями, прошла с завязанными глазами, возможно, за грехи их далеких предков.
Ясной же весною, в чистых объятиях нежной зелени, опьяненные синей музыкой высокого-высокого неба, горы напоминают мне молодых красавиц. И тогда я завидую их бессмертию, завидую их участи вечно жить на берегу моря.
Море. Море…
11
– На борту полный порядок, капитан, – сказал Баженов, распахнув дверь ко мне в комнату. Он был в сером свитере, из-под которого выглядывал ворот черной рубашки, брюки на нем тоже были серые, расклешенные, шириной сантиметров сорок.
– Какой я капитан? – мне оставалось только вздохнуть.
– Тогда боцман. Не возражаешь, я буду называть тебя боцманом?
– Онисим говорил: «Называй хоть чугунком, только в печь не ставь».
– Самолюбия не было у твоего Онисима.
– Зато у тебя на двоих хватает. А это дело опасное.
– Верно, Боцман. Огонь тоже опасен. От него бывают пожары. Но это совсем не значит, что надо жить без огня. Самолюбие для меня как овес для лошади, бензин для автомобиля, попутный ветер для паруса…
– Попутный ветер – это хорошо, – сказал я.
Баженов легко и непринужденно сверкал своим золотым зубом и, судя по всему, находился в прекрасном настроении. Он почему-то сел на стол, хотя стул и диван были свободными. Покачивая ногами, заметил:
– Между прочим, и для тебя, Боцман, самолюбие – ветер не встречный.
Я задумался. И правда, насколько же я самолюбив? Если сильно – хорошо это или плохо? Все тут было ясно как дважды два. Ответ элементарен. Но я чуточку испугался, поняв, что лишен способности мысленно рассуждать о самом себе, анализировать свои поступки.
– У тебя в характере есть одна добрая черта: ты никогда зря не споришь, – сказал Баженов. – Никогда не считаешь белое черным, черное – белым. Помню, однажды на Канарских островах заспорили мы…
– Я уже это слышал, – прервал я, хотя на самом деле про Канарские острова Витек мне еще никогда не рассказывал.
– Повторяюсь, – самому себе удивился он. – Надо бросать курить. – Без всякого перехода продолжал: – Вчера Жанну видел. На седьмом небе от счастья, профура. И что любопытно, сама еще из обезьяны в человека не превратилась, только с дерева на землю сошла, а уже гонор. На дистанции держится. Руки, падло, не подает…
– У нее хороший голос, – сказал я. – С таким голосом нетрудно стать настоящей певицей.
Баженов решительно завертел головой:
– На мужичков она слабая. Пьет много. От водки голос лучше не делается. От водки, Боцман, голос садится.
– Сам ее спаивал, – напомнил я.
– Ладно, – Баженов слез со стола. – Заскочил я на одну минуту. Предупредить, что покупатель ждет нас к трем часам. Ты не передумал?
– С каких доходов?
– Тоже верно… Значит, так. О цене он сейчас молчит. Говорит, зачем пустые разговоры, надо на товар посмотреть. Может, говорит, бриллиант вообще поддельный.
– Вот ему, – я свернул кукиш.
– Не горячись, – попросил Баженов. – Я буду рядом. Сам цену не называй. Пусть назовет он. Если что сомнительное, прямо говори: мне надо посоветоваться с другом. Мы выйдем, помозгуем. Про комиссионные не забыл?
– Я курю мало.
– Один ноль в твою пользу. Я тороплюсь. Дела есть… Без пятнадцати три встречаемся у входа на рынок.
– Только не опаздывай, – предупредил я. – Ждать не буду.
– Я не опоздаю, господин миллионер, – заверил Баженов.
12
Ракушки продавали возле входа на рынок, с правой стороны. На тряпках, постеленных прямо на земле, были расставлены ракушки разной величины: от самых маленьких, чуть больше наперстка, до внушительных – размером в два кулака. Мне никогда не приходилось наблюдать, чтобы кто-нибудь когда-нибудь покупал эти ракушки. Но, видимо, их все-таки покупали. Потому что продажей ракушек занимались одни и те же люди. Они продавали свой товар еще до войны, во время войны, за исключением, пожалуй, осени 1942 года, когда рынок практически не функционировал, они продавали их и теперь, после войны.
Первой у входа всегда сидела старуха с бронзовым лицом и горбатым острым носом, похожим на носы индейцев в книжках Фенимора Купера, которые в течение нескольких месяцев давал мне читать учитель Домбровский. И зимой, и летом, и весной, и осенью старуха была закутана в темный платок, из-под длинной юбки выглядывали ноги в блекло-синих спортивных шароварах (их называли тогда одним коротким словом – трикотаж) и зашнурованных солдатских ботинках.
Старуха никогда не зазывала покупателей ни голосом, ни взглядом. Сидела она на опрокинутом ящике и смотрела прямо перед собой, в одну точку, словно была слепая.
Рядом со старухой торговал дядька с деревянной ногой. Эту деревянную ногу мы, мальчишки, называли культяпкой, хотя это было неправильно. Деревянная нога скорее всего называлась протезом. Но слово «протез» вошло в наш обиход во время войны. А дядька продавал ракушки и до войны, и все почему-то считали, что он потерял ногу по пьянке, хотя на рынке пьяным его никто никогда не видел. В отличие от старухи, он всегда одевался по сезону и не сидел на ящике, а стоял, прислонившись спиной к стене, выкрашенной известкой. По идее, известка должна была пачкаться, но поскольку частые дожди ее быстро смывали, то дядька с культяпкой мог прислониться к стене, не опасаясь выпачкаться.