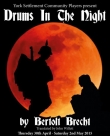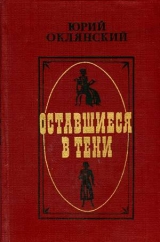
Текст книги "Оставшиеся в тени"
Автор книги: Юрий Оклянский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 43 страниц)
Весьма метко определяет автор своеобразие любимого писателя: «…Это реалист с примесью романтизма, но романтизма юношеского, то есть такого, где действительность не искажена… – И тут семнадцатилетний самарский сочинитель прямо говорит, чем ему милы тургеневские женские образы. – Тургенев выставляет природу действительную, истинную и прекрасную… Он не описывает падших женщин, не останавливается на них, а выставляет девушку во всей красоте, дав ей лавровый венок за самоотвержение, за великий подвиг, за смягчение мужчин и наталкивание их на благородные дела и мысли… Как у Лермонтова в «Герое нашего времени» проводится один тип – Печорина, так и в романах Тургенева… тип девушки чистой, гордой, с сильной волей, с возвышенными стремлениями: возьмем Елену, Лизу, Машу, Ольгу, они одна прекраснее другой, и, несмотря на общее сходство, – в них столько разнообразия, столько жизни, что никогда не пресыщаешься одним типом, но снова и снова живешь с ним одной жизнью» (ИМЛИ, инв. № 3/3).
Не пройдет и десяти лет, как тургеневские традиции в изображении характера русской женщины продолжит сам А. Толстой.
Думаю, что здесь нет необходимости в повторении общих мест – обращение к тем или иным традициям зависит, конечно же, не только от заложенных с детства нравственных или эстетических симпатий, от воспитанных литературных привязанностей. В конце концов, у каждого из нас в юные годы бывало много самых разных учителей и наставников, но то, к чьему опыту мы обращаемся, делая шаги на самостоятельном поприще, зависит от окружающей обстановки, от задач, которые выдвигает жизнь. «Кончив учебу, будем учиться», – так заметил еще один мой товарищ после окончания университета. У кого учиться? Применительно к литературе – это зависит прежде всего от позиций писателя, от его идейных и эстетических устремлений. И если я несколько акцентирую внимание на истоках обращения Толстого к тургеневским традициям, то делаю это для того, чтобы яснее обрисовать те устои духовного мира, какие он имел к началу самостоятельного пути.
Особый интерес дореволюционного Толстого к Тургеневу был вызван и теми идеалами облагораживающей любви, к которым пришел тогда писатель, и темой вымирания «дворянских гнезд», захватившей его; этот интерес был результатом всего тогдашнего идейного развития Толстого.
Вглядывается он в то же время и в изображение дворянства у других классиков – от Пушкина, Гоголя и Гончарова до Чехова.
Но у молодого писателя не всегда еще хватало сил и мастерства, чтобы уйти от подражания литературным предшественникам. Так возникали у А. Толстого внешние параллели с произведениями классиков. Удаляется в монастырь Сонечка Репьева в финале первой редакции романа «Две жизни* («Чудаки»), напоминая судьбу Лизы из тургеневского «Дворянского гнезда» (в последующих изданиях романа А. Толстой переделал концовку). В горестном раздумье бродит по комнатам брошенного господского дома Катя Волкова (роман «Хромой барин»), «спрашивая, где кабинет князя, где спальня, где больше всего любил он сидеть», – и снова улавливаешь вариацию знакомого настроения: бродила по дому Онегина и отвергнутая пушкинская Татьяна. Проглядывает литературный первоисточник – сюжетная канва «Мертвых душ» Гоголя – и в странствиях предприимчивого героя «Приключений Растегина» по скудеющим помещичьим усадьбам…
Однако, несмотря на некоторую дань великим книжным образцам, в решающем и главном молодой Толстой не был ни копиистом, ни подражателем. Новым словом в литературе стали и женщины толстовского Заволжья, унаследовавшие многие духовные качества лучших героинь русских писателей, но ближе всего связанные с тургеневской традицией.
И у Веры Ходанской, и у Сонечки Репьевой, и у Кати Волковой общими чертами являются цельность, нравственная чистота и поэтичность натуры, способность к большой самоотверженной любви. Это роднит их с «тургеневскими девушками». Но есть и существенная разница. Тургеневские героини – натуры деятельные, активные. Они «всегда сторонятся пошлости, внутренней ничтожности и слабости в людях, стремятся к сильному, смелому, богатому духом и характером человеку». Для них сама любовь «почти всегда связана со стремлением к деятельности и к высоким идеалам» (С. Петров. И. С. Тургенев: Творческий путь. М., 1961, с. 557).
Совсем не то уже – толстовские положительные героини заволжского цикла. При всех своих высоких нравственных качествах это натуры пассивные, созерцательные, склонные подчиняться воле обстоятельств. Всю в белом, одиноко и задумчиво сидящей на скамеечке у пруда, – в такой позе, пожалуй, легче всего представить себе девушку Толстого. И это уже не просто излюбленная поза, а душевное прибежище, сладкий сон наяву, в котором Вера Ходанская или Сонечка Репьева охотно остались бы навсегда, если бы и в последнее это прибежище не вторгалась бесцеременно грубая действительность.
Тургеневские девушки отвергали благородных и блестящих Рудиных, чувствуя в них душевную вялость. Героини дворянского Заволжья начала XX века безропотно становятся супругами полуюродивых вроде Никиты Репьева («Мишука Налымов»), или того хуже – добычей оскотинившихся дельцов вроде Смолькова («Чудаки»), или салонных развратников и изощренных садистов вроде выродившегося потомка «лишних людей» князя Краснопольского («Хромой барин»). Это – белые лебеди, жертвы дикости окружающей их жизни.
Выше я говорил о матери Толстого, о сестре Лиле, о других «смутьянках» или «полусмутьянках» в затхлой среде помещичьего быта. Активностью характеров персонажи заволжского цикла уступают некоторым из этих женщин столь же заметно, как и тургеневским героиням. Случайно ли? Думаю, что не случайно.
Писатель-реалист А. Толстой обратился к теме разложения дворянства, не сумевшего приспособиться к новым буржуазным условиям. Общее оскудение этой части помещичьего класса не могло не отразиться и на тех, кто был высшим достижением его морали и быта, – на лучших из лучших его женщинах, в ком (в девичьих светелках, в искусственном уединении с книгой на природе) сохранялись качества некогда передовой культуры прошлого. Поэтому, даже любуясь своими героинями, Толстой, однако, нигде не наделяет их такими чертами, которые не позволяли бы им больше оставаться в пределах родной среды. Нравственный пример матери или других женщин, пошедших дальше, поднявшихся до морального разрыва со своей средой, учитывался, по-видимому, Толстым лишь в той мере, в какой это соответствовало его художнической задаче.
Вот почему совершенно не прав критик М. Чарный. Толстовские героини, при всем их очаровании, вовсе не кажутся «рожденными не от своих отцов* или занесенными «откуда-то с иной планеты». Во всяком случае, за таковых их можно принять с основанием ничуть не большим, чем тургеневских девушек по сравнению с их папа, мама и «сродственниками». В конце концов не так уж велика разница между крепостником Стаховым, отцом Елены из романа «Накануне», и помещиком Волковым, родителем Катеньки («Хромой барин»). А вот различие между главными героинями этих романов, одинаково выросшими на книгах, в дворянских теремах, но в разное время, различие между Еленой Стаховой, бросившей все и пошедшей за болгарским революционером Инсаровым, и Катей Волковой, покорно ожидающей возвращения блудного мужа, своего «хромого барина», – эта разница и ярче, и показательней.
Вольнолюбивые тургеневские героини были передовыми женщинами своего времени. Можно привести немало свидетельств русских революционеров (В. Фигнер, Кропоткина и других) о том, какое значение для них в пору молодости имели эти образы Тургенева. «Наталья и Елена вдохновляли на подвиг служения народу», – как говорила Вера Фигнер. Конечно, героини толстовского Заволжья уже не могли играть такой роли в период после революции 1905 года.
Сам Толстой говорил впоследствии, что он писал произведения об «эпигонах дворянского быта». Эпигонами в этом смысле были не только разновидности дворянских последышей, но и еще живший кое-где остатками в их среде типаж положительной героини.
Как видим, изменения в жизни дворянства «за те пятьдесят-шестьдесят лет, которые отделяют героев Тургенева от дворянских героев Алексея Толстого», запечатлелись в образах его героинь по-своему не менее точно, чем в образах мужчин.
Однако ограниченность положительных персонажей раннего Толстого не должна вызывать упрощенческой недооценки их значения в литературе и в творческом пути писателя.
После поражения первой русской революции книжный рынок захлестывал мутный поток мещанского любовного примитива и эротики. Созданная Толстым в то время галерея женских образов, написанных в высоких традициях русской классики, помогала в борьбе литературных пристрастий и взглядов демократическому лагерю. Душевная простота и свежесть, благородство и внутренняя грациозность, присущие толстовским женщинам, делают их близкими и современному читателю.
Поиски Толстого на путях к тому совершенству характера русской женщины, которое выразительно воплотилось в Даше Телегиной, какой мы знаем ее по трилогии «Хождение по мукам», были долгими и сложными. Были на этих путях и «эскизы» и «угаданные» в других женщинах черты будущей любимой героини писателя. Немаловажна роль в этих поисках и толстовских женщин дворянского Заволжья.
И много лет перед Толстым в качестве образца женщины стоял нравственный облик его матери.
В той же автобиографии 1913 года, где Толстой говорил о единственной тогдашней вере в облагораживающую силу любви, он писал о матери, давно уже умершей: «Я не знаю до сих пор женщины более возвышенной, чистой и прекрасной».
Глава третья, самая короткая, которая могла бы быть первой
Откуда берутся архивы?
Было это теперь уже в дальние времена, в конце 50-х годов…
Маленькая лампочка, свешиваясь с потолка, еле освещает скрипучую деревянную лестницу, ведущую на второй этаж. Вот и квартира № 4. Дверь, обитая дерматином, а рядом ржавая дощечка с полустершимися словами: «Доктор Гуревич Я. С.».
Кто-то долго возится с запорами.
Сквозь лестничное окно видны деревянные домики в сумраке вечерней улочки. Тут, в самом центре большого волжского города, почти в неприкосновенности уцелел «островок» прошлого – закуток старой Самары. И за этими дверьми – одна из тайн недавней куйбышевской находки.
Открыл сам хозяин, Яков Самуилович Гуревич. В коридоре тоже полутемно, и мы получаем возможность рассмотреть друг друга, только очутившись, наконец, в уютных, обставленных по-старинному комнатах. Гуревичу уж восемьдесят лет. Это сгорбленный, но почти без седины человек с мохнатыми черными бровями и тоже черными живыми глазами. Для своего возраста он энергичен и подвижен.
Яков Самуилович выслушивает мою просьбу со стариковской сдержанностью. Но, начав рассказывать, понемногу оживляется…
– Весной… да, весной тысяча девятьсот пятнадцатого года я, тогда военный врач, был переведен в Самарский гарнизон. Встали мы с семьей на квартиру в доме Алексея Аполлоновича Бострома. Это возле польского костела. Как вы знаете, его супруги Александры Леонтьевны тогда уже не было в живых. Нашему домовладельцу было лет шестьдесят. Жил он вдвоем с приемной дочерью Шурой, кажется, гимназисткой, которая и помогала ему вести нехитрое хозяйство… Что вам сказать про Алексея Аполлоновича? Хотя мы и квартировали у него всего восемь месяцев, но подружились. Общительного был нрава человек, непоседа. Через край, бывало, переполнен всякими политическими новостями, городскими и служебными происшествиями. Но, понимаете ли, за внешней шумливостью был в нем какой-то душевный надлом. Вдруг ни с того ни с сего замкнется в себе, грустит. Тогда из его комнаты часами доносятся мелодии Грига. Мы уже знали – Алексей Аполлонович, играя на пианино, ищет забвения… Да!.. Интересный был мужчина… Вот, не угодно ли? – Яков Самуилович, порывшись в ящике комода, достает кусок картона, писанный маслом.
На портрете – знакомое лицо. Редеющий седоватый зачес назад, высокий лоб, на сухощавых щеках – легкий стариковский румянец, синие насмешливые глаза…
Под взглядом смотревшего с портрета Бострома я жду, когда Яков Самуилович перейдет к главному. И расскажет неизвестную мне часть истории семейного архива А. Н. Толстого, хранившегося у Гуревичей почти сорок лет. Но Яков Самуилович не торопится, очевидно, погруженный в воспоминания.
В 1915 году стареющий красавец либерал вызывал жалость у военного доктора Гуревича. Очень уж он был неприспособлен к жизни! Часто конфликтовал с начальством («чуть ли не с самим губернатором»), а дом был уже перезаложен, домовладелец сам колол дрова и перекладывал печи. Скудных доходов старику вдовцу и дочери Шуре еле хватало, чтобы свести концы с концами. Изредка Бостром получал письма и другую корреспонденцию с воинскими штемпелями – от своего приемного сына с фронта. Алексей Толстой был уже известным писателем. Гуревичу доводилось читать его военные статьи и очерки, печатавшиеся тогда в «Русских ведомостях».
Знакомство с Бостромом не оборвалось и после того, как Гуревичи съехали на другую квартиру.
Вскоре затем начался круговорот революционных событий… Где-то за границей, в эмиграции, мыкался Алексей Толстой. А Алексей Аполлонович стал сторожем яблоневых садов за Самарой. Завел козу да там, в сторожке, и жил. В городе он появлялся редко. С бородой чуть не до пояса, в длинной домотканой рубахе, с палкой в руках. Его сопровождала ставшая ручной коза… Умер он в голодном 1921 году в городской больнице от воспаления легких…
Из дальнейшего рассказа Якова Самуиловича получалось, что, умирая, Бостром все свое нехитрое имущество оставил приемной дочери Шуре – Александре Алексеевне Первяковой, двадцатидвухлетней девушке, которая работала воспитательницей в детском доме. Был там и большой ящик с бумагами, какими-то книгами, старыми письмами, фотографиями, с лежавшим там же потрепанным портфелем, где держали документы. Словом, с реликвиями, которые многие десятилетия накапливались и бережно хранились семьей.
Осенью 1923 года А. Первякова переезжала из Самары в Баку. По старой памяти завезла и оставила на время этот ящик у Гуревичей. Ящик со всем содержимым был водворен в сарай, завален какой-то рухлядью. И все про него забыли…
По редкому стечению обстоятельств «погребение» толстовского семейного архива почти совпало с другим событием – 1 августа 1923 года, сойдя с парохода, ступил на родную землю вернувшийся из эмиграции Алексей Николаевич Толстой.
– На старый ящик с бумагами мы наткнулись только в начале войны, когда готовились к возможной эвакуации, – продолжает свой рассказ Яков Самуилович. – Знал ли я о приезде Толстого в Куйбышев зимой тысяча девятьсот сорок второго года? И об архиве уже знал, и о приезде Алексея Николаевича! Но война тогда была, война… Как помнится, в те дни в областной газете «Волжская коммуна» печатались заметки о Толстом, о его выступлениях, беседы с корреспондентами. Вот я и решил встретиться с ним, потолковать… Не поверите, у меня уже и пригласительный билет был на генеральную репетицию Седьмой симфонии Шостаковича, которая впервые исполнялась оркестром Большого театра у нас в Куйбышеве. Сказали, что на ней будет и Алексей Николаевич. Он и был и на следующий день великолепную статью о симфонии напечатал! И наверняка состоялась бы встреча в театре… Но не повезло мне. Бывает же – захворал! А когда поправился, он уже уехал. И больше в Куйбышеве не бывал. А сам я стар, в Москву не езжу… Так и пролежали у нас все эти письма до недавних пор…
Тут я прерву нашу беседу с Яковом Самуиловичем. Следует уточнить, кем был «забыт» куйбышевский архив, историю которого я сейчас рассказываю. О нем не знала литературная общественность, о его существовании не подозревали даже в узком кругу специалистов. В этом смысле найден действительно забытый большой архив Толстого. Однако и помимо Гуревичей были люди, которые знали и помнили о злополучном ящике со старыми письмами… В первую очередь хочу назвать «законную владелицу» архива.
В опубликованных теперь воспоминаниях А. А. Первякова поведала среди прочего о том, как в 1899 году была удочерена Александрой Леонтьевной и А. А. Бостромом. Происходила она из семьи самарских простолюдинов. «…Родилась я в земской больнице, – излагает события А. Первякова. – Мать после родов умерла от водянки. У отца, кроме меня, осталось еще двое детей: сестра Настя 8 лет и брат Павел 6 лет. Священник, отпевавший мою мать, был близко знаком с Александрой Леонтьевной. Он рассказывал ей о том, что в земской больнице умерла от родов женщина, оставив младенца. На другой день Александра Леонтьевна поехала посмотреть на меня и, желая помочь, наняла кормилицу, которая оставила меня спустя три месяца. Ей нужно было возвращаться в деревню. А. Л. Толстая взяла меня к себе. Так я попала в семью Алексея Аполлоновича Бострома». (Сборник «Алексей Толстой и Самара». – Куйбышев: Кн. изд-во, 1982, с. 338). Постоянная доброта Александры Леонтьевны привела в дом приемную дочь…
Возможно, было это и кстати: Лелька взрослел, ему было уже шестнадцать, того и гляди покинет родительский кров, а пожилой любящей паре хотелось иметь общего ребенка, особенно девочку… Но в 1906 году Александра Леонтьевна умерла, а с А. А. Бостромом Шура Первякова прожила вместе до самой его кончины, в 1921-ом, и потом еще два года оставалась в Самаре, покуда не перебралась в Баку…
В начале 60-х годов Александра Алексеевна жила в собственном домике в поселке Кара-Чухур, что в двадцати минутах езды на электричке от Баку. Но дома ее не всегда можно было застать. Несмотря на преклонный возраст, по нескольку месяцев в году – и уже на протяжении многих лет так – она плавала судовой фельдшерицей на нефтеналивных танкерах, совершающих рейсы между Баку, Махачкалой, Красноводском и Астраханью. Пожилая плавмедик Первякова – это приемная сестра Алексея Толстого, та самая Шура, которой, кстати, посвящено несколько теплых писем самого Алексея Николаевича, найденных теперь в куйбышевском архиве.
Мы разговаривали с Александрой Алексеевной по телефону. Кроме того, она разрешила использовать письма, присланные ею в Куйбышевский музей имени А. М. Горького. В итоге возникло несколько дополнений и уточнений к тому, что я узнал от Я. С. Гуревича. Впрочем, они относятся только к периоду после осени 1923 года, когда Александра Алексеевна уже поселилась в Баку.
– Через некоторое время после отъезда из Самары, – рассказывала А. А. Первякова, – я стала просить Гуревичей выслать мне фотокарточки и письма, так как я очень скучала. Но жена Гуревича в своих ответах почему-то обходила молчанием мои просьбы… Я решила, что Гуревичи отмалчиваются неспроста, что, возможно, с бумагами что-то случилось, и перестала им писать… В Куйбышеве после тысяча девятьсот двадцать третьего года снова побывать мне так и не пришлось… В тысяча девятьсот тридцать восьмом году я работала в госпитале в Баку, и у нас лежал писатель (фамилию его я забыла), близко знакомый с Алексеем Николаевичем. Через него я направила письмо специально об архиве. Но, по-видимому, оно или не дошло или затерялось у самого Алексея Николаевича, потому что он так ничего и не предпринял… А беспокоить его второй раз по этому поводу я не стала…
Первым, кто принялся за поиски литературных материалов на родине А. Н. Толстого, были Людмила Ильинична Толстая, не только по долгу памяти, но и по призванию – собиратель наследия писателя, пропагандист его творчества – и литературовед Юрий Александрович Крестинский.
К вдове писателя на московскую квартиру как-то заехала по-родственному Александра Алексеевна Первякова. Они давно не виделись. По ходу разговора Людмила Ильинична поинтересовалась мнением гостьи, не могло ли уцелеть в Куйбышеве что-нибудь из домашней обстановки или вещей семейства Бостромов, о которых любил вспоминать Алексей Николаевич, – со временем они заняли бы место в музее писателя. (На московской квартире тогда сохранялась, например, подаренная позже Куйбышевскому музею имени А. М. Горького «мамина конторка» из красного дерева, в которой некогда держала свои бумаги и рукописи Александра Леонтьевна.) И А. А. Первякова, уйдя мыслями в прошлое, рассказала вдруг почти неправдоподобную для постороннего слуха историю с семейным архивом. Сама она давно уже потеряла всякую веру в сохранность архива, а тем самым и интерес к нему. Да и многие подробности сгладились в памяти за прошедшие годы.
В настоящий момент достоверным оставалось лишь одно: если семейный архив сохранился, то он должен был находиться у самарского старожила доктора Гуревича. Ни его адреса, ни имени-отчества Первякова к тому времени уже не помнила. Не было даже известно, жив ли он; а если жив, то за прошедшие двадцать пять лет мог ведь переехать – недавняя война стольких людей смешала и разбросала по самым неожиданным местам!
Всю историю, как она ее узнала, Людмила Ильинична передала Ю. А. Крестинскому. С этими скудными сведениями в 1949 году в качестве представителя Института мировой литературы имени А. М. Горького ученый и отбыл из Москвы.
Как рассказывал сам Юрий Александрович, оказалось, что в Куйбышеве проживает 38 однофамильцев – Гуревичей. Разыскать нужного среди них удалось не сразу. Зато результат превзошел все ожидания. Потребовалось два чемодана, чтобы уложить новые материалы архива А. Н. Толстого. Только собственноручных писем Алексея Николаевича там было сто с лишним. Ученый-энтузиаст уезжал из Куйбышева, убежденный, что «выскреб все до донышка».
Однако прошло восемь или девять лет, и автору этих строк в качестве собственного корреспондента «Литературной газеты», постоянно жившего в Куйбышеве, довелось сообщать на ее страницах, что Куйбышевский литературно-мемориальный музей имени А. М. Горького приобрел у Гуревичей новый большой архив Толстого. На сей раз он составлял более трехсот неизвестных доселе ценных материалов. И среди них опять-таки примерно столько же писем самого А. Толстого (около ста), а кроме того – тетради рукописей, книги с дарственными надписями и прочее-прочее, о чем уже говорилось.
В 1959 году Гуревичи передали Куйбышевскому музею еще девять писем, телеграмм, автографов стихотворений А. Толстого, а также более ста писем его родителей.
Наконец, ряд материалов, в том числе несколько важных для нас писем Александры Леонтьевны и самого А. Н. Толстого, поступили в музей в 1961 году. Общее число новых приобретений, таким образом, перевалило за пятьсот…
Архив передавался в музей беспорядочно. Некоторые письма оказались «разорванными»: начало – в Москве, а конец – в Куйбышеве или наоборот.
– Понимаете, – объяснял Яков Самуилович, – когда уж, не помню, мы весь этот архив вынули из ящика и часть его смешалась с нашими бумагами, которых за долгую жизнь, слава богу, накопилось не меньше… До сих пор, случается, роешься где-нибудь в чулане среди бумажных завалов, и вдруг выглянет из постороннего конверта или из старой книги письмо Алексея Толстого. А то что-нибудь в диванах обнаружишь, вроде этого портрета Бострома…
На этом, пожалуй, можно и закончить историю куйбышевского архива, если пренебречь частностями, которые в рассказах А. А. Первяковой и Я. С. Гуревича порой не согласуются друг с другом. Но меньше всего я собирался вести расследование. Важно в конце концов, что большой семейный архив писателя не погиб и стал теперь достоянием народа. Активную роль сыграли в этом работники Куйбышевского музея имени А. М. Горького. Нельзя не назвать научного сотрудника Альбину Евгеньевну Иогман, бывшего директора музея Евдокию Николаевну Бутакову и нынешнего директора Маргариту Павловну Лимарову. Благодаря им архив избежал дальнейшего дробления, и значительная часть его бережно сохраняется теперь в родных местах писателя – в городе Куйбышеве.
Однако и поныне нет уверенности, что собрано и разыскано все. А главное – все ли уцелело? Может статься, что некоторые документы утрачены безвозвратно. Приведу один из примеров. Не найдены письма Горького к Александре Леонтьевне, хотя есть основания думать, что они были.
Среди материалов, обнаруженных в Куйбышеве, есть письмо К. П. Пятницкого, издателя писательского товарищества «Знание», душой и фактическим руководителем которого, как известно, был А. М. Горький. В письме идет речь о сборнике деревенских рассказов Александры Леонтьевны, переданном ею в декабре 1903 года в «Знание». «Некоторые рассказы, – пишет Пятницкий, – могли бы выйти отдельными книжками для народа». И перечисляет затем адреса издательств, б которые следует обратиться. «У нас, – пишет он, – вопрос о Вашей книге решался Ал. Макс. Пешковым. Если бы Вы захотели знать его мнение, можно писать ему на «Знание», так как он постоянно меняет место жительства. Письмо будет ему немедленно доставлено» (ИМЛИ, инв. № 6402).
Это не единственный случай, когда литературные дороги приводили писательницу – мать А. Н. Толстого – к Горькому. Около двух лет спустя в письме от 8 ноября 1905 года она, например, сообщает Бострому по поводу своих пьес: «…Надо подождать ответа от Горького, кот[орому] я послала «Жнецы» и дала свой адрес в Петербурге до 19-го… [Пятницкий] мне посоветовал для скорости послать прямо Горькому, кот[орый] находится теперь в Москве и потом уедет в Крым. Я тотчас заклеила пьесу бандеролью, написала письмо и отвезла в почтамт. Прошу его, ввиду того, что пьеса едва ли в наст[оящее] время пройдет в цензуре – напечатать ее в сборнике или вместе с двумя другими, или отдельной книжкой. Что-то он скажет?» (ИМЛИ, инв. № 6311/147).
Зная всегдашнюю обязательность Горького в таких случаях, можно предположить, что он отозвался на присылку «Жнецов». Тем более что другие произведения А. Л. Бостром он читал, а самого автора мог помнить по общему кругу знакомых в Самаре (Тейтели, Н. Гарин-Михайловский и другие) и одновременному сотрудничеству в «Самарской газете» в середине 90-х годов. Интересны для нас были бы также письма или черновики писем Александры Леонтьевны Горькому. Но где все это? Сейчас, конечно, можно только гадать. В московском архиве А. М. Горького, где учтена вся известная горьковедам корреспонденция Алексея Максимовича, нет даже косвенных следов этой переписки…
А кто поручится, что в сарайном или чуланном мусоре не сгинули за десятки лет письма Н. Гарина-Михайловского, который не только арендовал одно время родовое имение матери А. Толстого – Тургенево, но и не раз помогал Александре Леонтьевне устраивать ее литературные дела в Петербурге; или ответы К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко на запросы писательницы по поводу ее пьес, переданных Художественному театру; или другие письма (помимо найденных) от известного издателя И. Д. Сытина, у которого Александра Леонтьевна печатала свои книги… Да мало ли еще что могло быть или не быть на бросовых лоскутках старой бумаги, о чем остается только гадать и сокрушаться!