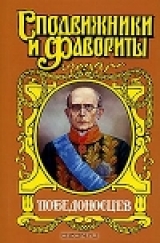
Текст книги "Победоносцев: Вернопреданный"
Автор книги: Юрий Щеглов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 51 страниц)
Константин Петрович отметил смерть Крылова в дневнике – а он редко откликался на общественно значимые события. Связь юного правоведа с баснописцем обладала внутренней закономерностью. Приезд императора и чувства, вспыхнувшие в душе, – сугубо личное, более того, интимное, но тоже имеющее отношение к формированию миросозерцания, мироощущения и мировоззрения. А середина 40-х годов вообще напряженнейшая эпоха. У Константина Петровича грядущий выпуск и открытие служебной карьеры. Достоевский пишет и публикует повесть «Бедные люди». Уходит Крылов, один из последних гигантов русской литературы, помнивший Екатерину Великую, и Новикова, и Радищева, и бунт на Сенатской. Буташевич-Петрашевский организует революционный кружок с проповедью коммунистических идеалов, столь поразивших молодого композитора Антона Рубинштейна, который возвратился из-за границы и еще не предполагал собственной будущности, связанной неразрывно с царствующим домом. Все это лишь беглые черты русского социума, лихорадочно вбиравшего в себя разнородные идеи и тенденции. Как ни удивительно, а, возможно, и вовсе неудивительно, что именно музыкант раньше прочих и сразу обратил внимание на тупиковость и бессмысленность социалистической пропаганды в России, о чем не побоялся заявить не ведавшим что творили, возбужденным агитацией молодым людям. Они гордились мятежной смелостью и воздействием на испуганное общество. От них зависела репутация многих людей в самых различных, в том числе и чиновных, кругах. Пораженный услышанным и социалистическими бреднями талантливый композитор, любящий и понимающий Россию, выкрест, конгениальный брату своему Николаю; Рубинштейну, будущий организатор музыкального процесса на родине прямо врезал, говоря современным языком, ошарашенным петрашевцам, не покидая, впрочем, конспиративную сходку:
– Вот не ожидал встретишь что-либо подобное здесь, в России! Я понимаю, что такие чтения и такие мысли и принципы высказываются за границей…
Понахватались небось всякой всячинки из ненужных на Западе Роберта Оуэна или Шарля Фурье, а то и чего похлеще отыскали. Но в Париже и Лондоне – куда ни шло!
– Там есть для этого почва, – продолжал неожиданный гость подпольной вечери, которого через несколько лет высокомерные невежды прозвали «музыкальным Янкелем», – там есть условия быта и строй общественный совершенно другой. Но у нас, в России, всем этим принципам пока не может быть места!
Константин Петрович впоследствии слушал, и не раз, выкреста в музыкальных салонах Петербурга и вслед за Екатериной Александровной аплодировал композитору. Между тем отвергавший поселки общности и сотрудничества, а также нелепые фаланги, Антон Рубинштейн оставил нам «Демона», «Нерона» и «Персидские песни», великолепные симфонические произведения и фортепьянные концерты, и среди них Четвертый, несравненный по своим качествам, красоте и влиянию на музыкальный стиль конца XIX и первой четверти XX века. Слушая Сергея Рахманинова, вспоминаешь об Антоне Рубинштейне. Оба брата, лишенные пустопорожних социалистических иллюзий, основали консерватории в Петербурге и Москве и часто услаждали отнюдь не аристократическую, а полуголодную публику виртуозной игрой. Их современник Федор Достоевский, который, постояв на эшафоте и отбыв восьмилетнюю каторгу, одарил нас великими творениями, до сих пор определяющими движение литературного процесса, наотрез отказался от идей насильственного изменения государственного строя. И Антон Рубинштейн, и Федор Достоевский в разное время и по разным, быть может, мотивам отвернулись от предложенного революционерами пути развития могущественной империи. А чем поделились с нами и сам Буташевич-Петрашевский, и его ближайшее окружение? Среди обманутых пропагандой ведь находились люди способные, но все-таки они не сделали значительного профессиональноговклада и растратили себя по пустякам. За их спинами выжженная и пропитанная кровью пустыня, а если сквозь почву что-то и пробилось, то лишь вопреки, а не благодаря пустопорожним и бессмысленным мечтаниям. Константин Петрович это понял очень рано и, невзирая ни на какие модные веяния, с большим воодушевлением по завершении образования и приезде в Москву отправился к Василию Петровичу Зубкову, который жил в уютном переулке неподалеку от Смоленского рынка.
Прощенный декабрист у себя в кабинетеТолько что поступивших на службу приветливый глава VIII департамента Сената приглашал к себе для обстоятельной беседы и более подробного знакомства. Кабинет и Герцен, и Победоносцев описывают приблизительно одинаково, если обращать внимание лишь на факты, а не на интонацию. Внимание Константина Петровича привлек микроскоп, и он счел обязательным указать название жука, обнаруженного новым начальником. Герцен с явным пренебрежением к увлечению московского барина и либерала зоологией не замечает микроскопа, но зато сообщает, что у некогда прощенного декабриста в кабинете стоит скелет и хранится несколько набитых птиц, сушеных амфибий и моченых внутренностей. Перечисленные предметы «набрасывали серьезный колорит думы и созерцания на слишком горячительный характер кабинета». Этот «горячительный характер» Константин Петрович не выпячивает, но к личностям на портретах – от Гемпдена и Бальи до Фиески и Армана Карреля – присоединяет авторов запрещенных книг – Луи Блана, Прудона, Фурье – он пишет «Фуррье», а также добавляет Ламартина и «Историю жирондистов». Лики революционных знаменитостей юному правоведу незнакомы, но запрещенные книги и иностранные газеты его интересуют. Он не иронизирует над Василием Петровичем и не упоминает о его декабристском прошлом, однако не упускает любопытный факт из биографии хозяина дома: с 1822 года тот причислен к архивным юношам, о которых, однако, Пушкин в «Евгении Онегине» отзывается со скрытым сарказмом.
Константин Петрович и самого Пушкина считает архивным юношей, и Вяземского тоже, хотя ни тот, ни другой в эту почетную когорту не входили. Юный правовед уже успел полюбить поэта, но жизнь его в подробностях не изучил. Он и в 1904 году не вносит исправления в свои мемуары, доверяясь влюбленной памяти.
О 14 декабря Герцен пишет вскользь, видимо, ничего не зная об опасных связях, почетных в глазах ниспровергателя властей. Остальное – сплошная насмешка, претензии – довольно, впрочем, нелепые – подчеркивает стремление Герцена уязвить и унизить человека, не откликнувшегося на его наивную просьбу. Зубков, бросившийся на выручку какому-то Огареву, безусловно, получил бы иную характеристику от автора «Былого и дум». Ну почему Зубков обязан был примкнуть к герценовской компании? Из-за своего вольнодумства, портретов знаменитых революционных деятелей на стенах и запрещенных книг, стоящих на полке? Какая чепуха! Какое наплевательское отношение к здравом смыслу!
Константин Петрович думал иначе, чем Герцен, и, на мой взгляд, более верно, потому что знал о Зубкове то, чего поверхностный зоил [27]27
Зоил– несправедливо придирчивый критик, злобный хулитель (по имени древнегреческого ритора и критика, жившего в IV в. до н. э.).
[Закрыть]не сумел уловить порхающей, чисто журналистской и по приему очерковой мыслью. Прошлое Зубкова Константин Петрович понимал лучше и глубже Герцена и, несмотря на фигуру умолчания, дал более правильное изображение прощенного декабриста – вовсе не краснобая и шута, а серьезного государственного деятеля, избравшего для себя другое, чем Герцен и арестованный Огарев, предназначение. Автор «Былого и дум» не указывает, где служил Зубков и какую роль играл в окружении генерал-губернатора князя Голицына. Нелюбопытна ему рутинная работа – руководство отрядом столоначальников и обер-секретарей, Герцену подавай преобразования сразу, одним рывком – революцией, и архивы не надо разбирать – сунул пылающую головешку, и дым столбом! Революция все равно собственный порядок установит. С белого листа начнет писать русскую историю. Что из того получилось, мы чувствуем до сих пор, и не чужой шкурой, а собственной.
– Садитесь, молодой человек, – предложил Зубков Константину Петровичу, открытым и добродушным жестом пододвигая несколько смущенному посетителю кресло. – Примером для России какую страну почитаете?
Задал он вопрос с места в карьер.
– Никакую, Василий Петрович.
Зубков удивленно поднял брови, а уголки губ опустил..
– Так-таки никакую?! Что ж, по-вашему, судопроизводство и вообще юриспруденция в России заняла в Европе первейшее место?
– Отнюдь! – И Константин Петрович покраснел, а затем побледнел, выполняя, однако, приглашение хозяина. – Но юриспруденция в России должна соответствовать ее традициям, истории и обычаям. Судопроизводство лишь тогда получит должный порядок, когда будут в достаточной мере учтены данные требования.
– Значит, черновым трудом не гнушаетесь? Папки разбирать и перекладывать из шкафа в шкаф не отказываетесь?
– Нет, не отказываюсь, – вымолвил Константин Петрович.
– Вакансии пока нет, а пособие двадцать рубчиков – сумма невелика. Три рубля с копейками потом прибавим.
Константин Петрович знал, что кое-кому Зубков сразу предложил штатную службу, но зависть не была свойственна характеру готового на любое вознаграждение соискателя. Ее место занимало терпение.
– Я пришел в департамент служить, – произнес скромно Константин Петрович. – А на службе всякое требуется: иногда и пыль вытирать, и шкафы чинить, и ветхие бумаги ремонтировать.
– Превосходно! – воскликнул Зубков, и глаза на лукавом лице заблестели. – Превосходно! Но все же, к какой системе судопроизводства склонность имеете хотя бы теоретически и не для заимствования?
– Если вы настаиваете, то скажу: Англия принадлежит к странам, у которых есть чему поучиться.
– Чему, например?
Поступающий на службу молодой человек весьма заинтересовал Зубкова. Если он ответит удовлетворительно, то и штатную клеточку надо будет подыскать поскорее. Вон как молодой да ранний князь Сергей Урусов широко пошел! Старых дельцов отодвинул – и без обид, и без скандалов. Ничьих амбиций не затронул. А какие зубры в присутствии судьбы просителей вершили! Князь Александр Петрович Оболенский – защитник сирот и вдов, человек московский, коренной, на первых ролях. Роскошный особняк на Солянке, родственники – Самарины, Лопухины, Евреиновы. С императором чуть ли не на «ты». Иван Эммануилович Курута, недавний владимирский губернатор, а в не таком далеком прошлом при великом князе Константине Павловиче в Варшаве состоял и уж с ним-то точно на «ты» находился. Бывший обер-прокурор Святейшего синода Степан Дмитриевич Нечаев сменил Петербург на Москву и поселился на Девичьем поле. Рядом монастырь дивный, луга и прочие сказочные угодья. А почти каждый день в департамент тащится, пока до кресла доберется – весь кошелек раздарит нищим…
Да, если этот длинный и худой правовед ответит удовлетворительно, то мнение особое Урусову сказать надо. Захочет – пусть к себе пригласит.
– Я полагаю, прежде остального стоит перенять у англичан уважение к древним учреждениям, из рода в род служащим хранилищем разума и искусства в применении закона. – Мысль сию Константин Петрович внутри сформулировал, но пока не делился ни с кем. – Кроме того, в Англии отсутствует конституция в нашем понимании, что благотворно влияет…
Тут Зубков его перебил:
– Чем же вас конституция не устраивает?
– Каждое государство вольно выбирать собственный строй, – осторожно вымолвил Константин Петрович. – Мысли свои я прикрепляю к России. И порядок в стране часто проистекает от воспитания в обществе нравственных устоев и совести, что можно поддерживать и законами. Важно, чтобы власть уважали, а она в свою очередь придавала действию закона нравственную силу… Я не совсем точно излагаю свою мысль, но она включает в себя достижения островной цивилизации.
Зубков слушал, затаив дыхание. Какая молодежь меняет старых дельцов! Ну, этот далеко пойдет! С верного конца заходит и прямиком к сердцевине. И не белоручка, надо полагать, и не лентяй. Честно смотрит, взглядом не юлит и задних намерений не имеет. Не забыть известить князя Урусова. И Зубков сделал пометку в календаре.
Дыхание ТауэраНамного позднее Константин Петрович оформил и отточил в «Московском сборнике» сказанное Зубкову при первом свидании. Посетив Лондон, Константин Петрович убедился в том, что не ошибся, положительно оценив отношение англичан к действию законов. Сейчас он отвернулся от окна, простреленного Лаговским, и, протянув руку, вынул, с полки последнее издание знаменитых очерков, которые привели в восторг Дмитрия Ивановича Менделеева. Как по волшебству, глаза выхватили нужные строчки: «Масса парламентских актов, постановлений, решений представляет нечто, хаотически громадное и хаотически нестройное. Нет ума, который мог бы разобраться в ней и привести ее в порядок, отделив случайное от постоянного, потерявшее силу от действующего, существенное от несущественного. Масса законов как будто сложена в громадный амбар, в котором по мере надобности выискивают что угодно люди, привыкшие входить в него и в нем разбираться».
Он припомнил первое впечатление от английских судей – в нелепых, белых, напудренных, что ли, париках, с косичками, в черных балахонистых мантиях, из рукавов которых смешно торчали желтоватого цвета растопыренные пальцы. Многие судьи и адвокаты носили очки и даже гордились ими, слишком часто поправляя на носу величественным и плавным жестом. Они-то и входили в этот амбар, который так напугал Фрэнсиса Бэкона. Но напрасно проницательный философ, лорд-канцлер при гуманном и неглупом короле Якове I боялся возникшей громадной сети законов, которая все продолжала плестись и плестись, превращаясь в паутину, сжимая и совершенствуя свои клеточки.
«На такое состояние закона, – читал с острым любопытством Константин Петрович свои строчки как чужие, – опирается, однако, правосудие, опирается вся деятельность общественных и государственных учреждений. Если понятие о праве не заглохло в сознании народном, это объясняется единственно силою предания, обычая, знания и искусства править и судить, преемственно сохраняемого в действии старинных, веками существующих властей и учреждений. Стало быть, кроме закона, хотя и в связи с ним, существует разумная сила и разумная воля, которая действует властно в применении закона и которой все сознательно повинуются. Итак, когда говорится об уважении к законув Англии, слово законничего еще не изъясняет: сила закона [коего люди не знают] поддерживается, в сущности, уважением к власти, которая орудует законом, и доверием к разуму ее, искусству и знанию. В Англии не пренебрежено, но строго охраняется главное, необходимое условие для поддержания законного порядка: определительностьпоставленных для того властей и принадлежащего каждой из них круга, так что ни одна из них не может сомневаться в твердости и колебаться в сознании пределов своего государственного полномочия. На этом основании власть орудует не одною буквою закона, рабски подчиняясь ей в страхе ответственности, но орудует законом в цельном и разумном его значении, как нравственною силой, исходящею от государства.
А где этой существенной силы нет, где нет древних учреждений, из рода в род служащих хранилищем разума и искусства в применении закона, там умножение и усложнение законов производит подлинно лабиринт, в котором запутываются дороги всех подзаконных людей, и нет выхода из сети, которая на них наброшена».
Константин Петрович остался совершенно доволен отлитой и затем откованной донельзя обоюдоострой идеей. Вот как должно быть у нас в России! Жаль, что Зубков не читал этих строк. Но тогда, в его осмеянном Герценом кабинете, она уже проступала в хаосе неотредактированных и неочищенных до зерна мыслей.
Где нет существенной силыНа Литейном – со стороны Невского – набухала толпа, озаренная мятущимся пламенем факелов. Рокот дробно ударял в зеркальные стекла.
– Даешь конституцию! Даешь свободу слова и собраний! Долой буржуазию! Долой черного папу! Долой, долой, долой!
Он хотел открыть окно и крикнуть в гущу беснующихся: «Глупцы, зачем вам конституция?! Надо хранить свою историю, свои обычаи и обряды! Их создал народ! И надо опираться на них!»
Но что способен сделать его слабый голос, тонущий в водовороте диких и хриплых выкриков? Даже император не пожелал его выслушать, избегая встречи с глазу на глаз. Он склонял ухо к Витте, великому князю Николаю Николаевичу, князю Николаю Дмитриевичу Оболенскому и прочим угождающим и ждущим наград. Главный противник, конечно, Витте, иронично-прозванный графом Полу-Сахалинским. Он, и никто другой, первейший конституционалист, но и он станет одной из первых жертв жалкой и неосторожной затеи. Добрый и умный Владимир Карлович Саблер еще до отставки пересказал Константину Петровичу речи императора, услышанные на одном из приемов в присутствии самого Витте:
– «Сергей Юльевич считает, что существует единственный путь – предоставить гражданские права населению: свободу слова, печати, собраний, эт цэтэра [28]28
Эт цэтэра( лат. et caetera, et cetera – etc.) – и прочее, и так далее.
[Закрыть]. Всякий законопроект придется проводить через Государственную думу. Это, в сущности, и есть конституция, хотя манифест наш называется иначе. Таким образом, я выполнил все ваши советы и пожелания, господа хорошие».
И император, круто повернувшись на каблуках, покинул залу, где сгрудились ликующие придворные, министры и генералитет, как всегда, не ведающие, что творят, и не понимающие, что раньше остального громы и молнии народной ненависти падут на их головы. Несчастный демос тоже заплатит немалую цену за неразумный гнев. Он превратится в игрушку жаждущих власти сил.
Константин Петрович отлично сознавал, что Витте обманывает и общество, и себя. Манифест – никакая не конституция. Это лишь декларация о намерениях правительства. Намерения надо еще осуществить. Но главное сейчас – свалить Победоносцева. Старый дьявол, как его называли либералы, и среди прочих зять Дмитрия Ивановича модернистский поэт Саша Блок, еще силен и служит символом реакции. Победоносцев и конституция несовместимы. Или обер-прокурор, или Дума с конституцией. А конституция перечеркнет прошлое России, ее светлую и мучительную историю. Конституция обрушит дышащую на ладан судебную систему, ударит по религии и хранимым в неприкосновенности обычаям, сметет сеть церковно-приходских школ, откроет дорогу парламентаризму и образованию партий и групп, отстаивающих денежные и земельные претензии разных слоев населения, но прежде собственные, и в конце концов сокрушит монархию и приведет страну к гражданской войне. Горы трупов усеют русскую землю. И не будет выхода из тупика. И восстанет брат на брата и сын на отца.
– Несчастный государь, несчастная Россия.
И боль за страну поглотила обиду, нанесенную ему в конце долгого пути. То, что происходило за окном на Литейном, вдвойне подтверждало печальное, но уверенное пророчество.
«И горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю…»Да, воспоминания продлевали жизнь, особенно после катастрофы, которую пережила Россия. А подписание императором манифеста, составленного Витте для сохранения режима личной власти и в узко эгоистических интересах жалкой кучки чиновников, пытающихся удержаться вблизи трона, он считал настоящим смертельным бедствием и не только для страны. Шатающаяся Россия через десяток лет рухнет как подкошенная на колени, сотрясая Европу тяжестью своей массы, начнутся тектонические сдвиги и разломы – скорее всего на Балканах, где запылает пожар вселенской войны. Манифест открывал дорогу не просто отвратительной бойне внутри империи. Братоубийственное взаимоуничтожение, под каким бы предлогом ни проводилось, всегда гнусно. Манифест делал неуправляемой обстановку за границами гигантской территории, распластанной между густонаселенной Германией и Китаем, не менее перенасыщенным человеческим материалом. Наступление желтой расы началось исподволь – с Востока – еще в середине прошлого века. Сначала пустоты окончательно заполнят китайцы и корейцы. Они вырубят тайгу и расчистят подходы к Уральскому хребту. За ними последуют японцы. Они-то и наведут по-азиатски железный порядок. Чингисхан с Батыем покажутся нам детьми. Падение Порт-Артура – первый сигнал надвигающейся бури. Японцы уже сговариваются с тайными польскими революционными организациями. Внутреннее неустройство России развяжет руки Германии и Австро-Венгрии. И неизвестно, сумеет ли император отстоять русскую независимость. Германцы считали славян идеальными рабами. Гражданский конфликт в государстве перерастет в мировой. Гибели миллионов и миллионов не избежать. Победа Витте над Константином Петровичем обернется потоками крови. И именно Витте начнет обвинять теперь уже отставного обер-прокурора в создании предпосылок для жесточайшего противостояния, считая в сем деле застрельщиком. А он пытался всего лишь удержать соскальзывающую в пропасть политическую ситуацию. Манифест разрушил остатки надежды. Что ему остается, кроме воспоминаний?
Воспоминания становились для Константина Петровича отдушиной, если не единственной возможностью вообще продолжить жизнь. Усилием воли он многое отбрасывал, не пропуская в сознание. Воспоминания отнять нельзя. Они уйдут и растворятся в небытии лишь после смерти. Никто не сотрет образ Катюши, какой он видел ее летом 1865 года, когда решалась их совместная судьба. Покойный наследник престола цесаревич Николай Александрович перед роковой поездкой в Ниццу, из которой не суждено было возвратиться, будто что-то предчувствуя, провидчески и не раз говорил, заглядывая Константину Петровичу в глаза:
– Ах, как бы я хотел, чтобы вы женились! Отчего вы не женаты?
Он легко ответил бы на вопрос цесаревича, милого и душевного Никса, если бы осмелился признаться до конца самому себе в том, что влюблен, нет – любит всем сердцем девушку, почти ребенка, и готовил себя к тому, что если получит отказ, то поступит так, как и прочили друзья, – уйдет в монастырь или, чего доброго, станет митрополитом. Когда все сладилось в единственный и неповторимый день, к несчастью, после кончины цесаревича, и когда страхи отступили, еще не покидая имения добрейшего Александра Энгельгардта, брата однокашника по Училищу правоведения, с которым давно подружился и у которого временами дневал и ночевал, Константин Петрович сообщил о коренном переломе в собственной судьбе архиепископу Харьковскому Амвросию, в миру Алексею Осиповичу Ключареву, духовно близкому и редкому по своим сердечным и интеллектуальным качествам иерарху: «Недавно вы еще прочили меня в митрополиты литовские, но вот – я жених с 14 июля и спешу Вас об этом известить, помня любовь Вашу…»
Молодости свойственны горькие воспоминания, старости – светлые, счастливые. И он, и Катюша любили Пушкина. Поэт для них – судьба. Лет двадцать назад по вечерам Константин Петрович с женой сделали выборку его стихотворений из «Северных цветов» и издали для немногих в красивом переплете и на прекрасной бумаге. Катя не забывала упаковывать в саквояж с десяток экземпляров, когда собиралась за границу, и там дарила знакомым иностранцам, которые интересовались Россией. Сейчас он безмолвно повторял строки из «Воспоминания», часто утешавшие, особенно в последние недели. 6 сознании всплывали картины прошлого. Он свободно их перемещал в пространстве сознания. Тяжелое, болезненное старался вытеснить. К тому, что помогало существовать, он постоянно возвращался. Покидать юдоль земную рано. День превращался в мозаику, быстро меняющую рисунок. Константин Петрович не стеснялся собственного поражения. Он твердо знал, что к его идеям возвратятся. Жаль, что миллионы людей погибнут. А он должен влачить дни ради Кати. Без него она пропадет. Он стоял в тиши огромного кабинета, не зажигая электричества, и повторял про себя:
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
Теперь, когда он получил навязанную и нежеланную свободу, когда отставка, казалось, должна была выбить из седла, воспоминания, как ни удивительно, помогали упорядочить и объяснить происшедшее. Враги России будто бы восторжествовали, а он назло им окружал себя счастливыми днями. Он горячо молился, и Бог его оградил от ненависти и укрепил сердце и разум. И сейчас прошлое состояло из самого значительного, что совершилось. Он опять вспомнил неширокий мутноватый Днепр, тучное имение Энгельгардтов в Полыковичах и те грозовые и душные июльские дни, которые перевернули будущность и придали прожитому и пережитому новый смысл.







