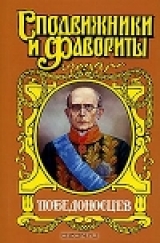
Текст книги "Победоносцев: Вернопреданный"
Автор книги: Юрий Щеглов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 51 страниц)
Перед очередным выпуском государь зачастил в училище. Дежурные флигель-адъютанты не сообщали Пипу об инспекции его заведения. Но он прознавал о намерениях императора какими-то неведомыми путями. Служители мыли и мели коридоры и классы, осматривали мундиры – все ли пуговицы на месте, особое внимание уделяли лазарету. Император везде и всегда посещал оные богоугодные заведения. Протоиерей Михаил Измайлович Богословский, по прозвищу Батька, покровительствовавший Константину Петровичу и Юше Оболенскому за их приверженность к церковной обрядности и изящной литературе и даже приглашавший к себе на обед, хоть и постный, но вкусный, без устали репетировал с певчими. Батьку, в общем, любили в училище, несмотря на то что Пиц принуждал его участвовать в допросах воспитанников, когда Берар и Андреев, учинив обыск, обнаружили массу недозволенного и предосудительного. Тогда хотели удалить Готовцева, Тунцельмана, Квиста, Оголина, Свечина, Жулковского и Замятина, засадив в лазарет. Константин Петрович делился с Юшей Оболенским:
– Грустно, грустно! Несправедливо! Слишком жестокое наказание! А наказание должно во что бы то ни стало соответствовать проступку, иначе это месть, а не наказание. Но, видно, fiat justitia, pereat mundus!
Воспитанники тогда Батьку втихомолку изругали, но в других случаях он противостоял Пипу, нередко забывая о христианском смирении и необходимости подчиняться властям. Беседы с Константином Петровичем и прочими отмеченными им воспитанниками он вел долгие и весьма любопытные, обнаруживая совершенно неожиданное знание светских книг.
Константин Петрович тоже готовился к приезду монарха. С первого года Пип вызывал к кафедре сына профессора Победоносцева, чтобы продемонстрировать важным особам, какими разносторонними знаниями обладают воспитанники. В присутствии самого министра юстиции Виктора Никитича Панина и пэра Франции графа де Сен-При Константин Петрович прямо из середины шпарил Саллюстия, причем Пип совершенно не волновался за исход дела и держался с завидным апломбом. А между тем Панин, де Сен-При и граф Уваров знали Саллюстия назубок. Не каждый раз подобный опыт удавался с другими воспитанниками. Андрюша Оболенский, отвечая Штекгарду, однажды сел в калошу. Вот когда Пип заерзал на стуле и пошел красными пятнами. Больше рисковать не решался. Вызывал к кафедре проверенных. Старик Георгиевский похвалил Константина Петровича за сочинение на весьма скользкую тему. Писалось оно, естественно, по-русски, и в нем утверждалось, что изящные искусства могут процветать только в благоустроенном государстве, а именно правоведы призваны превратить Россию в таковое. Георгиевский пользовался у воспитанников авторитетом, но настоящий восторг у Константина Петровича вызывал преподаватель истории французского права Аллье. В дневнике отмечены его прекрасная плавная речь, чисто галльское остроумие и свойственное лишь французам одушевление. Из всех наставников лишь Аллье удостоился подобной характеристики. У правоведов не оказалось ни своего Пушкина, к сожалению, ни своего Куницына, в чем, вероятно, следовало бы упрекнуть графа Панина с Пипом на запятках и самого монарха, потому что властелин полумира ответственен и за отсутствие гения в училище, находящемся под высочайшим патронатом. Разумеется, речь здесь идет не о юридической ответственности. Адъюнкт-профессор нравственных и политических наук Александр Павлович Куницын оставил неизгладимый след в творчестве и жизни Пушкина, и неудивительно, что поэт обращался к учителю с благодарностью, помнил о нем, уважал и, наконец, запечатлел в возвышенной и красивой строке – «Куницыну дань сердца и вина!»
Как хочется повторять и повторять эти великолепные стихи:
Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена…
Пушкин отбросил свое обращение, и оно не появилось в «Северных цветах» 1827 года, а не менее звучных строк:
И мы пришли. И встретил нас Куницын
Приветствием меж царственных гостей… —
читатели прочли через много лет после смерти поэта. Знаменитое стихотворение «Была пора: наш праздник молодой..» вообще не появлялось в печати при жизни Пушкина, хотя было совершенно отделано. Что тому виной, трудно предположить. Быть может, то, что в 1821 году книгу Александра Павловича об естественном праве сожгли как либеральную и самого уволили из Петербургского университета? Словом, такого преподавателя, как автор книги «Право естественное», в Училище правоведения не было. Ну кто виноват в этом, как не монарх?!
Тогда сие не сознавалось и не оценивалось, но желание иметь настоящего наставника чувствуется в дневнике молодого Победоносцева с абсолютной очевидностью. Да иначе невозможно себе вообразить! Личность наставника или руководителя какого-либо социального организма в цивилизованных обществах играет огромную роль. Без уважения к ним нет преемственности, без преемственности нет развития, без развития нет прогресса, и никакое движение вперед невозможно. Большевики радовались крушению монархии, расхваливали всяческого рода революции, даже приветствовали в эпоху брежневского застоя захват власти аятоллой Хомейни. Захлебываясь от восторга, они сбрасывали с парохода современности любую традицию и топтали ногами религию как отживший институт, служащий инструментом властей предержащих, но такой крах, какой они пережили, и такую пустоту, какую они ощутили позади себя, не сравнимы ни с чем. Кто их учителя и кто их руководители? Какие они заложили традиции и чему они теперь поклоняются? После ухода в вечность греческой и римской цивилизаций наследующие им общественные структуры создали устойчивые традиции, основанные на преемственности культур, и добились невероятных успехов. Большевики оставили за собой труднопроходимую материальную и нравственную пустыню. Их покоящийся до сих пор в саркофаге вождь в ужасе отшатнулся бы от тех, кому судьбой был назначен наставником и руководителем. Он не отважился бы переплыть это кровавое море, хотя его ни добрым, ни жалостливым, ни гуманным назвать нельзя..
Выпуск: Ура! Ура! Ура!– В конце недели ждем царя-батюшку, – тихо произносил смотритель Кузнецов, заглядывая в классы, спальни и лазарет. – Пожалуйте, господа, на квартиру к директору стричься и приводите форму в надлежащий вид. Сами старайтесь, господа, сами! Здесь ни дядек, ни камердинеров нет. Господин Сивере, не пытайтесь укрыться за спиной господина Тарасенкова. Вас приказ директора касается в первую очередь. Уж очень вы лохматый! И мундир всегда расстегнут и в беспорядке. А вы, господин Победоносцев, не забудьте оставить очки в ящике. И не притворяйтесь, что вы ничего не видите! Очки вам предписаны для ношения в классе.
Дотошного Кузнецова воспитанники давно невзлюбили. Он науськивал служителей-солдат на старшеклассников и особенно на отпрысков знатных семей:
– Нечего вам, солдатам, защитникам отечества, вставать навытяжку перед недорослями. Оставайтесь сидеть, где сидели. Они вам не командиры! К чему говорите им «Ваше благородие»?! Они мальчишки, щенки, а не дворяне и не офицеры!
Воспитанники возмущались и однажды решили принести жалобу директору Пошману. Кузнецову объявили бойкот и поручили Константину Петровичу письменно уведомить начальство о происшедшем. Он принялся обдумывать послание, составив его сначала в уме, используя, впрочем, весьма умеренные выражения. Братья князья Оболенские, Раден и Сивере настаивали на более решительных формулировках. Несколько дней дортуары и коридоры бурлили, самые ленивые очнулись и кипятились сильнее других. Несмотря на старинную дворянскую кровь, которая текла в жилах Константина Петровича – мать ведь из родовитых костромичей Левашовых, – чувство неловкости от поднятой шумихи его долго не покидало. Какая-то справедливость содержалась в словах Кузнецова.
Квартира директора превратилась в городскую цирюльню и одновременно в портняжную мастерскую. Пип для старшеклассников пригласил парикмахера-француза Алибера, младших пользовали обыкновенные солдаты-цирюльники. Император главное внимание обращал на выпускников.
И вот он появился перед стройными рядами надраенных и сияющих, как медные пятаки, правоведов. Константин Петрович за годы пребывания в училище привык к облику властелина. Величие и решительность в манере держаться сейчас поражали меньше. В глаза бросалась некая обвислость плеч, отечность лица и отяжелевшая походка. Но все равно он царственно хорош и еще долго останется таким. Рассказывали, что спит на походной кровати, укрывшись шинелью, покрой которой сам изобразил и которая теперь называется николаевской, как обтирается снегом и не ест ничего лишнего. Рассказывали, что на камине в кабинете стоят часы, которые заводит собственноручно, как принимает министров стоя и, не перебивая, выслушивает, исправляя ошибающихся без гримасы неудовольствия. Хвалили императора за честность и за то, что не дает потачки взяточникам и казнокрадам, и много еще достоинств находили в нем.
– Ура государю императору! – дружно кричали правоведы. – Ура государю императору! Ура! Ура! Ура!
От шведского возгласа, выкатывающегося из русско-немецких глоток, дрожали стекла.
Через каждые два-три шага государь задерживался и что-то говорил оказавшемуся перед ним воспитаннику. Наклонив голову, принимал – именно принимал! – сказанное. И все по-русски – ни слова по-французски. «Господи, – молился про себя Константин Петрович, – пусть он остановится и спросит что-нибудь, требующее для ответа чрезвычайных усилий ума, и я открою сердце и скажу, во-первых, что не пожалею и жизни для блага России, что люблю его как монарха и человека, и, во-вторых, что навсегда останусь неколебимым слугой закона и благодарным верноподданным. Нет, я буду не только верноподданным, я стану вернопреданным». Однако император, скользнув по напряженному лицу Константина Петровича оловянным взором, прошагал дальше. Внутри Константина Петровича что-то разжалось и покатилось. Он укорял себя потом за выскочившее в сознании определение императорского взора. Но герценовское словцо точно отразило выражение некогда прекрасных очей императора и струящийся из них в тот день тяжелый свет. Совесть еще долго мучила Константина Петровича. Вообще в конце учебного курса он часто размышлял над понятием совести и ее роли в законотворческой деятельности и в судопроизводстве. Именно тогда в неясной форме возникло то, что позднее – через десятки лет – отлилось в чеканные строки, не утратившие и сегодня значения, а быть может, наполняющиеся в наши дни особым, весомым содержанием, ибо сейчас справедливость вынесенного приговора от человеческой совести зависит не меньше, чем от закона.
Две стороны одной медалиВ статье «Закон», седьмой по счету в «Московском сборнике», Константин Петрович писал: «Сколько стародавних понятий помрачилось и запуталось в наше время! Сколько стародавних имен, изменивших или, на глазах у нас, изменяющих свое значение! Изменяется – и не к добру изменяется – понятие о законе. Закон с одной стороны – правило, с другой стороны – заповедь, и на этом понятии о заповеди утверждается нравственное сознание о законе. Основным типом закона остается десяти – словие: «чти отца твоего… не убий… не укради… не завидуй». Независимо от того, что зовется на новом языке санкцией, независимо от кары за нарушение, заповедь имеет ту силу, что она будит совесть в человеке, полагая свыше властное разделение между светом и тьмою, между правдою и неправдою. И вот где – а не в материальной каре за нарушение – основная, непререкаемая санкция закона – в том, что нарушение заповеди немедленно обличается в душе у нарушителя – его совестью. Кары материальной можно избегнуть, кара материальная может пасть иногда без меры или свыше меры на невинного, по несовершенству человеческого правосудия, а от этой внутренней кары никто не избавлен».
Вот как здесь переплетены закон, заповедь и совесть, вот как здесь одно вытекает из другого и одно без другого не существует и существовать не в состоянии. Вот чего не осознает атеизм, чем пренебрегает и от чего лишь наращиваются нарушения! Столь тонкое проникновение понятий, их взаимосвязь и взаимозависимость породили в лирической душе юного правоведа особое настроение. Оно еще не откристаллизовалось, еще смутно бродило внутри, но уже рождало своего рода энтузиазм и стремление отдать себя без остатка чему-то высокому и огромному – родине, государственному строю, великой традиции справедливости, преклонению перед законом, пониманию, как этот закон должен функционировать и на чем основываться, а также какое относительное значение он приобретает, если оголить его, лишив обязательной прикосновенности к человеческой совести и десятисловию.
Роль совестиВо всю мощь свежих не испорченных табаком легких Константин Петрович воскликнул вслед императору без всякой обиды, что Бог не задержал властелина напротив:
– Ура государю императору! Ура!
Немного обвисшие плечи и оттого несколько сбившиеся на сторону эполеты вызвали у Константина Петровича острое чувство жалости, но оно постепенно исчезло, вытесненное мыслями о счастье служить закону и отстаивать права тех, на кого обрушилась людская несправедливость.
Вечером он поделился с Юшей Оболенским мыслями и переживаниями, вызванными посещением императора. Приятель посмотрел пристально на Константина Петровича, однако без удивления или иронии.
– У нас в России закон существует только на бумаге. У нас все зависит от человека. Нужно, чтобы больше хороших людей делались столоначальниками и обер-секретарями. У них в руках производство дел. А закон что дышло…
– Закон всегда будет бессилен, если не сделает себе союзником человеческую совесть, – ответил Константин Петрович.
Юша Оболенский крепко задумался, а погодя произнес:
– На совесть рассчитывать нечего. Страх Божий – еще куда ни шло – поспособствует. А совесть у кого есть, у кого нет.
Похороны загадочного гигантаПоздней осенью 1844 года Россию постигло страшное несчастье – смерть Ивана Андреевича Крылова. С дней гибели Пушкина никакое событие не вызывало столь искренней и общей скорби. Крылова хоронил весь Петербург – от министров, усеянных звездами, и великосветских дам в мехах и бриллиантах до последнего полуголодного студента и нищего с паперти, опирающегося на костыль. Этого ковыляющего за процессией, обросшего кудрявой бородой старика Константин Петрович запомнил навсегда. Да и не он один! Русь провожала в могилу того, кто говорил и писал на ее языке, не имея себе равных. Быть может, только Константин Николаевич Батюшков, неоцененный и полузабытый в советскую лихую годину, способен был по-настоящему соперничать со знаменитым баснописцем. Рожденный в Вологде, Батюшков впитал душой музыку новгородской земли, на которой провел значительную часть детства. Предок поэта, Матвей Батюшков, кровью добыл богатое имение и благосклонность братьев царей Иоанна и Петра на службе против турок и татар крымских. Батюшкова отличало от многих сверстников великолепное владение французским. Он изучил и латинский, в подлиннике читая Горация и Тибулла. Подружившись с Алексеем Николаевичем Олениным, он перезнакомился с избранным кругом литераторов, среди которых первейшие места принадлежали Крылову и Николаю Ивановичу Гнедичу. С последним Батюшкова связывали тесные узы. Гнедич до последних печальных дней оставался единственным близким человеком баснописцу. Как видите, цепь замыкалась прочно. Русский язык оказался родиной этих людей не меньше, чем русская земля. Недаром Григорий Чернецов изобразил Гнедича и Крылова вместе на картине «Парад на Царицыном лугу». Иван Андреевич там на первом плане, что неспроста.
Гроб Крылова опускали в черную землю медленно и торжественно. Дорожки Александро-Невской лавры заполняла текучая толпа. Правоведов колонной провели мимо, когда могильный холм уже насыпали и украсили осенними цветами, пахнущими дождем. Крылов лег рядом с Гнедичем и графом Сперанским.
И Сперанский, и Крылов пользовались в семье Победоносцевых неизменным уважением. Крылова читали вслух, Крыловым наслаждались, Крылова цитировали, Крыловым восхищались. У Крылова, наконец, учились владению родной речью. День, когда Константин Петрович увидел Крылова в Императорской публичной библиотеке, был счастливейшим в тогдашнем по-юношески суетном существовании. Крылов два года находился в отставке, но довольно часто посещал отделение, которое позднее бароном Модестом Корфом было названо «Rossica», и присутствовал молчаливо на разных заседаниях. Родившийся в прошлом – восемнадцатом – веке, его отец не отдал Яицкий городок кровавому самозванцу и, очевидно, пирожку с немецкой начинкой Пугачеву. Крылов проложил себе путь из беднейших служилых низов к обеспеченности и даже богатству собственным талантом и без всякой протекции. Человек, чья жизнь сопровождалась таинственными и до сей поры нерасшифрованными событиями, безусловно, мог стать идеальным примером для тех, кто желал трудом изменить жизнь к лучшему, трудом, а не насилием и отнятием ценностей у других. Крылов небыстро пробил дорогу на олимп русской литературы. Начав в екатерининскую эпоху как комедиограф и издатель «Почты духов», название которой обычно сокращается в советских и постсоветских изданиях, он лишь в Отечественную войну 1812 года добивается настоящего признания. По высочайшему указу ему начинают выплачивать из Кабинета пенсион по 1500 рублей в год. Пенсион этот производился при жалованье и на службе. Спустя восемь лет его удвоили, а в 1834 году добавили новую пенсию из государственного казначейства, равную получаемой. После отставки император назначил добавочно 5700 рублей. Таким образом, крыловский доход составлял почти 12 000 рублей. Петр Васильевич частенько говаривал младшему – любимому – сыну:
– Срисовывай жизнь с Ивана Андреевича!
Мудрец сидел перед Константином Петровичем в одном из залов публичной библиотеки на узковатом деревянном диване и смотрел прямо перед собой, высоко держа массивную голову с львиной гривой. Приблизительно в то же время Иван Сергеевич Тургенев встретил Крылова на вечере у одного чиновника высокого ранга, не чуждого писательских амбиций: «Он просидел там часа три с лишком, неподвижно, между двумя окнами – и хоть бы слово промолвил… Он опирался обеими руками на колени и даже не поворачивал своей колоссальной, тяжелой и величавой головы; только глаза его изредка двигались под нависшими бровями. Нельзя было понять, что он – слушает ли и на ус себе мотает или просто так сидит себе и «существует». Ни сонливости, ни внимания в этом обширном, прямо-русском лице – а только ума палата, да заматерелая лень, да по временам что-то лукавое словно хочет выступить наружу и не может или не хочет пробиться сквозь весь этот старческий жир…» Признаюсь, что, обнаружив этот портрет, я с облегчением вздохнул. Наблюдатель, да еще обладающий таким великолепным и мощным пером, каким обладал Тургенев, сделает живописную работу куда лучше, чем твое перо – усердное, но слабое.
И теперь это «прямо-русское лицо» забрано гробовой доской и не в состоянии больше смотреть лукавыми и подвижными глазами на окружающий мир. Константину Петровичу нравилась неподражаемая ирония Крылова, его глубочайшее понимание русской жизни и страстное желание переменить ее, усовершенствуя нравственное состояние народа. Украсив и улучшив ежедневность, пробудив и укрепив совесть, воспитав уважение к существующему закону и порядку, пусть несовершенным и недостаточно справедливым, легче приступить к их постепенной трансформации. Зачатки проекта хорошо устроенного общества возникли у юного правоведа, когда на другой стороне Европы уже тлели мертвые головешки революции. Мудрость Крылова звала к подобным размышлениям и действиям, зиждилась на обстоятельствах русской истории, и сам он служил тому наглядным подтверждением. Басни Крылова были вполне приложимы к властям предержащим, но от них не тянуло ни кровью, ни бессмысленным и беспощадным бунтом, ни горелой вонью пожарищ.
Из Александро-Невской лавры Константин Петрович возвращался не просто опечаленным – думы и новые чувства переполняли его. Скоро выпуск, половину, даже больше половины дороги он отмахал. Таинственная натура Крылова привлекала к себе именно загадочностью и необъяснимостью. И вместе с тем сколько простоты и удивительно верной существенности в его баснях! Где он этому научился? Ну уж, наверно, не у Лафонтена! Рассказывали, что после добровольного изгнания в имение князя Голицына он вместе с патроном приехал в Ригу, куда князь при воцарении Александра I получил назначение военным губернатором. Через два года Иван Андреевич исчез, и никто не знает, где он путешествовал и чем жил. И наконец явился вновь в совершенно ином качестве и быстро занял первенствующее положение в литературе. Героическая натура! Героическая и таинственная! И какая, по сути, русская!







