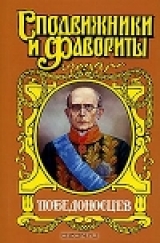
Текст книги "Победоносцев: Вернопреданный"
Автор книги: Юрий Щеглов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 51 страниц)
Часть вторая
В поисках другого полюса
О, этот Юг, о, эта Ницца!..
О, как их блеск меня тревожит!
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет – и не может…
Нет ни полета, ни размаху —
Висят поломанные крылья,
И вся она, прижавшись к праху,
Дрожит от боли и бессилья…
Федор Тютчев
Он кроток сердцем был, чувствителен душою – Чувствительным Творец награду положил!
Василий Жуковский
Будни малооплачиваемых энтузиастов
Речи Каткова и Аксаковых вперемешку с оглушительными вестями из Крыма медленно, но верно делали свое дело. Константин Петрович расширил сферу собственных интересов. Массу сил и времени забирали выписки, которые он заносил в особую тетрадь. Позднее Константин Петрович издаст их отдельной книгой, крошечным для такого любопытного труда тиражом. История приказного судопроизводства издавна привлекала его. Ценный материал приходилось извлекать из пронумерованных вязок разных приказов, в том числе и Судного. В результатах исследования старых приказных порядков Константин Петрович находил немало полезных сведений. Вязки на вес тяжеленные, на папках и свертках вековая пыль и грязь. Нелегко стащить с полки или вынуть из шкафа, развернуть или вскрыть ножницами вязку, разложить дела и приняться за неторопливое изучение ветхих страничек, стараясь не надорвать бумагу и бахромку по краям листа не осыпать. В очках, частенько сползающих с вспотевшей переносицы, в тесном вицмундире, поверх которого натягивался темный халат, в узком пространстве закоулков и коридорчиков Сенатского архива старых дел, пристроившись на подоконнике или за хромающим на одну ногу столом, непросто перебелить иногда сильно подпорченный текст, составленный отнюдь не каллиграфическим почерком.
Я работал в архивах разных ведомств и дурно приспособленных библиотечных помещениях и не понаслышке знаю, что спустя сколько-то минут начинаешь проклинать судьбу, забросившую тебя сюда. Не буду останавливаться на описании полученных впечатлений.
Бедный Константин Петрович! Возню с вязками приходилось совмещать с основной обер-прокурорской работой, занятиями в университетской библиотеке, чтением новых поступлений и тайной подготовкой к лекциям, которые он собирался читать перед студенческой аудиторией, когда наступит долгожданный час приглашения на кафедру. А пока – вязка номер 757 (дело № 1) и всего дел 29. Следующая вязка под номером 758, дел в ней 8. Еще одна вязка с номером 759 включала в себя 12 дел, еще одна, 760-я, состояла из 20 дел. Попробуй-ка поворочай! Тут не только о беседах с Катковым забудешь, но и дорогу в Хлебный вечером не отыщешь. Иван Аксаков не выдержал, вернее, поэтическая душа его не выдержала, и сбежал в иную, более подходящую для сына знаменитого писателя жизнь.
Однако когда набредешь на что-нибудь этакое – увлекательное – полнейшее вознаграждение получаешь и небывалое удовлетворение охватывает. Сердце птичкой бьется, и перед внутренним взором возникают образы людей, давно ушедших в лучший мир. Константин Петрович весьма ценил способность человека вызывать образы с помощью внутреннего взора. Вот чем наделил нас Бог!
Сегодня он рассматривал вязку номер 762. В 1711 году при Петре Великом в Приказе земских дел служащие привели к мирному исходу начавшийся конфликт и соответственно жалобу о бесчестье и бое. «Кончилось миром», – вывела чья-то довольная и потому неторопливая рука.
Славно! Это дело 14-е. А вот дело за № 18 в той же вязке и тем же 1711 годом помечено. И тот же Приказ земских дел выслушивал обе стороны. Кручинин на Захарова подал жалобу «за пособие мошенникам в покраже у него 20 рублей». Был суд и речи! Каков был суд и каковы были речи, Константин Петрович легко себе вообразил. Кручинин и Захаров стояли перед ним как живые. Закрой глаза, читатель, и ты с легкостью представишь себе людей петровского времени, обвиняющих друг друга.
Иногда в нескольких словах вмещалась целая судьба, да не одного человека. Например, из 763-й вязки Константин Петрович сделал извлечение весьма любопытное, свидетельствующее, с каким тщанием относились к разбору служащие, правда, быть может, и не без корысти. Дело № 3 мечено 1712 годом. В Приказе земских дел разбирался юридический казус «Об отпускной после смерти подьячего Каптяева от жены ево (живущей в Арзамасском уезде)». Проситель в подробной сказке показал, что он поступил к Каптяеву в кабальное холопство с отпускною Матвеева. Была сделана справка с кабальными книгами, но о смерти Каптяева справки не делалось и жена его «не допрашивана». И в Военный приказ просителя не отсылали, потому что стар – семьдесят лет. Отпускную выдали, и притом добавлено: «А вдове Каптяевой, буде до него, Ивана, дело будет, и ей ведатца по крепостям допросом».
Выписку Константин Петрович занес в тетрадь, но без ссылки, на основе чего принято решение, – казус да и только! И покойный подьячий Каптяев, и жена «ево», и отпущенный неведомым Матвеевым Иван, которому на воле стало худо и он решил поступить в кабальное холопство, долго не исчезали из памяти Константина Петровича, тревожа внутренний взор. С особым рвением он искал подкрепляющие служилых людей указ или указы в Приказе земских дел. И нашел-таки! Снабдил выписку точной сноской: указ 21 мая 1700 года; еще 24 апреля 1702 года. Однако с горечью заметил: не сыскал в Полном собрании законов.
Важный выводЗачем Константин Петрович так детально знакомился с этими вязками из Сенатского архива? Что им руководило? Страсть к научной работе? Желание поосновательнее подготовиться к созданию впоследствии знаменитого «Курса гражданского права», о котором упоминают мельком, хотя лишь одно написание обширного и чрезвычайно важного для России труда есть несравненный вклад в выработку отечественного правового сознания? Зачем подобным занятиям он отдал наверняка лучшую часть молодой жизни? Мечтал стать профессором? Построить завидную карьеру? Метил в высшие петербургские сферы? Задумаемся над тем, что руководило зелененьким и дотошным правоведом. Без истории, без традиций, без прошлого нет будущего. Революционеры этого не понимают. Они не понимают, что такое развитие. Разрушая прошлое, они рано или поздно нанесут страшный удар по будущему. Они идут против природы человека.
А пока на подоконнике вязка № 780 и рядышком замусоленное дело № 32. И относится оно уже к 27 сентября 1720 года. Еще царствует Петр Великий. Челобитье полковника Григория Яковлевича Желтухина с тщанием рассматривается в Земской канцелярии. «В нынешнем году, – эпически начинает вельможный Полковник, – сентября месяца ехал со мною при обозе моем из Петербурга крестьянин мой Лазарь Марков, и за непослушание его бит он батожьем по приказу моему; и после того в разных числах сего же сентября, едучи дорогою, бранил меня заочно… всякою неподобною бранью и в словах своих говорил: сколько ямщики с ним ни будут, будет в наших руках».
Серьезное обвинение! Желтухин не сам расправлялся с Марковым – бить бил, но не до смерти. А жалобу на угрозу подал. Вот вам и юриспруденция! Закон существовал, как ни удивительно и неприятно кому-либо слышать это, и к нему даже полковники прибегали против низшего, угнетенного сословия. Лазарь-то крепостной, человек без воли.
«Да он же [то есть Марков] говорил, – продолжал Желтухин, – про меня: на всех крестьян своих и людей я сердит; полно-де ево бранить, пора вовсе карачун дать».
Сие не шутка, а подговор к настоящему убийству! «Карачун дать»! Иными словами, внезапную насильственную смерть причинить.
«И как стал я обедать: пусть ест, объедается, было б почему стряпать; и так жирен, есть что потрошить…» Очевидно, полковник не из худеньких. Военный человек, крепостник, при собственном обозе, окруженный ямщиками, сам себе и многим хозяин, а вместо того, чтобы по-троекуровски власть употребить, слезно молит: «Великий государь! Прошу ваше величество вышеуказанного моего крестьянина против моего челобитья и в вышеписанных его словах пытать: с кем такое его злоумышление было и которые с ним советовали товарищи его?»
На сем прошение полковника Желтухина кончалось. В Земской канцелярии приступили к следствию и коротко занесли на бумагу: «Распрос. Лазарь Марков заперся». Служивый человек дал ссылку: «Выписано Улож. XXI, 48». Что сие означает? А вот что: «Пытан, 10 ударов. Повинился: говорил с сердцов, а умысла не было». Еще бы не повиниться! Палач способен с одного замаха хребтину перешибить, и готов бедолага на погост. Не поверили! И включили в документ: «Подведено Улож. XX, 8 – наказанье за умысел. В ноябре 1720 года велено за умысел и похвальные слова бить кнутом и сослать на каторгу на 10 лет, а прогонные и солдатам деньги взять на помещике». Это определение послано в Надворный суд на утверждение в апреле 1721 года. Там решили быстро: «Бив кнутом нещадно, отдать помещику по-прежнему для того: по розыску он показал, что говорил с сердцов, а умыслу не было. Дано 50 ударов».
Ну выжил Лазарь Марков несомненно. Били для острастки. Душу могли загубить, однако помещику полковнику Желтухину выгодно ли?
Что из того проистекает при зрелом размышлении? Повторяю: при зреломразмышлении. Суд существовал, плохой, жестокий, бесчеловечный. Крепостное право существовало – злое, антигуманное, подлое. Суд – улучшить, исправить. Крепостное право – искоренить.
Однако суд в России все-таки действовал, и дворяне – знатные да богатые – вынуждены были к нему прибегать. Не всегда осмеливались без государственной институции наказывать. Шемякин суд – отвратительный суд. Суд богатых и знатных – гнусный, подлый суд. Между тем полковник боялся лично рассчитаться с крепостным и просил о том государя императора. Самый что ни есть важный вывод. Для него и делались выписки, для него и ворочались старые вязки, для него и сон сокращался, и обедать забывалось, и ужинать. И на балы не ходил, как другие юркие и щеголеватые правоведы, хоть поглядеть издали или с хоров, как танцуют московские красавицы: две Зубковы – старшая Ольга и младшая Пелагея, Лидия и Александра Ховрины, с разницей в годах, да не отличишь одну от сестры, обворожительная Лужина – красота плюс симпатия, так решил про себя однажды Константин Петрович, вовсе не равнодушный к девичьим прелестям, как мы уже знаем; две Поливановы – не выберешь, какая изящней и воздушней, привлекательней и милее, и, наконец, Бегичева, кажется, Авдотья, легкая, светловолосая, с губами, будто лепестки алой розы на свежем, как только что выпавший снег, лице.
ОсадаА вести из Крыма неумолимо накатывались, разрушая привычный мир и меняя и без того извилистое и трудное русло жизни.
– Севастополь взяли в осаду и замкнули в кольцо! Теперь держись! – воскликнул однажды Катков, когда они столкнулись на балюстраде университета, всегда рождавшей у Константина Петровича ощущение приподнятости. – Но есть и приятная новость! Возведение укреплений государь передал в руки молодого капитана Тотлебена. Он с первых почти дней осады занимался строительством бастионов, а нынче повышен в чине едва ли не до полковника. Мой сотрудник Никольский возвратился из Крыма и передал общее там мнение: Тотлебен спасет город. Вы не представляете, какие бастионы он сооружает. Англичане отказываются атаковать. Бомбардируют, но пока, слава богу, безуспешно. Принц Наполеон в ярости! Луишка, доносятся до нас слухи, собственной персоной собирается под Севастополь, чтобы ободрить приунывшие полки и взять на себя командование. Пушкинской строкой ему можно ответить: «Вы грозны на словах – попробуйте на деле!»
«Как он точен, – мелькнуло у Константина Петровича. – Как у него все одно с одним вяжется! Какой обширный ум! И какой широкий! Как он умеет привлечь будто бы неблизкие по годам предметы! На что же сии филиппики указывают? В том числе и на неизменность европейских целей. К клеветникам России любимый поэт обращался по сходному поводу. Луишкой, по выражению Михаила Никифоровича, тогда в Париже и не пахло. Племянник настоящего Бонапарта в двадцать с небольшим не мечтал о дядюшкином троне и об интервенциях не помышлял, питался республиканским тощим супом и бродил по дешевым лупанариям в поисках щекотливых удовольствий. Профиль будущей жены – прекрасной испанки Евгении Монтихо – его не беспокоил по ночам, хотя недоступным бредил. Какая оказалась наездница! Сколько пикантной и манящей грации! Какая стремительность походки! И сколько тонкого игривого ума! Но в пушкинскую эпоху этой зловещей парочкой на европейских подмостках действительно не пахло. А между тем претензии к России с той поры абсолютно не изменились: левые клеветники во французской палате в унисон с поляками требовали в парламентских выступлениях и требуют до сих пор, кроме самой Варшавы, Литвы и Волыни, всю или почти всю Малороссию, левый берег Днепра в районе Ворсклы, если быть точным, и, что ужаснее всего, мать городов русских стольный град Киев. Боже мой! Кто во времена Пушкина болтал о подобных унизительных уступках? Ничтожный Моген, человек со стертым революционным профилем, изворотливый и лукавый вожак американских инсургентов маркиз де Лафайет, преследующий всегда французские цели, не то расстрельщик и национальный гвардеец, не то оплачиваемый агент короля-зонтика Луи-Филиппа. Кто бы говорил и кто бы эти захватные требования предъявлял императору Николаю Павловичу! Их тела давно истлели, их речи давно испарились, а война против России – сейчас кровавая – вспыхнула с новой силой. Ныне сам узурпатор Наполеон под римской цифрой III намеревается внезапным и триумфальным появлением на театре военных действий придать ей энергичный импульс. Да, Пушкин прав: «Вы грозны на словах – попробуйте на деле!»
А из Крыма поступали – и каждодневно – неутешительные вести. Да и петербургские ползучие сплетни и слезливые жалобы язвили душу и терзали сердце. На бастионах и редутах Севастополя православные люди гибли сотнями, хотя и англо-французскую коалицию косили тульские пули и ядра, а таинственные болезни и голод быстро сокращали некогда многочисленные и плотные – фасонистые и разноцветные – ряды. В Москве из рук в руки передавались карикатурные изображения Пальмерстона и Наполеона III, что служило весьма слабым возмещением понесенных потерь. Глядя на остроконечные – в ниточку закрученные! – усы императора, Константин Петрович удивлялся: как можно быть популярным политиком и, более того, главой не последнего на континенте государства, обладая столь пошлой внешностью? И этот человек отдал приказ французским адмиралам задерживать и топить русские корабли в водах Черного моря? Невероятно и непостижимо! И этот человек хвастливо обещал штурмом взять Константинополь и затем управлять миллионами православных, заткнув негодной пробкой от прокисшего шампанского проливы, дорогу к которым пробивали поколения русских воинов? Невероятно и непостижимо! Прав Катков – Россия в осаде! В осаде Севастополь, чужие руки тянутся к Северной Пальмире, на Дальнем Востоке ощерилась желтая раса, которая потихоньку просачивается сквозь молчаливую и извилистую границу, расколовшую плоскую, как ее лик, землю.
Сумятица фактов – непривычных и поразительных – неспешно, но настойчиво производила отнюдь не разрушительную, а созидательную работу в сознании Константина Петровича. Россию и православие стремятся уничтожить, английские газеты беззастенчиво обсуждают выгоды, кои получат европейцы после поражения николаевской армии и расчленения страны, в которой он родился и вырос. Дипломаты государств-интервентов прикрывают агрессивные планы рассуждениями о гибельных действиях меттернихского и александровского Священного союза. Но не русские оккупировали Париж, их туда привел сам Бонапарт. Не русские пересекли Ла-Манш и высадили несметные полки на белых скалах Дувра. Не русские вошли в Пьемонт и, празднуя победу, вышибали днища из бочек с молодым итальянским вином. Нет, не русские!
Императору ставят в упрек Польшу. Давний и нерешенный спор. Польша – не Россия. Нация славян-католиков желает свободы. Подобное стремление нельзя не уважать. Четверть века назад, однако, варшавские газеты открыто писали, что Балтийское море на севере, Черное море и Карпаты на юге, Днепр на востоке должны стать границами воскресшей Речи Посполитой. Да, давний спор! Не французам и особенно не англичанам выступать здесь судьями. Православным не пристало униженно ждать, пока католические монахи – а их на святой земле горстка! – передадут им ключи от храмов в Иерусалиме и Вифлееме. Вифлеемская звезда должна проливать божественный свет и на православных. Доступ к месту рождения Иисуса Христа будет открыт русским паломникам. Вифлеем не есть вотчина папистов.
Какой злой рок перенес столкновение противоборствующих сил в Крым?
Тяга к ГерценуКонстантин Петрович вспомнил студеный февраль 1855 года. Быстро наступала заваленная двугорбыми сугробами московская ночь. Только что в генерал-губернаторском доме получили эстафету из Петербурга о кончине императора. Печальная весть оглушила Константина Петровича. Мелькнула острая мысль: война убила его, как простого солдата. Сердце не выдержало безнадежно тоскливой череды поражений. Через несколько лет Анна Федоровна Тютчева рассказала Константину Петровичу о последних днях, предшествующих кончине. И среди многих потрясших его трогательных и простых подробностей он все-таки выделил одну.
Когда сын князя Меньшикова Владимир, мокрый и в изодранной шинели, примчался на перекладных в Зимний, император отказался принять курьера:
– Эти вещи меня уже не касаются. Пусть передаст депеши моему сыну.
Что он думал, отвергая единственную возможность ободрись чем-либо воюющую Россию в смертный час? Какая бездна отчаяния и разочарования обрушилась на человека, чья стойкость и несгибаемость вошли в поговорку? А быть может, он не пожелал свидания с сыном главнокомандующего, смещение которого уже было предрешено? И действительно, через два-три дня во главе русской армии встал граф Михаил Горчаков. Но и ему не суждена была честь удержать Севастополь. В конце августа французы ворвались в южную часть героически защищавшегося города. Севастопольская буря неслась над Россией, но совсем не как очистительный вихрь. Горечь и несправедливость поражения испепеляла надежды на будущее. Острота переживаний у Константина Петровича не притупилась. Разумеется, Крым и Севастополь нельзя отнять у русских, но становилось также ясно, что укрепления Тотлебена, который получил генеральский чин и выдвинулся в первый ряд военных деятелей по-прежнему могущественной империи, не раз еще пригодятся. Иные в Европе не откажутся от неуемного желания превратить белую с блестящим голубым отливом жемчужину в груду развалин. Они захотят навечно запретить кораблям под андреевским флагом бороздить волны Черного моря. Когда Константин Петрович возглавит знаменитый Добровольный флот, он едва ли не каждый день будет вспоминать крымскую обиду. Церковь и гигантский пароход имели много общего. Сравнение пришло к нему однажды ночью. А севастопольский страшный суд не завершится с эвакуацией войск, которые прислали туда французский авантюрист и тускло поблескивающий золотым шитьем высокомерный английский лорд, презирающий весь мир. Через девять – без малого – десятков лет на тотлебеновских бастионах погибнет на сто тысяч больше русских бойцов, не удержавших все-таки морскую крепость в своих руках. Падение Севастополя не повлияло роковым образом на жизнь Сталина, подобно тому, как оно приблизило кончину куда более чувствительного императора. Однако еще через пятьдесят лет этот удивительный город перестанет называться русским только лишь потому, что сталинский проконсул, палач и убийца Никита Хрущев подарит его – какое слово! – другой республике, которая странным образом превратится вскоре в независимое государство. Русское начнет мучительно превращаться в нерусское, демонстрируя опасность, пожалуй, смертельную, подобных превращений.
Конечно, Константин Петрович, обладавший незаурядным даром предвидения, не мог между тем и в ужасном сне вообразить дальнейшую судьбу Севастополя, но и случившегося при нем оказалось достаточно, чтобы поверженный Крым способствовал перевороту в сознании. Национальное в груди заговорило громче. Александр Герцен, который недавно вызывал у многих приятелей Константина Петровича и у него самого любопытство, смешанное с уважением, а чаще и особое политическое одобрение – с какой силой, например, он заклеймил русскую знать в Париже, весело отплясывающую на свадьбе князя Николая Орлова в обществе барона Дантеса де Геккерна: ну как тут не поддержать лондонского эмигранта! – теперь уже не виделся издалека таким умным и смелым. Исчезло желание передать в сверхпопулярный от нелегальности журнал какую-нибудь из приготовленных для печати статей. Тяга к Герцену иногда – чего греха таить – возникала, и тайное желание переправить в Лондон не устраивающее московские редакции сочинение угасло не сразу, но после долгих и мучительных размышлений. И вовсе не страх руководил Константином Петровичем: мол, полиции станет известно, и не замедлит он попасть под дубельтовский каток. Эмигрантский дух препятствовал, бумажное равнодушие к несчастьям Отечества.







