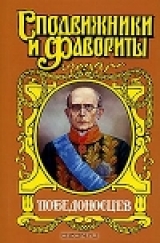
Текст книги "Победоносцев: Вернопреданный"
Автор книги: Юрий Щеглов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 51 страниц)
Спустя две недели от того дня, когда мальчишка всучил ему прокламацию на Невском, в часы настолько чистые, свежие и мягкие, какие редко выпадают хоть и в погожие весенние вечера, оглушительной вспышкой прокатилось по проспектам и улицам, которые по обыкновению заполняет народ в праздничный Духов день, дикая и несуразная весть: пожар!
Люди бежали неведомо куда, сталкивались, падали и, поднимаясь, опять неслись, пораженные сообщением, быть может, совсем в противоположном от нужного им направления. Петербург не Москва деревянная, горит не часто. Да и сам не загорается от свечки. И омундиренных французов-захватчиков тут нет, валить не на кого. И коммерческие немцы в несчастье не заинтересованы. А о христопродавцах евреях речи пока никто не ведет. Евреи никому глаза не намозолили. Тогда кто же, коли не чужеземцы? Какие враги? И скоро ли начнут жителей грабить? Начнут, конечно, когда огонь пожрет Толкучий рынок, с которого занялось. Огонь растекался по прилежащим лабиринтам, превращая узкие каменные траншеи в оранжевые мятущиеся потоки, и пробивался тот огонь к центральным районам – туда, где государственные механизмы закрыты сторожами, как и полагается, на ночь.
Как подгадали преступники! Торговая элита Апраксина и Щукина дворов не по домам сидела, не в ресторациях или трактирах, не в экипажах раскатывала по окрестностям, а в одном месте собралась, в Летнем саду, да со всеми чадами и домочадцами, а в первых рядах невесты и женихи себя показывали и незнакомых рассматривали. Впрочем, в Летнем собрались представители разных сословий и не одного купеческого положения, что, безусловно, усилило поднявшуюся сумятицу.
И клумбы пышные растоптали, и желтые песочные дорожки усеяли разноцветными туфельками, шляпками и шарфами.
– Как после демонстрации Литейный, – усмехнулся и почти вслух произнес Константин Петрович, прохаживаясь по кабинету, по-прежнему озаренному лунным свечением. – А кошельков-то нашли потом дворники немало, и от того кое-кто повел свое богатство.
Колокола зазвонили, рожки затрубили, брандмейстеры на конях пробивалась угрюмо и нервно, с бранью, к самым страшным очагам, разгоняя туповатую толпу, которая стояла на дороге, мешая, как всегда, распоряжениям тех, кого послало правительство. Солдаты с ведрами маршировали шеренгами, а за ними бабье с коромыслами, совершенно бесполезными на городском пожаре. Словом, русская неразбериха и неорганизованность в очередной раз продемонстрировала себя во всей хаотической неприглядности. Ни полиция, ни пожарная часть не были приготовлены к драматическому развороту событий.
Апраксин и Щукин дворы яростная стихия уничтожила беспощадно. Здесь есть чем поживиться не только лихим разбойникам и благородным экспроприаторам. Откровенное воровство и изъятие ценностей с якобы социальной целью в эпоху революций существуют в неразрывном единстве. Второй процесс лишь модификация первого. И строения, и товары как бы ждали горючей искры, чтобы после химической реакции, знакомой молодежи по гимназическим опытам, ударить сперва матово-серым, а затем черным крутым столбом в небо и, погодя рассеявшись, темной удушливой лавиной хлынуть через Фонтанку к Чернышеву переулку, к центру – к сердцу империи. Болтали, что началось с Лиговки: там, дескать, полыхнуло, от чьей свечки – неясно. Апраксин двор со всех углов подпалили мазурики, и они же принялись сеять в толпе всякие панические страхи. Прежде навалились на поляков. Подозрительно оглядывали будто бы похожих на шляхтичей, вислоусых и длинноволосых, прислушивались к шипящему выговору, но никого, конечно, не подловили. Поляки действительно проектировали пожар, что правда, то правда, но не в Петербурге, да не Апраксин и Щукин дворы являлись их целью. Здесь другая рука чувствовалась, другое направление – социалистическое. Так полагали далеко не наивные петербуржцы. Но опять никого не арестовали из «скубентов» и господ в эллипсоидных очках и мягких, с высокой тульей шляпах. Ситуация создалась по меньшей мере странная. «Молодая Россия» прокламировала насильственные действия и открытую резню, а пожары, растерзавшие столицу, казалось, служили воплощением революционных лозунгов – когда же, вооружившись топорами, крушить и бить, ежели не в сумятицу?! Однако исполнителей – таинственных карбонариев – в наличности нет, сцапать никого не удается. Недовольство обывателей день ото дня растет. Тысячи богатых и бедных утратили кров – не шутка! – бездомных и без того пруд пруди. Торговая и ремесленная мелкота потеряла деньги и имущество. Пресса взволнована и призывает правительство к немедленному действию. И тут впервые Константин Петрович сталкивается с фамилией талантливого журналиста, а впоследствии и добившегося народной любви писателя, к которому до самой смерти при всех оговорках остался неравнодушен.
Духов день – праздник Сошествия Святого Духа, на другой день Пятидесятницы. Воскресный день православные христиане зовут Троицей и Троицыным днем, понедельник – Духовым днем. Через сутки, в среду, вышла молниеносно нашумевшая статья, где упоминалось о безумных выходках политических демагогов, но отрицалась опасность их, этих выходок, для правительства. Вместе с тем автор утверждал мысль, что щадить адских злодеев не должно, но и нельзя ни в коем случае рисковать ни одним волоском ни одной головы, живущей в столице и подвергающейся небезопасным нареканиям со стороны перепуганной публики. Так выражалась популярная газета «Северная пчела», составившая себе репутацию охранительницы порядка задолго до возникновения пожаров, когда редакцией руководил покойный, кстати, вовсе не бездарный Фаддей Венедиктович Булгарин, ненавистник Пушкина и невольный любимец властей, которые вообще-то поляков не жаловали, особливо тех, кто желал заделаться вполне русским. Статья Стебницкого причинила массу неприятностей прежде самому автору, спустя сколько-то лет возвратившемуся к природной – Богом данной – фамилии Лесков.
Полиция и жандармерия вели себя довольно прилично и не хватали почем зря ни молодежь, ни прочих людей по наветам и ложным подозрениям. Причастных к пожарам так и не обнаружилось. Автор «Молодой России» некто Заичневский мерз в Петропавловской крепости, огонь съедал Петербург подряд две недели, а Чернышевского взяли вовсе не потому, что одиозное имя трепала возбужденная толпа, искавшая виновных, а из-за письма Огарева, в котором проскользнула однажды фамилия саратовского поповича. Лондонские эмигранты предлагали Николаю Гавриловичу конспиративно печатать «Современник» за границей. Сомнительный, аванс появился в «Колоколе» в виде выражения готовности вступить в сотрудничество. Герцен, постоянно и в первую голову заботящийся о собственной безопасности, что касается неприкосновенности остальных, правил не соблюдал. И речь о письме с упоминанием Чернышевского завел на пышном банкете, о чем без промедления сообщил русской полиции. Момент оказался напряженным и требующим распорядительности, незадачливого курьера задержали на таможне, и в результате генерал Потапов прислал полковника Ракеева, употребляемого по литературным делам, отвезти Чернышевского в Алексеевский равелин, что и было произведено.
«Крокодил»Слухи есть слухи, они расползаются пронырливой поземкой, иногда стихают, а затем с удвоенной силой всплывают на поверхность через десятки лет и вынуждают возвращаться к ним тех, кого задевают, и выступать иногда с объяснениями. Вот тут-то по обыкновению стоит поискать зарытую собаку. Вот тут и начинается невообразимая путаница. И путаницу эту никто уже и не в состоянии и не хочет распутать. У истоков ее мельтешат, как всегда, сексоты и добровольные сплетники в том числе. Они, например, разнесли по городу, а потом и по мемуарам, что из окон Чернышевского ночью в часы вселенского бедствия раздавался дьявольский смех. Естественно, подобного рода версии живут недолго. Зато они дают повод всяким диссертациям. Между тем слухи возобновились, втягивая в порочный круг не только современников, но и потомков. Они – речь идет о слухах – проникали в различные политические произведения различных ангажированных авторов и начинали существовать как бы отдельно от действительных событий, становясь мифами и умножая жалкую неразбериху.
В орбиту кошмарных пожаров судьба втянула и будущего друга Константина Петровича, недавно возвратившегося с каторги писателя Федора Достоевского. Мало того, какие-то ниточки связали обер-прокурора с русско-американским мастером и профессиональным энтомологом и коллекционером Владимиром Набоковым, с дедом которого, Дмитрием Николаевичем Набоковым, Константин Петрович числился в однокашниках, а с отцом Владимиром Дмитриевичем тоже был знаком, но не очень, правда, близко. Центральный персонаж романа «Дар» Федор Константинович Годунов-Чердынцев, пробующий перо прозаик, будучи в эмиграции, куда его выбросила коммунистическая революция, избрал героем своего повествования Николая Гавриловича Чернышевского. Используя различные чужие сведения, впрочем, из одного, кажется, источника, и не им собранные темноватые материалы, этот Годунов-Чердынцев достаточно безжалостно расправился с долголетним несчастным сидельцем, участь которого никто не мог скрасить.
Император Александр Николаевич наотрез отказывался обсуждать судьбу Чернышевского:
– Не напоминайте мне об этом человеке! Не напоминайте!
Облегчение Чернышевский получил лишь при очередном императоре, Александре Александровиче, который посчитал излишним длить столь мучительное наказание. Однако стоит подчеркнуть, что умерщвленный террористами из «Народной воли» император, безусловно, знал что-то, чего мы не предполагаем. Отрицательное отношение к Чернышевскому в Зимнем дворце оставалось ровным и неизменным. Вполне вероятно, что непрекращающиеся покушения были тому основой. Любой стремящийся к освобождению Чернышевского агент интернационалки без колебаний навел бы пистолетное дуло на царя.
Однажды в самом начале семидесятых годов Достоевский рассказал Константину Петровичу историю появления в некрасовском журнале отрицательной рецензии на «Преступление и наказание». Сам Николай Алексеевич сознался, что ругательный отзыв редакция поместила в отместку за то, что в повести «Крокодил» Достоевский якобы не постыдился посмеяться над беззащитным ссыльным и окарикатурить его. Достоевский, разумеется, горячо отрицал намек на малейшее сходство. С печалью должен заметить, что при внимательном чтении повести я так и не сумел отделаться от впечатления, что поверхностная связь с гоголевским «Носом» изобретена Федором Михайловичем и что в образе Ивана Матвеевича выведен именно Николай Гаврилович, а сам крокодил есть не что иное, как прожорливая Сибирь. Меня не убедили и не пристыдили даже горячие речи самого Достоевского, произнесенные перед Некрасовым:
– Да ведь это сплетня, самая пошлейшая сплетня, какая только может случиться. Ведь нужно иметь ум и поэтическое чутье Булгарина, чтобы в этой безделке, повести для смеху, прочитать между строк такую «гражданскую» аллегорию, да еще на Чернышевского! Если бы вы знали, как глупа такая натяжка!
Напрасно здесь Федор Михайлович напал на Булгарина. Редактор «Северной пчелы» обладал и поэтическим и политическим чутьем. Иной аспект – нравственность. Полагаю, что Булгарин справедливости ради признал бы, что в приключениях Ивана Матвеевича есть сатирические гипертрофированные черты ситуации, в которую попал Чернышевский.
В «Дневнике писателя» за 1873 год в разделе «Нечто личное» Достоевский помещает рассказ о своем свидании с Чернышевским, из которого следует, что встретились они впервые в 1859 году, а посетил Федор Михайлович квартиру близ Владимирской церкви в доме Есауловой через три года – летом 1861-го, когда на ручке двери обнаружил прикрепленную прокламацию «К молодому поколению», написанную Михайловым и Шелгуновым. Достоевский подробно излагает собственные мысли и переживания по этому поводу. Он решил обратиться к Николаю Гавриловичу с предложением выразить резкое порицание авторам и разбрасывателям бессмысленной и вредной прокламации. Чернышевский ответил, что с авторами и разбрасывателями прокламации он незнаком и что он не солидаризуется с их безумными призывами. Однако будущий автор романа «Что делать?» заметил незваному посетителю: явления эти, как сторонние факты, неизбежны. Мысль совершенно марксистско-ленинская и вполне во вкусе петропавловского произведения.
Достоевский весьма тепло и благожелательно отзывается о личности государственного преступника, отбывающего тюремное заключение. Арест Чернышевского, по словам Федора Михайловича, произошел месяцев через девять после описанной встречи.
Различный дар неприятияВот, собственно говоря, и все. Однако раздраженный Годунов-Чердынцев и выглядывающий из-за его плеча Владимир Набоков вслед так не любимому ими Чернышевскому утверждают абсолютно иное, и это надо подчеркнуть двумя волнистыми линиями – поразительно? Булгаковская сумятица охватила участников, как мы видим, нескончаемого сюжета.
Владимир Набоков пишет: «Духов день (28 мая 1862 года), дует сильный ветер; пожар начался на Лиговке, а затем мазурики подожгли Апраксин двор». Претензий к автору в данном случае нет. Он точно констатирует происходящие события. Но дальше начинается художественное или то, что выдается, к сожалению, за художественное. Набоков создает странный образ, который несколько не вяжется с тем, что мы знаем о Достоевском: «Бежит Достоевский, мчатся пожарные…» В разноцветных шарах «вверх ногами» на миг отражается бегущая фигура. Здесь внутреннее состояние взволнованного Достоевского принесено в жертву видимости, картинке, созданной в стиле модернистических увлечений автора. А там густой дым повалил через Фонтанку к Чернышеву переулку, откуда вскоре поднялся новый черный столб… Между тем Достоевский «прибежал». Ничего и отдаленно похожего у Достоевского в «Дневнике писателя» нет, и в других – его руки – источниках тоже нет, хотя движение пожара указано, насколько можно судить, верно.
«Прибежал к сердцу черноты, к Чернышевскому, – продолжает Годунов-Чердынцев-Набоков, – и стал истерически его умолять приостановитьвсе это. Тут занятны два момента: вера в адское могущество Николая Гавриловича и слухи о том, что поджоги велись по тому самому плану, который был составлен еще в 1849 году петрашевцами».
Откуда же Годунов-Чердынцев-Набоков взял истерику Достоевского и прочее? Ясно, что не из признаний в «Дневнике писателя». Тогда откуда? Из мемуарной заметки самого Чернышевского или из воспоминаний Шаганова, вышедших из печати в 1907 году.
Странно, ей-богу! Не доверять Достоевскому и идти след вслед за Чернышевским, который в «Даре» подвергся и осмеянию, и окарикатуриванию, и в общем, надругательству, неслыханному в отечественной словесности. Если признать, что «Крокодил» имеет отношение к Чернышевскому, то сравнить оскорбительность лепки там с утонченным издевательством в «Даре» нельзя.
Несомненно, Владимир Набоков и другие противники и критики Чернышевского правы в своих претензиях. Я тоже отрицаю гражданскую и политическую позицию Николая Гавриловича и отрицаю роман «Что делать?», а также эстетическую концепцию автора. Мне неприятно его письмо, адресованное Александру II из Петропавловской крепости, где он делает попытку самооправдаться и подводит коммерческий итог деятельности «Современника», убеждая императора, что ему нет резона выступать против правительства. Но я также и, быть может, с большей твердостью отрицаю глумливый и недостойный тон четвертой главы «Дара». Я не желаю смеяться над большевиками, которых сталинские палачи убивали в подвалах зданий на Каретном ряду и в подземельях Лубянки. Умирая с именем Сталина на устах, они оказались ужасной, но отнюдь не случайной и не карикатурной жертвой своей же политики насилия и своих отвратительных – примитивных – заблуждений. Но смеяться над ними?! О, нет! Глумиться, злорадствовать и кричать им в затылок: «Поделом!»? О, нет! А большевики первой и второй волны принесли мне и моей семье не меньше горя, чем Годунову-Чердынцеву и отвечающему за него Владимиру Набокову. Сами по себе обнаружившиеся противоречия в тексте «Дара» комичны, но свидетельствуют о весьма серьезном: в конце тридцатых годов Владимир Набоков еще не набрал настоящую облагороженную мощь и пробирался к заветной цели – разгрому антигуманистической сущности социализма лишь ощупью.
Еще два слова по поводу затронутого сюжета. Чернышевский относит упомянутую встречу с Достоевским к лету 1862 года. Через пару-тройку дней после пожара, истребившего Толкучий рынок, слуга подал визитную карточку с фамилией писателя, не так давно возвратившегося с каторги и после солдатчины, Чернышевский тотчас принял посетителя. Как видим, расхождение значительное и важное. В то время в Петербурге распространялась прокламация «Молодая Россия», а не прокламация «К молодому поколению». Существо беседы изложено Чернышевским непохоже. Речь велась якобы не о прокламации, а о пожарах. Николай Гаврилович изображает Достоевского человеком с расстроенными нервами. В мемуарной записи есть неприличная фраза: «Увидев, что умственное расстройство бедного больного имеет характер, при котором медики воспрещают всякий спор с несчастным…» Жестко, гневливо, безжалостно, вроде обиделся на «Крокодила».
Ей-богу, Достоевский в отзывчивости и снисходительности к чужим слабостям опережал потерпевшего крушение Чернышевского. Но вот что поразительно, вот что странно: зачем Владимиру Набокову понадобилось плестись в хвосте у социалистического лжепророка, который столь грубо и беспардонно язвил память великого писателя? Зачем он заставил как безумного бежать Достоевекого, державшегося за шляпу? Ради чего? Ради скульптурно вылепленного кадра?
Нет ответа. Я большой поклонник поэзии Набокова. «Расстрел» сопутствует мне всю жизнь. Но я не в состоянии понять, как можно поэтов пушкинского созвездия называть второстепенными поэтами и в то же время бесконечно цитировать примитивно мыслящего литературоведа Бродского в комментариях к «Евгению Онегину»?
Прокламация «Молодая Россия», чьи крайности осудил даже не склонный к сантиментам Михаил Бакунин, и двухнедельные опустошительные пожары произвели на Константина Петровича неизгладимое впечатление. Он, я уверен, посетил выгоревшие места Петербурга, и, очевидно, тогда что-то сдвинулось в сознании одного из любимых цесаревичем наставников. Гарью отдавал воздух, гарью пропахла одежда, следы горелого остались на обуви. Он не имел оснований утверждать, что «Молодая Россия» и поджоги – дело одних и тех же рук, но связь, бесспорно, существовала. Мазурики ли подпалили, или кто-то их научил? Хотели подстрекатели вызвать возмущение мелких торговцев, рабочих и ремесленников, не успевших реализовать свой товар в лавках Толкучего рынка, или ими руководили непонятые нами мотивы? Рассчитывали ли Политические безумцы и демагоги на окровавленную вспышку недовольства, или Петербург стал жертвой случайностей и совпадений?
Нет ответа.
Воображаемый разговорКак правовед Константин Петрович не счел бы для себя возможным кого-либо обвинить в намеренном преступлении. Однако последующие террористические акты навели его на грустные размышления. Это безусловно и иначе просто не могло произойти. Не мог он не затронуть эпоху пожаров и в разговорах с близко к нему стоящим в 70-х годах Достоевским, не мог он пропустить в дружеских откровениях и фигуру Чернышевского, и я полагаю, что оба обсуждали волнующее их, и не раз. По мемуарам, переписке и архивным документам немногое воскресишь. Здесь стоит сделать ставку на воображение. Есть же у Пушкина «Воображаемый разговор с Александром I». И знаете ли, куда как хорошо получилось! С грустными нотками и вместе с тем – с юмором и иронией. Как Константину Петровичу не взволноваться, когда до него дошли слухи, что радикально настроенные студенты вместо того, чтобы учиться, учиться и учиться, проектируют захватить цесаревича Николая Александровича в Царском Селе и за освобождение потребовать у императора принятия конституции!
А почему бы и нет? Мало ли злодейских планов вынашивалось в студенческих аудиториях и на молодежных сходках, где даже под масками выступали, чтобы полицию и устрашить и запутать. В нынешние времена воровство людей и шантаж – обыкновенное явление. Перенеситесь в Чечню, и вы увидите, что творится под флагом национально-освободительной борьбы. А начиналось-то загодя! И все в масках! И все в масках!
Позднее, я в том почти уверен, Константин Петрович говорил Достоевскому:
– Опыт всяческих революций свидетельствует, что ее инициируют мазурики, люди озлобленные и обездоленные, жители подвалов и окраин. Они решительно готовы на все. Вакханалия убийств их не останавливает. Затем власть над этой одичавшей, разъяренной массой захватывают робеспьеры с дантонами. Они имеют за плечами организацию и одурманенных властолюбием поручиков, жаждущих создать хорошо вооруженную армию. Но загнать мазуриков обратно в норы им никогда не удавалось. Именно мазурики, мелкие воры и жалкие, опьяненные ненавистью палачи способствовали всегда радикализации обстановки. Вот почему страшна любая революция, всегда заканчивающаяся тем, что приходит ранее скрывающийся в пыльных кулисах энергичный и молодой диктатор, подавляющий всех и вся. Прежде с помощью разбушевавшейся солдатни он уничтожает вождей социального беспорядка, а во вторую очередь – смиряет толпу. Именно он топит утопию в пучине красной жидкости, хлещущей из вскрытых ножом вен. Охватывает ужас от мысли, что произойдет в России, если нигилятина восторжествует. А она восторжествует, если литература будет продолжать учить народ презирать власть и полицию и требовать немедленных перемен в законодательстве.
– Она не восторжествует, – отвечал Достоевский, – хотя она и готова к резне и огню. Брат, однако, в эпоху, предшествующую пожарам, готовил статью, в которой отвергал злодейские намерения у студентов. С нее-то и начались у нас неприятности. Цензура глупа и не видит дальше собственного носа.
– Тайну поджогов никто не раскроет. Это я вам даю голову на отсечение. Но без политической уголовщины тут не обошлось. Они поднимут руку и на царя. Мечтал же Каховский и иже с ним вырезать всю фамилию Романовых.
– Неужели тайное не станет явным? В заграничных газетах напишут правду.
– И не надейтесь. Революционная уголовщина ни за что не признается. Русский уголовный мир настолько отвратителен и бессовестен, что раскаяние для него совершенно невозможно. Сознательная и отпетая уголовщина безрелигиозна. Она давно потеряла Бога.
– Нет-нет, я убежден, что истина когда-нибудь обнаружится.
– Она давно обнаружилась, – сказал мрачно Константин Петрович.
– Как? Где? Кто ее обнародовал?
Константин Петрович усмехнулся. Он пристально взглянул на наивного и честного писателя, стоявшего в двух шагах от мировой славы, и сказал:
– Через неделю после того, как вспыхнули Апраксин и Щукин дворы, начисто выгорели Большая и Малая Охты. В Ямской почти не осталось домов. Пламя опустошило весь четырехугольник между Кобыльской улицей и Литовской, от церкви Иоанна Предтечи до Глазова моста. Какая вам еще нужна правда? Разбрасывали прокламации накануне пожара, выдвигали план захвата цесаревича, и ни одного загримированного оборвыша со свечой генерал Потапов не сумел схватить! Какая же вам еще нужна правда?
– Судебная реформа помогла открытию многих преступлений, – заступился за отечественную юриспруденцию Достоевский.
– Да, это так. Но в то же время она помогла неисчислимому количеству негодяев уйти от возмездия.
– Но вы, Константин Петрович, были ее провозвестником.
– К сожалению. Подчеркну только, что намеченное в России не скоро будет достигнуто. Ни в нашем столетии, ни в будущем. Что можно Лондону, то вредно для Москвы.
И он оказался прав. Многие положения монархической судебной реформы 1864 года до сей – демократической – поры не осуществлены в нашей стране. Об эре сталинского социализма и толковать нечего. Похожего на коммунистический суд история человечества не знала.
– Значит, вы уверены, что петербургские пожары есть тайна за семью печатями и никому ее не распечатать?
– Секретность происшедшего при явности результатов подтверждает опытность руки поджигателей. Такая цепочка характерна для политической уголовщины. Ее, эту политическую уголовщину, очень трудно вывести на чистую воду. Обыкновенные злодейства часто творятся в алкогольном бреду. Политические расчеты легче инспирируются. Мы находимся в самом начале правового осмысления революционной уголовщины. Смена государственного строя лишь усугубит прошлые преступления. Ротация кадров будет производиться с помощью расстрелов. Россия погрузится во тьму.
Небо над Петербургом и впрямь быстро набухало темнотой, а ветер, дующий с Невы, пробирал до костей. Константин Петрович запомнил неслучайную встречу с Федором Михайловичем навсегда. Они распростились у Театрального моста, и Константин Петрович свернул на набережную Екатерининского канала, обагренную через несколько лет кровью покойного императора. Необъяснимым образом зловещее место и пришедшее в голову соединение слов «революционная уголовщина», мягкая рука Достоевского и чуть осевший голос не берегущего себя от простуды человека всплывали в особенно грустные и тревожные минуты.







