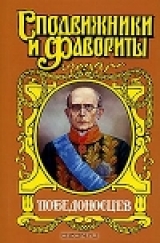
Текст книги "Победоносцев: Вернопреданный"
Автор книги: Юрий Щеглов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 51 страниц)
– Идеи всеобщего мира и братства между народами чудо как заманчивы. Не менее заманчива полная свобода международной торговли. Но все это идеалы, к которым может пока только стремиться человечество.
– Россия должна возглавить движение к таким прекрасным идеалам, – обрадованно соглашался цесаревич. – Я мечтаю…
И он с необыкновенной пылкостью предавался прекраснодушным фантазиям. Константин Петрович не препятствовал потоку его мыслей, освежающему будни. Лишь после значительной паузы он произносил формулу, которая отчасти остужала горячую голову цесаревича:
– Если мы, ваше высочество, во имя этих верно оцененных и воспетых вами идеалов начнем забывать собственные насущные и эгоистические интересы, а для реализации их необходима упорная, повседневная и иногда скучная деятельность, то, право, никакой красотой идей европейцев мы не убедим и не покорим, зато добьемся абсолютно противоположного результата: нас же будут обирать и над нами же будут смеяться!
Насмешки юность не прощает. Насмешка режет, как нож острый. Насмешка – хуже и изобрести нельзя.
– Да-да, – отвечал цесаревич, – надо трудиться каждый час, каждую минуту. Путь к триумфам не усеян розами.
– Надобно вникать в мелочи. Надо познать механизмы производства, общие их закономерности. Ничем нельзя пренебрегать. Вот, например, финансы, которыми располагает наше население. Раздробленные народные сбережения не должны лежать мертвым капиталом. Их надо с толком использовать, создав для вкладчиков максимально благоприятные условия.
– Какие?
– Человек хочет свести потери к минимуму. Он не может позволить себе идти на крупный риск. Вот в каком направлении надо думать министру финансов. А сколько народных крох можно собрать по всей России и как полезно их затем употребить на благо промышленности, оживление торговли, постройку дорог, учреждение банков!
– Странно, что ничего подобного у нас не делается. Куда же смотрят министры, Государственный совет и Сенат?
– Предложений со всех концов и от разных чиновников поступает предостаточно. И споров ведется немало. А тем временем крохи эти гибнут непроизводительно, заткнутые где-нибудь в подполье или, завернутые в тряпки, покоятся в сундуках.
Позднее мысли, пришедшие ему на ум при обмене мнениями со взрослеющим на глазах цесаревичем, Константин Петрович изложил в книге о путешествии, коснувшись самых разнообразных впечатлений и делая самые оригинальные для той эпохи выводы увиденного и услышанного, придавая на бумаге всему, как магнитом, собранному стройность и последовательность – качества, присущие законоведческим работам высочайшего класса.
– Тот, кто умеет хозяйничать, сумеет и защитить рубежи отечества.
– Да-да, – отозвался цесаревич. – Драгомиров придерживается той же точки зрения. Он считает, что закупки оружия, проведенные в намеченные императором Николаем Павловичем сроки, изменили бы ход войны, а Севастополь удалось бы отстоять.
Юноша окончательно, хоть и постепенно завоевал сердце Константина Петровича. Сейчас, вспоминая давнее, он с невероятной тоской думал, как несправедлива судьба к России, отобрав у нее цесаревича. Все иначе бы сложилось. Что же в нем содержалось такого, что отличало от великого князя Александра Александровича и остальных братьев? Сочетание внутренней природной, от Бога, мягкости, сердечного ума, тяги к образованию и познанию нового с твердостью и убежденностью, присущими русскому характеру, вернее, его идеальной модели. Он отыскал в цесаревиче другой полюс. Придворная лесть и интриги претили неиспорченной молодости. Цесаревич перешагнул возраст, когда дурное могло бы без особых усилий одержать верх.
Худший вид рабстваПутешествие не прошло для Константина Петровича даром. Он учился необходимому быстро, на лету. Перед ним впервые раскрылась подлинная мощь России. Но вместе с тем он впервые столкнулся с не прикрытой цветистыми речами проклятой реальностью. С нищей Русью, да не на паперти, не кукольной, не прячущей глаза, а голодной, убогой, смотрящей пристально, с вызовом и ненавистью и, что хуже остального, с поголовно неграмотной. Он столкнулся со страхом людей, брошенных на произвол помещиков, готовых содрать три шкуры и с того, с кого сдирать уже было нечего. Он столкнулся с целым слоем дворян и купцов, жаждущих лишь продавать и не желающих ничего производить, а так как продавать не всегда есть что, то хищники и моты обратили свой ненасытный взор на землю. Ее не надо производить – вот она, под ногами! Россия издревле держалась общиной. И община оградит крестьян от неминуемого разорения. Отнять у общины землю, согнать с нее крестьянина, пустить землю в оборот, превратить ее в вольный товар есть путь к разрушению государственного строя, потому что Россия – это и есть ее государственный строй. Он вспомнил, глядя сейчас на чернеющую ленту Литейного проспекта, что именно тогда, среди бескрайних равнин, пришла ему в голову мысль, что, стремясь, на основании общих начал, к водворению экономической свободы, можно породить свободу нищенства, которая повсюду бывает самым худшим видом рабства.
Но не наступило тогда еще время бросить возникшие разрозненные думы на бумагу. Ни он, ни страна не были приготовлены к тому. А когда он эти думы обнародовал, страна уже катилась по гибельному – революционно-террористическому пути в бездонную пропасть.
Смерть единомышленникаНаступившая весна оказалась одним из самых тяжелейших периодов в судьбе недавно назначенного обер-прокурора и, пожалуй, была сравнима лишь с осенью 1905 года, когда поднявшаяся в недрах евроазиатского континента буря увлекла его в пропасть. Новое для Екатерины Александровны роскошное по петербургским меркам жилище, перешедшее от графа Дмитрия Андреевича Толстого, приводили в надлежащий – более скромный для Победоносцевых – порядок с большим трудом, учитывая устоявшиеся вкусы и пожелания хозяев, для которых молитва и работа, а также помощь нуждающимся и родственникам являлись важнейшими и непременными элементами, из коих составлялась ежедневная жизнь. Вот, например, будто бы пустяк – бумаги и книги, а их приходилось каждый раз перекладывать с места на место и смахивать пыль, чтобы не затерялись и не пожухли. Они обладали такой неприятной особенностью. На глаза случайно попалось недавнее письмецо от Льва Толстого и невольно перечиталось повторно: «Я знаю вас за христианина – и, не поминая всего того, что я знаю о Вас, мне этого достаточно, чтобы смело обратиться к Вам с важной и трудной просьбой передать государю письмо, написанное мной по поводу страшных событий последнего времени». Константин Петрович вспомнил растерянное и даже испуганное лицо Страхова и нескрываемое стремление его как можно быстрее покинуть кабинет, оставив конверт на столе. Сейчас Константин Петрович взял карандаш и, чтобы избавиться от гнетущей все-таки мысли, в которой, правда, отсутствовало малейшее раскаяние, но зато присутствовало, безусловно, желание объясниться с историей, мелким, отлично натренированным почерком набросал: «Он писал, что необходимо оставить злодеев без всякого преследования». Таким образом обер-прокурор завершил диалог по; сему поводу с яснополянским графом.
Ни на что не обращающая внимание петербургская – несозревшая – весна счищала остатки зимы с площадей и проспектов. Константина Петровича возмущало, что эхо зловещего взрыва на Екатерининском канале угасло почти мгновенно. Политическая борьба как бы пригасила провонявший порохом и кровью раскат. Двор, правительство, свет и знать, выразив ошеломленному государю соболезнование, носившее формальный, быстротекущий и скороспелый – без всякого подлинного чувства – характер, схватились за старое, как утопающий хватается за единственную соломинку, продолжая привычный modus vivendi. Настоящая скорбь стала уделом исключений. О еще живых и ждущих суда террористах тревожились открыто и без тени укоризны по адресу убийц.
Гибель монарха не воспринималась как гибель обыкновенного человека и христианина. И это поражало Константина Петровича прежде остального. Никто не проронил ни слезинки. На искренне горюющего смотрели как на лицемера. Рассуждали о чем угодно, но только не о мучениях людей, пострадавших от подлого убийства. Хотелось выйти к Исаакию или Казанскому собору, воздеть руки к небу и воскликнуть: «Православные, опомнитесь!» Но нет! Городское бытие текло своим чередом, и на любого воззвавшего к раскаянию взирали бы как на неисправимого чудака. А между тем год начался с жестоких и угрожающих дней.
В конце января умер Достоевский, а за четыре дня до кончины Федора Михайловича хоронили князя Дмитрия Александровича Оболенского, прелестного, умного и интересного человека, непременного участника собраний у баронессы Эдиты Раден. Несомненно, он был типичным баричем, часто высказывал нелепые суждения, но Анатолий Федорович Кони, давший ему уничтожающую характеристику за приверженность к телесным наказаниям, не преминул все-таки подчеркнуть, что князь производил впечатление довольно порядочного и развитого субъекта. Оболенский вращался среди интеллектуалов: Милютин, Черкасский, Соловьев и другие члены кружка великой княгини Елены Павловны признавали его своим. Лев Толстой, однако, рассказывал Кони, будто Оболенский серьезно утверждал, что для сокращения побегов важных преступников их следовало бы ослеплять и тем отнимать физическую возможность бежать. Странно, как столь разные понятия и принципы умещались в одном человеке. Или их соединил, несколько переиначив, сам Кони?
Не исключено, что Лев Николаевич как-нибудь да преувеличил, а, вероятнее, Кони не очень точно изложил слова Оболенского. У Анатолия Федоровича в воспоминаниях всегда присутствует обвинительный уклон и налицо хорошо известное качество заправских мемуаристов, то есть тех, кто делает записи не по свежим следам, подправлять былые сюжеты и образы сиюминутными конъюнктурными необходимостями. Они, образы, постоянно выглядят куда лучше окружающих людей и непременно одерживают над ними словесные победы, ставят, например, начальство на место, читая ему, начальству, многостраничные лекции о честности, справедливости и важности поступать совершенно недвусмысленным антиправительственным способом. Так, граф Пален, министр юстиции при Александре II, не самый глупый министр в истории России, рисуется Анатолием Федоровичем смущенным и вечно оконфуженным недалеким чиновником, выслушивающим подолгу прописные юридические истины. Нельзя себе представить, что остзейский аристократ и гордый владелец великолепного замка и имения Гросс-Ауц, один из тех, кто осуществлял замечательную судебную реформу 1864 года, позволял Кони нравоучительным тоном говорить в свой адрес то, о чем мы сталкиваемся на каждом шагу в воспоминаниях о деле Веры Засулич. К ним придется не раз обращаться, потому что случившееся в середине июля 1877 года в доме предварительного заключения и выстрел 24 января 1878 года оказали определенное, хотя и не решающее воздействие, как утверждают террористы, прогрессивные экстремисты и либеральные демократы вкупе с Анатолием Федоровичем Кони, на зверское убийство императора шайкой – иного слова не подберешь – недоучившихся студентов, безразличных к судьбе страны. Аргумент невежественных – насилие.
Со смертей начался этот проклятый восемьдесят первый год – год, перевернувший жизнь и Константина Петровича, да и всей России. Несмотря на участие в подготовке судебной реформы, несмотря на многие успехи в личной профессиональной деятельности, новый обер-прокурор не переставал выражать недовольство сменой настроений в обществе, неустойчивостью власти, противоречивым подходом к проводимым весьма серьезным – коренным – изменениям. Его письма к сестрам Тютчевым наполнены горечью. Можно с уверенностью предположить что мартовскую трагедию, к которой вела цепь отвратительных убийств и иезуитских покушений на монарха, Константин Петрович предчувствовал задолго до взрыва на набережной.
В самых последних часах января Константин Петрович писал тогда еще наследнику: «Вчера вечером скончался Федор Михайлович Достоевский. Мне был он близкий приятель, и грустно, что нет его. Но смерть его – большая потеря для России. В среде литераторов он – едва ли не один – был горячим проповедником основных начал веры, народности, любви к отечеству». Через графа Лорис-Меликова Константин Петрович, не имевший доступа в покои Александра II, передал императору просьбу помочь семье, которой великий русский талант ничего не оставил, кроме книг. У края могилы в Невской лавре Константин Петрович думал о прошедших днях, о том часе в субботу, после всенощной, когда приходил Достоевский и они говорили долго и много за полночь, иногда горячо и страстно, иногда медленно и неторопливо, но всегда предельно откровенно и искренне. Часто Достоевский приносил рукопись и читал хрипловатым голосом – внятно и с присущей только ему доверительной теплой интонацией, не менявшей смысл, без пафоса и наигрыша, но выявляя в прозе самое главное, самое драгоценное: ритм и мощное, нарастающее, лавинообразное движение пластической звуковой массы. Это были лучшие минуты сердечной жизни двух неразрывно связанных людей. Ошибался Иван Алексеевич Бунин, когда заметил и даже приводил примеры в подтверждение, что Достоевский писал дурно.
Ужасный год гибели монарха начался со смерти единомышленника.
Хлыщи и красавцыКазалось, несчастья и неудачи подстерегали за каждым углом, но, разумеется, мало кто был готов внутренне к мартовским идам. После взрыва, учиненного Халтуриным, охрана взялась за ум и принялась за организацию дела безопасности с удвоенной энергией. Полицеймейстер Дворжицкий, кстати, руководивший сечением Боголюбова в доме предварительного заключения, перешел в императорскую охрану и, ничуть не смущаясь и не страшась ответственности, возглавил ее. Дворжицкий – поляк по происхождению, что, впрочем, не мешало удачно складывающейся карьере вопреки давнему высочайшему повелению, отданному более чем десять с лишним лет назад, которое гласило: ни в каком случае не допускать на службу католиков, поляков, выкрещенных из евреев и чисто православных русских, женатых на выкрещенных еврейках и присоединенных в православие католических польках. Один из крупных знатоков агентурных мероприятий сетовал, и не без оснований, что охрана государя представителями упомянутых национальностей переполнена. Яркий пример – полковник Дворжицкий, весьма дурно зарекомендовавший себя после вынесения приговора Засулич. Вместо того чтобы изолировать ее, а затем испросить дальнейших указаний у высшего начальства, он последовал приказу того же Анатолия Федоровича Кони, но выпустил террористку на Шпалерную прямо в возбужденную и сопротивляющуюся жандармам толпу, а Кони просил провести Засулич через ворота на Захарьевскую – пустынную и широкую улицу, по которой оправданная в соответствии с законом молодая женщина уедет куда ей вздумается. Дворжицкий поступил иначе, возможно, из карьерных соображений. Засулич между тем все равно исчезла и обрекла полицию на долгие бесполезные поиски. Не очень-то умно поступил полковник! В сущности, против желания собственного начальства. И вот такому-то красивому и элегантному хлыщу была доверена охрана государя после покушений Соловьева и Халтурина. Соловьев стрелял, а царь, как заяц – петляя, бежал от него, чем и спасся. И никого из агентов и охранников не уволили. Халтурин проник во дворец и пользовался там доверием до тех пор, пока не объявил себя взрывом.
Болея в феврале гриппом и сидя на Литейном под присмотром врачей, слабея от лекарств и тяжелых дум, Константин Петрович, конечно, не мог вообразить и в страшном сне, что на него да и на всю Россию обрушится через две недели. Правда, какие-то предчувствия угнетали его. В конце января он почему-то часто вспоминал о Николае Михайловиче Баранове, именуя, с присущей ему иронией, этого сильного, по мнению многих, человека ковенским искателем подвигов и приключений. Красавца Баранова отправили губернаторствовать в неспокойное Ковно, вытребовав из зарубежной командировки в Румынию и Францию, куда его послал граф Лорис-Меликов для наблюдения за революционерами. Необходимость в крепком, мощном руководстве ощущалась остро, и ближайшие события послужили тому печальным подтверждением. Если бы царской охраной занимался не глуповатый формалист Дворжицкий, который расставлял полицейские посты по Невскому и понатыкал по пути следования не очень внимательных и подготовленных топтунов, не умеющих отличить настоящих уличных прохожих и праздношатающихся от действительных метальщиков-бомбистов, гибель монарха была бы предотвращена и история России покатилась бы по иному пути. На месте кровавых событий Дворжицкий вел себя куда как трусливо и нелепо. Вместо того чтобы не позволить силой императору приблизиться к Рысакову и повернуть от него к Гриневицкому, таким образом предотвратив неминуемую смерть, он не прикоснулся к священной особе государя, не преградил ему путь и, по сути, стал одним из виновников происшедшего несчастья. На месте бойни возникла страшная неразбериха. Никто, кроме императора, не проявил смелости и непреклонного желания исполнить долг. Как юристу, знакомому с приемами уголовного разбирательства, Константину Петровичу ужасная картина случившегося на изуродованной взрывом набережной Екатерининского канала по прошествии нескольких часов стала совершенно ясна.
Дефицит охранных кадровЕго мысли о том, что во главе команды охранников и градоначальства должны появиться новые люди, способные переломить ситуацию, и не на словах, а практически, к сожалению, стали в очередь дня. Надо бы, чтобы в очередь дня их ставили пораньше. Примчавшийся из Ковно Баранов довольно долго ждал назначения. Только через восемь дней после убийства он сменил потерявшего управление городом Федорова и самым активным образом включился в следствие. В Петербург были стянуты дополнительные жандармские части, дорогу на Гатчину закрыли наглухо и начали вести осветительные и мостовые работы для безопасного проезда всех, кто посещал императора и семейство.
Два раза в день Баранов приезжал навестить обер-прокурора. На Литейном выставили дополнительные полицейские наряды. Новый родоначальник проявлял подлинную заботу, отлично зная, как относятся террористы к ближайшему окружению царской фамилии. Обер-прокурор Святейшего синода зачислялся в наиболее ненавистные деятели режима, и не по должности, а по духу и тому влиянию, которое оказывал на покойного государя и ныне здравствующего, хотя к убитому Константин Петрович не испытывал в последние десятилетия особой симпатии по многим и весьма веским основаниям.
– Высокому назначению Баранов обязан нашему китайскому мандарину, – сказал язвительно Валуев, чья карьера после первого марта стремительно покатилась под уклон. – Китайский мандарин прежде подправлял, но не управлял. Теперь же он будет царствовать.
Перед отъездом в Манеж покойный император послал за графом, чтобы окончательно обсудить бумаги, привезенные от Лорис-Меликова. Известие о взрыве на набережной Екатерининского канала Валуев получил по дороге и, приказав остановиться кучеру Савве Рыгачову, вышел из саней и отправился к Зимнему пешком, пересекая Дворцовую площадь. В живых императора он не застал. Многие заподозрили, что промедлил намеренно, другие упрекнули в трусости. Когда Баранову передали реплику Валуева, он за словом в карман не полез и немедля ответил:
– Если граф заботится о благе Петербурга, то заверяю, что при мне никаких покушений более не состоится. Впрочем, за такими персонами, как он, террористы не охотятся. Они ведь из одного лагеря.
И тут же Баранов распорядился составить список лиц, утверждающих, что он занял место градоначальника по протекции. Между тем поведения он не изменил и едва ли не ежедневно посещал дом на Литейном, а при надобности и чаще, случалось, и три раза в сутки ездил, прихватывая ночное время. В один из таких зловещих визитов он перед докладом, в котором знакомил Константина Петровича с ходом следствия, настойчиво произнес:
– Я писал вам сразу после несчастья и просил держаться поосторожнее. Лучше бы выехать из города в Москву – там спокойнее – под предлогом строительных переделок. Если сие покажется особенно затруднительным, то рекомендую поселиться на весну и лето где-либо в отдаленном предместье, в коем легче устроить охрану. У меня есть верный человек, отставной жандармский унтер-офицер – упертый хохол – Дремлюженко Тарас. Хохлы в охране незаменимы. Расторопен, сметлив. Он все и организует, и курьерское сообщение наладит. Пошлите за ним: десятая улица Песков, дом восемь, квартира десять. И стоит недорого. Екатерине Александровне верным псом будет.
Константин Петрович поблагодарил и записал адрес. Фамилия малосимпатичная, но не она красит человека, а деяния.
– Специально для вас я велел перебелить собственноручные показания Рысакова, Перовской и Желябова. Аресты продолжаются, вчера схвачен техник, долго запирался – не называл имени. Вячеслав Константинович несколько дней сам опрашивал Дворжицкого, коего отстранили от разбирательства. Позвольте оставить вам протоколы для внимательного прочтения. На полях отчеркнуто показавшееся мне любопытным.
И Баранов, протянув бювар [38]38
Бювар– настольная папка, обычно с писчей и промокательной бумагой, конвертами, корреспонденцией и т. д.
[Закрыть], откланялся. В дверях он обернулся и, сложив ладонь к ладони у груди, повторил:
– Дремлюженко верный служака. Возьмите к себе, прошу вас, не пожалеете. А мне спокойней и за вас, и за Екатерину Александровну. Помоги вам Бог. Передайте глубочайшее почтение супруге.







